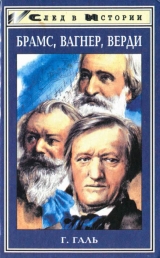
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 45 страниц)
Заметно, что критик осторожен и оставляет себе путь для отступления. Впрочем, несколько лет спустя – звезда Брамса взошла тем временем так высоко, что проглядеть ее было уже просто невозможно, – от сомнений и нерешительности Ганслика не осталось и следа. Одна из карикатур тех лет изображает Брамса в виде святого, восседающего на столпе (идея, возможно, подсказана Вагнером, насмешливо называвшим Брамса «святым Иоганнесом»), а у подножия – коротконогого, с постной миной Ганслика, размахивающего кадилом.
Брамс лучше всех знал слабости своего друга, который в воспоминаниях наивно признается, что музыка как таковая начинается для него с Гайдна и Моцарта. Человека, для которого Бах и Гендель были архаикой, а Палестрина[80]80
Палестрина Джованни Пьерлуиджи да (ок. 1525–1594) – итальянский композитор, глава римской полифонической школы.
[Закрыть], Лассо[81]81
Лассо Орландо (1532–1594) – франко-фламандский композитор, один из величайших мастеров полифонии так называемого строгого стиля XVI в., завершивший развитие полифонической нидерландской школы.
[Закрыть], Шютц[82]82
Шютц Генрих (1585–1672) – немецкий композитор и педагог, крупнейший представитель музыкального искусства Германии добаховского периода.
[Закрыть] вообще чем-то доисторическим, – такого человека Брамс не мог принимать всерьез как музыканта. В связи с одним из своих концертов с венской Певческой академией (апрель 1864 года) он сообщает Кларе: «Все же в нашем третьем концерте Рождественская оратория (части 1, 2, 4, 6-я) прошла замечательно. По крайней мере и я, и хор были довольны. Здешняя критика, однако, выносит произведения Баха с трудом. Ганслику, наверное, целых восемь дней пришлось терпеть муки, ибо через два дня после нас Гербек исполнил «Страсти по Иоанну». Однако он видит и его хорошие стороны и знает, что в лице Ганслика имеет верного друга. Когда Ганслик отмечал свое семидесятилетие, Брамс написал Кларе: «Я ничего не могу поделать, но мало к кому я испытываю такую искреннюю симпатию, как к нему. Неиссякаемая доброта, благожелательность, честность, неподдельная искренность и все остальное в том же духе, что я за ним знаю, – для меня это замечательные и весьма редкие качества. Сколько раз мне доводилось с радостью, даже с умилением убеждаться, что он именно таков. Он отменно знает свое дело, и я тем более обязан это признать, поскольку мы с ним смотрим в разные стороны. Но я и не жду от него ничего такого, на что он попросту не способен».
Бильрот, со своей стороны, тоже любит его, но с теми же оговорками. Иногда примитивность музыкальных вкусов Ганслика и поверхностность его эмоциональных реакций приводят его в отчаяние. После очередной попытки поиграть с ним в четыре руки (разумеется, сочинения Брамса) он пишет композитору: «Есть там одно место, мечтательно-отрешенное, которое для него – книга за семью печатями. Я уже не раз играл с Гансликом твои вещи. Но его жесткое туше, его школярская манера играть, не прочувствовав целого, приводит меня в совершенное отчаяние. Не припомню, чтобы его хоть что-нибудь при этом взволновало, зато его неспособность плавно сыграть стоящие рядом восьмые и триоли вызывает у него страшное, мучительное напряжение. Это было бы просто смешно, если бы не казалось мне абсолютно непостижимым, коль скоро речь идет о человеке в общем достаточно музыкальном. Кроме того, он обладает одним чисто женским свойством: он совершенно не умеет играть легато. Не будь он таким добрым малым и не старайся он честно разобраться в твоей манере, я бы на него просто разозлился. И потом, я вижу, как ему у нас нравится, и это опять-таки примиряет меня с ним…»
В отношениях между друзьями иногда возникали трения, тем более что с Брамсом их вообще трудно было избежать.
Однажды Бильрот, без всякого злого умысла, глубоко обидел Брамса, упустив из виду особую впечатлительность своего друга. Бильрот был не то чтобы собирателем – для этого ему не хватало истинной одержимости, – но гордым и трепетным обладателем некоторых бесценных музыкальных манускриптов. В его коллекции находились рукописи Шуберта, струнных квартетов Гайдна, симфонии соль минор Моцарта, и он, несомненно, с благоговением взирал на эти сокровища, которые после его смерти перешли в собственность Общества друзей музыки в Вене. «Вчера, – писал он Рейнталеру, – я купил рукописи шести квартетов Гайдна!.. Испытывал ли ты когда-нибудь такое ни с чем не сравнимое блаженство – просто оттого, что держишь в руках нечто подобное или тем более можешь назвать это своим?» Брамс подарил Бильроту рукопись обоих своих струнных квартетов (Ор.51), которые он ему посвятил, – честь, обрадовавшая ученого куда больше, чем все официальные отличия и награды. На письменном столе Бильрота стояла заключенная в рамку фотография маэстро – и в один прекрасный день этот маэстро обнаружил, что его портрет украшен вырезанным из рукописи квартетов титульным листом с написанным на нем посвящением. Мандычевский, почувствовавший непреднамеренный юмор ситуации, рассказывал, как Брамс, искренне взволнованный, явился к нему со словами: «Нет, вы подумайте, Бильрот разрезал мой квартет, представляете! И ведь должен был знать, как я его люблю, знает, что, будь на то его желание, я бы для него весь квартет еще раз переписал! И все же вырезал из него кусок!»[83]83
Gottlieb-Billroth Otto. Brahms u[nd] Billroth im Briefwechsel. Wien, 1935.
[Закрыть] Глубоко укоренившееся в нем представление, что в рукописи непосредственно заключена какая-то частица духа ее творца, заставляло его видеть в поступке друга акт вандализма – даже если речь шла «всего лишь» о его собственном произведении, и он долго еще не мог простить этого Бильроту.
Другой диссонанс в гармонии их дружеских отношений имел более серьезные последствия, поскольку омрачил последние годы жизни уже тяжело больного Бильрота, который так и не узнал, чем же он обидел друга, заметно отдалившегося он него. Бильрот имел обыкновение после исполнения произведений Брамса писать длинные письма Ганслику, в которых передавал свои впечатления в восторженной, экспансивной и очень живой манере. Брамс, знавший об этой переписке, попросил однажды Ганслика показать ему одно из этих писем, и Ганс лик тут же отослал ему с полдюжины посланий, которые нашел у себя на письменном столе. Несчастный, как он потом сам себя называл, описывая это событие, слишком поздно обнаружил, что среди них оказалось одно письмо, которое никак не следовало посылать: Бильрот высказывался в нем, в частности, по поводу свойственной порой Брамсу бестактности, приписывая ее, как и весьма схожую с ней бестактность Бетховена, «беспечности его воспитания». Брамс, гордый своим скромным происхождением и всей душой преданный памяти родителей, воспринял этот упрек как тягчайшее оскорбление. Вконец расстроенному Ганслику, который просил извинить его и ничего не говорить Бильроту, он отвечал: «Дорогой друг! Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Я, собственно, только заглянул в письмо Бильрота и, покачав головой, тут же сунул его обратно в конверт. Ты говоришь, я не должен обижаться на него. Ах, дорогой друг, для меня это не так-то просто. Я уже не раз и прежде сталкивался с тем, что даже старые знакомые и друзья принимают тебя не за того, кто ты есть (или – то есть на их взгляд – за кого себя выдаешь). Я хорошо помню, как прежде я в подобных случаях робко и обиженно замолкал; ныне же воспринимаю это совершенно спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Возможно, ты, как человек добрый и благожелательный, сочтешь, что я слишком строг или даже жесток; однако, рассуждая так, я, надеюсь, не слишком далек от мысли Гёте: блажен отъединившийся от мира без ненависти к нему».
Это была одна из многих причин, приведшая к нарастающей изоляции стареющего Брамса. Неудивительно, что им все чаще овладевали приступы внезапной агрессивности, и его друзьям приходилось привыкать к тому, что эти вспышки обрушивались именно на них, тем более что Брамс далеко не всегда отдавал себе отчет в своей грубости. Кальбек рассказывает об одном характерном случае, происшедшем в Ишле. Брамс как-то решил показать знакомым новые фортепианные сочинения. Едва он сел за инструмент, как в комнату робко постучал один из его преданнейших друзей, Виктор Мюллер фон Айхгольц[84]84
Мюллер фон Айхгольц Виктор – друг Брамса, живший в Вене. Вскоре после смерти композитора он основал музей Брамса в Гмундене (Австрия).
[Закрыть]. На громовое «войдите!» Мюллер появился в дверях, но, несмотря на все уговоры, упорно не соглашался хоть где-нибудь присесть. И тогда наконец Брамс потеряв терпение стукнул кулаком по столу и рявкнул: «Ну, так и нечего тут!..» – после чего Мюллер в испуге ретировался. А спустя некоторое время Брамс добродушно заявил: «Вообще-то этот Мюллер славный малый. Вот только перестал бы он без конца извиняться за то что вообще существует на свете! Мне сегодня стоило немалых усилий сдержаться и не нагрубить». Рихард Шпехт[85]85
Шпехт Рихард – автор монографии «Иоганнес Брамс» (1928).
[Закрыть] рассказывает о другом эпизоде, когда жертвой такой же вспышки раздражения стал уже сам Кальбек. Дело происходило в компании, собравшейся в доме Игцаца Брюлля[86]86
Брюлль Игнац (1846–1907) – австрийский пианист, педагог и композитор.
[Закрыть]. Кальбек, радикальный антивагнерианец, увлекшись, ораторствовал, оседлав своего конька, как вдруг Брамс резко оборвал его: «Ради всего святого, Кальбек, перестаньте болтать о вещах, в которых ничего не смыслите!» Кальбек замолчал и вышел из комнаты. Через несколько дней Шпехт встретил его на улице, и Кальбек стал горько жаловаться ему: «Подумайте, чего только не приходится мне терпеть! Вот вам расплата и за многолетний труд, и за верную дружбу, и за преданность – причем не на словах, а на деле! Но уж этого оскорбления я так не оставлю, я написал нашему уважаемому маэстро большое письмо, где высказал ему все, что думаю!» «Ну и что же ответил вам Брамс?» – осведомился Шпехт. Кальбек улыбнулся: «Увы, я ведь не отправил ему это письмо».
Верный поклонник Брамса, но как критик еще более темпераментный и импульсивный, нежели Ганслик, – а потому и еще чаще ошибавшийся в своих суждениях, – Кальбек частенько становился жертвой саркастических выпадов Брамса. Мандычевский был свидетелем эпизода, когда Брамс, показывая Кальбеку одно из примечаний Бетховена в только что выпущенном Мандычевским дополнительном томе полного собрания бетховенских сочинений, с явным удовольствием сказал: «Гляньте-ка, Кальбек, что тут пишет Бетховен. Замечательные слова! Вполне заменят любую из ваших статей». Речь шла о наброске одной из песен Бетховена («Жалоба»), которая вначале написана на две четверти, а затем с удвоением длительности каждой ноты – на четыре. При этом композитор замечает, что при удвоении, вероятно, возникнет желание замедлить темп. А потом, подумав, добавляет: «Но, возможно, противоположное тоже правильно». Кальбек упоминает эту фразу как одну из тех, что особенно любил цитировать Брамс; в частности, он использовал ее применительно к философским парадоксам Ницше. Но Кальбек забыл, при каких обстоятельствах он услышал ее впервые!
Единственный из друзей Брамса, кто уверял, что знал его исключительно как человека любезного и доброжелательного, – это Мандычевский. Но в данном случае дело было прежде всего в самом Мандычевском. Мягкий по натуре, он отличался еще какой-то врожденной деликатностью и исключительной трезвостью суждений, поэтому, казалось, уже одно его присутствие исключало всякую грубость. Брамс ценил остроту критического зрения своего друга, который был намного моложе его. В последние годы жизни композитора Мандычевский первым получал на просмотр его новые сочинения и своей дотошностью – даже в вещах второстепенных, таких, как уточнение текста в его «Немецких народных песнях» или пунктуация в «Четырех строгих напевах», – оказал ему весьма важные услуги, которые тот с благодарностью принял. Брамсу нравился и юмор Мандычевского, основанный на тех же скептических посылках, что и его собственный. Так, однажды Мандычевский послал Брамсу из Ишля телеграмму от некоего венского импресарио Гутмана, якобы случайно узнавшего о только что законченных кларнетном трио и кларнетном квинтете композитора. Телеграмма гласила: «Уважаемый маэстро, прошу вас осчастливить квартет Гельмесбергера и меня лично, предоставив нам Ваш девятый [вместо «новый». – Авт.][87]87
Игра слов, основанная на фонетическом сходстве форм винительного падежа порядкового числительного «neunten» (девятый) и прилагательного «пеиеп» (новый). – Прим. перев.
[Закрыть] кларнетный квинтет и трио. Глубоко преданный Вам Гутман». Слово «девятый» Брамс жирно подчеркнул, сопроводив восклицанием «Ура!». Но ниже добавил: «Я всегда считал преувеличением, что людской молве можно верить наполовину».
Человек очень серьезный, Брамс нередко бывал мрачен, удрученный своим одиночеством. Тем не менее он, как, вероятно, уже заметил читатель, хорошо понимал силу юмора как средства разрядки. Кальбек – завсегдатай холостяцкой компании, собиравшейся в старинном венском кабачке «У Гаузе», процветавшем в 70-е годы, – рассказывает немало забавных вещей об этом застольном сообществе. Оно называлось «Скамья насмешников», и среди его участников числилось несколько весьма популярных венских фельетонистов и юмористов, в частности Людвиг Шпейдель, Гуго Виттман, Даниэль Шпитцер. Брамс нередко бывал в этом кабачке. Среди шутливых «гаузеанских» стихов, которые сохранил для нас Кальбек (каждый участник компании обязан был выслушать подобную импровизацию в свой адрес), есть и стихотворение, посвященное Брамсу. Стихи эти стоит здесь привести, поскольку они затрагивают одно интересное обстоятельство:
У Гаузе Брамс пел, не спесив,
Добро, что видел, претворив
В небесные оркестры;
Но, так как дан маэстро нам,
Он стал вице-маэстро.
В те годы не вызывало сомнений, что если речь заходила о «маэстро», то имелся в виду Рихард Вагнер, и понятно, что это далеко не всегда доставляло удовольствие Брамсу. Есть, впрочем, причина поставить под сомнение аутентичность приведенной Кальбеком версии этих стихов. Дело в том, что они распевались на мотив песенки «Хозяйка с берегов Лана», до сих пор популярной среди студентов. А это значит, что без каких-нибудь забористых словечек этот куплет просто выпадал из стиля. Однако подлинник Кальбек, к сожалению, нам не оставил.
Одним из наиболее почтенных участников компании был исследователь творчества Бетховена Густав Ноттебом, чудаковатый нелюдим, которого Брамс особенно ценил, хотя и частенько над ним подтрунивал. Когда он узнал, что Ноттебом, тяжелобольной, лежит в Граце, то прервал свой летний отдых (вещь для него неслыханная), чтобы ухаживать за другом. Обычно Брамс чисто инстинктивно сторонился болезни и больных. И однако же через несколько месяцев он вновь приехал к умирающему Ноттебому, чтобы облегчить его последние дни.
Создатель «Немецкого реквиема» и одновременно завсегдатай «Скамьи насмешников»; человек, способный высказать вслух слово самое проникновенное – и откровенно грубое, мысль предельно циничную – и беспредельно глубокую, – таковы очевидные противоречия в его характере. И все же как личность Брамс абсолютно целостней в своих противоречиях. Могучий и узловатый, словно дуб, он, в сущности, только в одной из доступных ему форм самовыражения является нам как воплощенный синтез противоречивых качеств своей натуры – в своей музыке. Именно в ней мы находим и то, что он страшился открыто выказать в жизни: его подлинную человечность и бесконечную доброту.
Не менее щедрой была и его тайная благотворительность – когда до нее доходило дело. Непритязательный в потребностях, Брамс жил по-спартански скромно и просто и в свои последние годы, почувствовав себя чуть ли не на равных с Крезом, гораздо больше дарил, чем тратил на себя. Причем дарил по возможности тайно, дабы не обременять людей сознанием, будто они ему чем-то обязаны. И был неутомим в изобретении различных уловок, когда хотел помочь особенно щедро. Соизмеримы ли, однако, его благодеяния с его же бесцеремонностью, бестактностью, вспышками агрессивности? Можно задать и такой вопрос. Только, пожалуй, следует при этом учесть вот что: для недобрых дел у человека может быть множество причин, для благодеяний же только одна – его собственная доброта.
Женщины
Создатель проникновеннейших любовных песен, Брамс был пламенным поклонником прекрасного пола. Это, однако, странным образом противоречит той загадочности, которая отличает его поведение во всех известных нам случаях, так или иначе касающихся женщин.
Из всех загадок и противоречий, свойственных его натуре, это, пожалуй, центральное и наиболее существенное. Бессмысленно пытаться выяснить вещи, где четкие, однозначные умозаключения вообще невозможны, поскольку все обстоятельства, имеющие отношение к делу, нам не известны или двусмысленны и противоречивы. Однако вряд ли будет ошибкой рассматривать этот момент как одну из главных проблем человека, вынужденного оплачивать божественный взлет к вершинам духа, даруемый творческой личности, глухой изоляцией отшельника. Брамс был сильной натурой, его отличали неуемная жизнерадостность и живость чувств, и можно лишь гадать, каких мучений стоили ему одинокие дни и ночи, на которые его обрек добровольный обет безбрачия. В этом, как и во многом другом, он сходен со своим великим предшественником Бетховеном, причем в обоих случаях невозможно докопаться до причин возникшей ситуации (хотя у Бетховена с его заболеванием слухового аппарата и его ипохондрией в этом отношении все выглядит менее таинственно, чем у обращенного всем своим существом к реальному бытию, жизнелюбивого в самом элементарном значении этого слова Брамса).
Можно не сомневаться, что встреча с Кларой Шуман стала решающим событием его юности, имевшим трагические последствия. Однако и в данном случае известные факты носят в большей мере негативный, нежели позитивный характер. Важнейший из негативных фактов, впрочем, весьма многозначителен: в 1887 году оба они договорились вернуть друг другу свои письма, с тем чтобы их уничтожить. Клара записывает в своем дневнике: «16 октября здесь был проездом Брамс… У меня состоялся с ним разговор о том, чтобы вернуть ему его письма, что для меня очень тяжело… Ныне он отдал мне мои, и я должна по справедливости отдать ему его… Я хотела извлечь из его писем все, что касается его жизни как художника и как человека, ибо в них вырисовывается настолько всеобъемлющая картина его жизни и творчества, какую только может пожелать его биограф. Я хотела все это собрать и лишь потом передать ему письма для уничтожения, но он не согласился, и сегодня я со слезами на глазах вернула их ему». На самом деле в тот раз ей удалось все же мольбами и лестью выманить у него часть писем, которые благодаря этому сохранились. Все остальные Брамс утопил в Рейне. Клара же сожгла лишь часть своих писем. «К счастью, – пишет ее дочь Мария, – я застала ее в момент их уничтожения. И она уступила моим настоятельным просьбам сохранить эти письма для нас, ее детей». Тем не менее все, что дошло до нас из переписки обоих, подверглось цензуре Клары, причем все ее письма, написанные до 1858 года, были уничтожены.
В письмах Брамса ясно чувствуется, как нарастает его нежность к ней. Клара была для него не только красивой, обворожительной женщиной, но Кларой Вик, Кларой Шуман, то есть великолепным музыкантом и вызывавшей всеобщее вое-хищение артисткой, чей интерес к нему, чья похвала были для него высочайшими из всех возможных наград. «Господин Марксен, – пишет он ей (1854), – безмерно счастлив, видя, насколько лучше я стал играть, и за это я тоже должен благодарить Вас; лишь после того, как я услышал Вас, и даже более – сумел доставить Вам удовольствие своей игрой, – лишь после этого я в состоянии и другим высказать ею то, что я чувствую». И два года спустя: «Моя милая Клара, как хотелось бы мне суметь написать тебе, как нежно я тебя люблю, как хотелось бы сделать столько добра, столько приятного и хорошего, сколько я тебе желаю! Ты так бесконечно дорога мне, что я просто не в силах высказать это. Неустанно мог бы я говорить тебе – любимая и все прочее и ненасытно льстить тебе…» О его душевном состоянии в ту пору недвусмысленно говорит тот фрагмент одного из его писем Иоахиму, который при первоначальной публикации их переписки Андреасом Мозером (1908) был по каким-то причинам опущен и увидел свет лишь гораздо позже (публикация АртураХольде в «Musical Quarterly», Нью-Йорк, июль 1959 года). Брамс пишет Иоахиму (19 июля 1854 года): «Я думаю, что уважаю и почитаю ее все же ничуть не меньше, чем люблю, чем влюблен в нее. Нередко я едва удерживаюсь, чтобы просто не обнять ее и даже… – не знаю, мне представляется это столь естественным, что кажется, она бы не обиделась. Думаю, я никогда уже не смогу полюбить какую-нибудь девушку, о девушках я, во всяком случае, забыл, они лишь обещают показать нам те небесные выси, которые Клара показывает открыто». Совершенно очевидно, что так может говорить только молодой человек, который потерял голову от страсти.
Но вот умирает Роберт Шуман – и они расстаются. Расстаются после двух лет, проведенных поблизости друг от друга, в тесном, почти каждодневном общении. Причем об обстоятельствах этой разлуки не сохранилось никаких документальных свидетельств, позволяющих делать какие-либо определенные выводы. Со стороны разлука выглядит как обоюдное бегство; но что конкретно явилось его причиной – остается только гадать. Брамс возвращается в Гамбург, Клара переезжает в Берлин. Внешне их отношения не теряют прежней сердечности. Они часто видятся, переписываются. Абсолютно все свои новые сочинения Брамс незамедлительно показывает Кларе, как только они обретают более или менее законченный вид. Клара по-прежнему остается его доброй, заботливой советчицей (впоследствии, впрочем, их роли в этом отношении переменились), а Брамс навсегда остался для нее самым дорогим человеком на свете. Дочь Клары Евгения, вероятно, знала больше того, что она сочла возможным сообщить в своих воспоминаниях. В них, однако, содержится единственное дошедшее до нас свидетельство, прямо указывающее на характер их отношений; «Что означала для моей матери дружба с Брамсом в самую тяжелую пору ее жизни, я тогда не знала… Лишь много лет спустя после ее смерти я прочла в ее дневнике слова, звучавшие подобно завещанию нам, ее детям, – слова, обязывающие нас к бесконечной признательности тому, кто пожертвовал ей годы своей молодости… После того как заболел наш отец, им [Брамсом. – Перев.] овладело неизбывное чувство преданности нашей матери, которое определило все его существование и которому он не то чтобы пожертвовал – ибо он следовал глубочайшему велению сердца, – но посвятил многие годы своей жизни. И однако же сознание того, что ему уготован удел, требующий всего человека и несовместимый с исключающей все остальное преданной дружбой, – это сознание он изжить был не в состоянии. Понять это и немедленно попытаться найти выход – черта, соответствовавшая ярко выраженному в нем мужскому началу. То, что это потребовало также и насилия над собой, определялось как сущностью его натуры, так и, возможно, существом дела. Ясно, однако, что ему, дабы повернуть корабль своей жизни в ином направлении, пришлось выдержать тяжелую борьбу и что сознание того, что он в ту пору причинил боль моей матери, нередко еще угнетало его, и это – коль скоро данную несправедливость уже нельзя было исправить – выражалось в резкости его поведения. Так по крайней мере всегда думали мы, дети…»
У Брамса была его работа, было его честолюбие, его мечты. Какие бы бури ни бушевали в нем в ту пору или прежде, у него была его жизнь художника, лишь теперь по-настоящему начавшаяся, были новые впечатления, жестокие муки творчества. Трагической фигурой оказалась Клара, которой оставалось прожить еще добрую половину своей жизни и для которой пора радости и расцвета отныне миновала без возврата. За страшным событием, сделавшим ее вдовой, последовала роковая страсть, о которой мы можем сказать только, что речь идет о последнем пылком увлечении женщины, прожившей в ту пору чуть больше тридцати пяти лет. До конца своих дней она неустанно трудилась, оставаясь истинной жрицей своего искусства, но не ведала счастья ни как женщина, ни как мать, ибо смерть безжалостно уносила одного за другим ее детей. Самым значительным, самым прекрасным в ее невеселой жизни оказалось то, что ей довелось стать свидетельницей – притом деятельной, способной к глубокому художественному постижению – творческого пути двух великих музыкантов, пережитого ею вместе с ними от начала до конца.
Брамс доставлял ей немало хлопот, что видно из ее писем и дневников. Он нередко обижался на нее, он всегда был непредсказуем, мог вести себя холодно и оскорбительно и все же постоянно опекал ее, полный любви и нежной заботливости. Она в свою очередь изводила его мелкими придирками, упреками, недоверием и порой настолько раздражала, что он взрывался. Они мучили друг друга, как могут мучить только любящие, и все же не порывали друг с другом. Он часто бывал недоволен ее лихорадочной концертной деятельностью и не хотел понять, что эта деятельность составляла единственный смысл ее жизни – даже если она отговаривалась чисто практическими соображениями: «Дорогой Иоганнес, ты считаешь, что я даю слишком много концертов, из-за того, что иногда мне удается откладывать какие-то деньги. Но вспомни о моих заботах, о том, что мне нужно прокормить семерых детей, пятерых из них к тому же еще и воспитать; следующей зимой они вновь все соберутся дома…» И вслед за тем непроизвольно прорывается одно замечание, позволяющее заглянуть в душу этой несчастной женщины: «…И неужели же мне теперь совсем не нужно думать о своем будущем? Я ведь не знаю, а вдруг мне еще долго придется жить на свете?»
Брамс почти неизменно спрашивал ее мнения, когда собирался что-нибудь опубликовать. Это мнение он всегда высоко ценил, хотя и прекрасно знал пределы ее возможностей, и прежде всего те, что определялись проявлявшимися в ней иногда филистерскими предрассудками. Так, посылая ей свои новые песни, он просит: «Напиши мне, какие из них тебе понравились, а какие, возможно, и совсем не понравились. Особенно о последних; возможно, я прислушаюсь к тебе и скажу тебе спасибо. Но только не решай сразу, что вот это, мол, грубовато, прочти стихи хотя бы дважды, если они тебе не понравились, – например, «Девичье проклятие», которое, возможно, тебя испугает. Ты уж извини, но я как раз боюсь только за ругательства».
Для нее он всегда оставался кем-то вроде маленького мальчика. Она уже давно успокоилась и иногда даже уговаривает его: «Создай поскорее собственную семью. Женись в Вене на какой-нибудь состоятельной девушке (полагаю, найдется такая, которую ты сможешь еще и полюбить), и, глядишь, ты и сам повеселеешь; к тому же, избавясь от многих забот, ты познаешь также радости, каких до сих пор не знал, и полюбишь жизнь новой любовью. В конце концов, понятие земного счастья сводится именно к жизни своим домом; я хотела бы, чтобы ты создал себе такой дом, сейчас самое время для этого» (1867).
За долгие годы у них было немало тяжелых размолвок, и однажды Клара пожаловалась Кальбеку, что Брамс для нее по-прежнему столь же загадочен, столь же чужд, как и двадцать пять лет назад. И все же не было в его жизни никого, кому он был бы так глубоко предан. Смерть Клары прервала последнюю ниточку личных связей, еще соединявших с миром этого человека, и без того с каждым днем все более одинокого. Во он и пережил ее менее чем на год.
Истинной загадкой Брамса, как и молодого Гёте, является его постоянная готовность к бегству. Этот мотив возникает во всех его любовных историях, которые нам известны; только проявляется он в виде неуклонного снижения интенсивности чувств. И параллельно непрерывному diminuendo в сфере страсти нежной (следует еще раз подчеркнуть: мы можем судить здесь лишь о том, о чем доподлинно знаем) идет мощное crescendo в проявлении его жизненных сил как новатора и творца. Кульминации в проявлениях этой творческой витальности Брамс достигает на середине пятого десятка лет (об этом еще будет речь впереди). Только с этого момента его творчество уподобляется могучему, неудержимому потоку, который широко и вольно устремляется вперед, преодолев все теснины, пороги и перекаты в своих верховьях. Уже говорилось, что Брамс был и оставался поклонником мягкой женственности, легко воспламенявшимся, но, судя по всему, и быстро остывавшим. Спустя неполных два года после бегства от Клары возникла единственная в его жизни ситуация, когда он оказался чуть ли не у самого алтаря. Агата фон Зибольд, дочка геттингенского профессора, к тому же хорошенькая, сумела довести его до помолвки и обмена кольцами. Подобно всем другим, кем он впоследствии увлекался, Агата пела; хороший голос, как и «прекрасный человеческий образ» (одно из его любимых выражений), обладал для него, видимо, какой-то неодолимой притягательностью. Брамс в ту пору частенько наезжал в Геттинген, где его друг Гримм был музикдиректором, и его доверительные отношения с Агатой были уже настолько очевидны, что Клара, навестившая проездом своих геттингенских друзей, едва узнав об этой интимной дружбе (и, вероятно, горько обиженная), буквально сломя голову, ни с кем не попрощавшись, умчалась из города. Год спустя, впрочем, она уже лишь корит Брамса за его легкомыслие. «В Касселе мне выпали трудные дни, – пишет она ему, – бедняжка Агата и еще многое другое никак не выходили у меня из головы. Постоянно я видела перед собой эту бедную покинутую девочку и переживала вместе с ней все ее страдания. Ах, милый Иоганнес, не надо было допускать, чтобы дело зашло так далеко!»
В ту пору, видимо, таково же было мнение и многих других: история стала предметом обывательских пересудов. Гримм, по всей вероятности, попытался хоть как-то, в самой мягкой форме, воздействовать на друга; это привело лишь к тому, что тот расторгнул помолвку, причем самым бесцеремонным образом. То, что он пишет Агате, звучит – именно в силу выспренности в выражении чувств – на редкость неискренне и притом оскорбительно-эгоистично; в то же время нетрудно заметить, как между строк письма прорывается охвативший его панический страх: «Я люблю тебя! Я должен вновь увидеть тебя! Но я не могу носить оковы! Напиши мне, можно ли мне приехать, чтобы заключить тебя в объятия, целовать тебя, говорить тебе, как я тебя люблю!» Гримм, который, как геттингенский музикдиректор, буквально не знал, куда деваться от сплетен по этому поводу, был вконец рассержен, и ближайшим последствием этой истории стал некоторый разлад между друзьями, впрочем вскоре преодоленный.
Агата позднее счастливо вышла замуж. Брамс никогда больше не виделся с ней. Но он взял ее с собой в бессмертие: одно из наиболее значительных его произведений этого периода, струнный секстет соль минор (1864–1865), несет в себе, как девиз, ее имя, заключенное в побочной теме первой части, – в мотиве, составленном из музыкальных букв этого имени а – g—a – h—e (ля-соль-ля-си-ми). Много лет спустя об этом вспоминает первый интерпретатор секстета Иоахим – в письме (опять-таки из Геттингена), где он благодарит Брамса за его «Немецкие народные песни»: «Эти замечательные народные песни – твой подарок всем нам. И все же нигде больше они не могли бы подействовать на меня так, как здесь, в этом городе, что таит для меня столько прекрасных воспоминаний. Я частенько просматривал их и даже прорабатывал вместе с Агатой [он выписывает ее тему в нотах. —Авт.], которой я велел доставить экземпляр этого издания». А Йозеф Генсбахер, один из ближайших венских друзей Брамса, в период, когда он работал над секстетом, вспоминает одно его высказывание по поводу этого сочинения: «В нем я избавился от моей последней любви».








