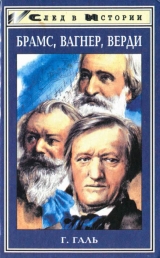
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)

Брамс, всегда настороженный, сдержанный критик своего знаменитого современника, нечаянно процитировал это завершение в одной из поздних фортепьянных пьес (Op. 119, № 2) – вот изящный, непроизвольный знак признания! На полях заметим для себя, что тождественность тональности, как всегда, ясно указывает на подсознательно закрепившийся в памяти образ:

И еще одно замечание на полях: радость, которую доставляет этот финал, портит одно-единственное обстоятельство – вокальный характер сцены драки невыносим. Кто с некоторым знанием дела заглянет в клавир, поймет почему:


Артикуляция и фразировка в вокальных партиях такова, как если бы это были инструменты, не голоса. Вагнеровский слух, безошибочный во всем, что касается оркестра, странным образом подводит его, когда речь заходит о человеческих голосах: тонкое чувство выразительной декламации сольного пения изменяет ему в ансамблях, где Вагнер поддается искушению требовать от голосов вещи, которые им противопоказаны. Встречаются хормейстеры оперы, которые хвастаются тем, что их хор может исполнять сцену драки без сопровождения! В репетиционном зале – да! Но не на сцене, где все обращается в беспорядочный крик. Хорошо еще, когда кричат в такт, хотя все равно некрасиво. Можно возразить: откуда быть красоте в сцене драки? Но остается вопрос: заслуживает ли этот шум и гам бесконечного труда, какой приходится на него положить?
К счастью, Вагнер умел писать иначе и не раз доказал это в тех же «Мейстерзингерах». Самое поразительное из всех его теоретических заблуждений – это отказ от ансамблей, прекраснейшей возможности оперного стиля. В «Кольце нибелунга», в «Тристане» Вагнер, за малым исключением, придерживался того принципа, который был метко определен Гансликом – «петь гуськом». В «Мейстерзингерах» Вагнер позабыл о нем. Конечно, он не пошел так далеко, чтобы сцена Евы и Вальтера или Сакса и Евы превратилась в простой оперный дуэт. Но когда теплота чувства побеждает – сцена крещения новорожденной песни Вальтера, – Вагнер способен составить квинтет из пяти участников – вот эмоциональная кульминация всего произведения, соответствующая внешней кульминации на праздничном лугу она словно ореол окружает всю оперу. Иной раз, слушая Вагнера, теряешь терпение: когда он слишком уж многословен. Зато в преддверии волнующих событий чувство выражается сосредоточенно, музыка кристаллизуется и дает неповторимый, несравненный склад. И коль скоро автор «Мейстерзингеров» делает типично оперные выводы из типично оперной ситуации, с ним даже случается вот что – он прибегает к такой форме, которая со времен Россини встречалась в любой итальянской опере, к такой, в которую легче всего отливается оперный ансамбль. Такая форма на деле создана Россини, она органически вытекает из его стиля, где мелодия – единственное, о чем вообще идет речь. Ансамбль начинается так, как будто это ария: сольный голос исполняет широкую певучую мелодию; в среднем разделе к нему один за другим присоединяются, чуть контрастируя с ним, остальные голоса, внутреннее волнение нарастает и подводит к первоначальной мелодии, которая выразительно поддерживается всем ансамблем и достигает теперь кульминации. Нет менее замысловатой идеи формы, но если мелодия и голоса красивы, она завораживает – вот квинтэссенция того, что может предложить итальянская опера. Вагнер без смущения пользуется такой формой здесь, и это свидетельствует о его непредвзятости – когда нужно! А что касается мелодического дара, Вагнер, когда душа его захвачена, обойдет любого…
Между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, в период создания «Мейстерзингеров», Вагнер, как почувствовал он сам, достиг вершины творчества. В шестьдесят лет он завершил «Кольцо», «колоссальное творение», как назвал он его сам. В то же время он сознавал, что его силы неисчерпаемы; он чувствовал себя избранником. Тогда он писал Пузинелли: «Что касается моего здоровья, я – особенно знатокам дела – представляюсь экземпляром особой человеческой породы, какому предстоит долгая творческая жизнь… Мне требуется много времени – ведь все, что я ни пишу, является в превосходной степени». А издателю Шотту Вагнер пишет: «Судьба – об этом можно говорить с уверенностью – уготовала мне крепкое здоровье и преклонный возраст, с тем чтобы один человек смог добиться того, на что в Германии потребны две человеческие жизни». Вагнер наверняка оправдал бы приговор судьбы, если бы не его последняя фантастическая авантюра – Байрейт, стоивший ему здоровья. Партитура «Парсифаля» показывает нам, что произошло с Вагнером в эти годы. «Парсифаль» – осенний пейзаж, с деревьев облетели листья, выпал иней, солнце скрылось за облаками. Эта музыка полна достоинства – отмечена подлинной взволнованностью, бескомпромиссной суровостью стиля, мудрым распределением красок. Но эта музыка создана утомленным человеком, которому недостает того, что всегда составляло магию вагнеровской музыки, – недостает вулканической фантазии. Священный Грааль – он в «Парсифале» лишь туманный образ без ясных очертаний в отличие от того Грааля, который был символом Лоэнгрина… Быть может, король Людвиг руководствовался инстинктивным ощущением подобного свойства, когда пожелал сравнить с «Парсифалем» вступление к «Лоэнгрину», а Вагнер почувствовал себя задетым – быть может, этим и объясняется недовольство, с которым он прореагировал на каприз короля. В «Парсифале» все как бы взято из вторых рук, правда из рук большого мастера. Когда во вступлении полный оркестр исполняет тему причастия, сначала звучавшую одноголосно, гармония – сказочна, звучание оркестра неземное. И только недостает самого нерва, благодатного вдохновения. И нет его, за исключением нескольких более оживленных тактов в миг появления Парсифаля, до самого конца бесконечно длинного первого действия, где две трети времени уходят на неугомонную болтовню Гурнеманца, который должен вынести на себе все бремя экспозиции. А финал первого действия – вновь словно величественный собор; правда, воздействие финала зависит по преимуществу от распределения обширных спокойных плоскостей конструкции.
По контрасту со статичным первым действием, которое почти целиком занято экспозицией, второе действие – это опять настоящая опера, где Вагнер проявляет безошибочное чутье драматурга. К сожалению, и здесь наиболее важная сцена – та, в которой Кундри пытается соблазнить Парсифаля, – чуть подморожена. Драматург опять вмешался в дела оперного композитора и круто подвел его: до сих пор мы ничего не знали о личных обстоятельствах жизни Парсифаля, а потому Кундри обязана просветить нас. Вот она, словно старая тетка, и ведет рассказ о его происхождении, о его детстве – в музыке начинаются хлопоты с длиннотами, а в результате Парсифаля так и не удается соблазнить… Музыкальная кульминация этого действия – сцена с девами-цветами, эпизод поразительной свежести, материал которой, видимо, принадлежит более раннему этапу творчества Вагнера. Это же нужно сказать и о благолепной сцене чуда святой пятницы в третьем действии. К этому действию относится и самая значительная часть всего произведения – большой заключительный апофеоз, где внушает уважение прежде всего его резкий контраст со сценой в том же храме святого Грааля в первом действии. Но замедленный пульс этой музыки мешает полностью отдаться ей. Эта музыка означает конец, прощание, это памятник абсолютной художественной цельности художественных намерений. Универсальное произведение искусства превратилось здесь в мистерию; Вагнер хотел, чтобы «Парсифаль» исполнялся только в Байрейте, и хорошо понимал, почему ему так хочется этого.
Когда в 1913 году истек срок, определенный авторским правом, все оперные театры стали ставить «Парсифаля», и воспрепятствовать этому не было никакой возможности. Однако «Парсифаль» так и не стал органической частью репертуара, его исполняют редко, его чтят, но вряд ли любят.
Опера – вечна
История произнесла свой приговор Вагнеру-реформатору. Он сумел сделаться папой римским в музыкальном мире, но не сумел основать свою церковь. Здание его теории, не менее радикальной, чем 95 тезисов Мартина Лютера[187]187
31 октября 1517 г. Мартин Лютер (1483–1546) прибил на двери дворцовой церкви г. Виттенберга состоявшую из 95 тезисов прокламацию против злоупотреблений церковной курии, торговли индульгенциями и догматов католической церкви. Этим было положено начало движению Реформации.
[Закрыть], – это исторический курьез, не более того. Самое парадоксальное, что, вознамерившись уничтожить оперу, Вагнер создал для оперных театров наиболее репертуарные произведения. Лучше, чем кто-либо, он позаботился о продлении жизни оперного жанра. Ему самому никак нельзя было не заметить такого пикантного обстоятельства. И мы уже говорили, что оно вызвало в нем весьма противоречивые чувства. Когда Вагнер, по его словам, «поставлял» театру свое произведение, он чувствовал себя униженным и, получив за него деньги, старался поскорее промотать их. Когда же его произведение пользовалось успехом «в миру», Вагнера это все же радовало – невольно. Вагнер справедливо упрекал обычную оперу в рутине – режиссерской и музыкальной. Он героически боролся с рутиной уже в Дрездене. Когда он сам ставил в театре свои вещи, театрам нередко приходилось весьма туго. После постановки «Лоэнгрина» Бюловом Вагнер говорил ему: «Единственный раз в моей жизни мне удалось разучить свое произведение в полном соответствии со своими намерениями, по крайней мере в том, что касается его архитектоники, ритма, формы. И люди с подлинным чувством и разумением, присутствовавшие на этих спектаклях, удивлялись лишь одному – тому, что публике было совершенно все равно, исполняется ли «Лоэнгрин» так или совсем иначе. Позже оперу стали представлять по заведенному исстари правилу, а впечатления у публики оставались все теми же». И Вагнер в отчаянии делает такой вывод: «Все Ваши капельмейстеры, от «а» до «я», не могут дирижировать моими операми – ведь в лучшем случае они только хорошие ремесленники, они не знают и не понимают театра и усвоили разве что дурные манеры оперных певцов. Тут бы взяться за дело кому-нибудь другому! Я же всем этим сыт по горло и пальцем не пошевельну ради театра. Коль скоро театрами управляют столь тупо, нам тут делать нечего».
А потом, случается, его душу бередит тот факт, что и совсем «рутинное» исполнение его произведения, оказывается, выявляет, несмотря ни на что, сущность вещи – значит, есть в сочинении мощь, которая при любых обстоятельствах заставит считаться с собой. «Позвольте сообщить Вам в нескольких словах, что я имел счастье слушать вчера «Лоэнгрина» – впервые в жизни, причем в таком исполнении, которое глубоко взволновало и обрадовало меня. К тому же венская публика встречала меня так, что, рассказывают, до сих пор ни один композитор не удостаивался здесь подобных почестей. Я был потрясен тем, что такой энтузиазм и такие знаки благоволения вообще возможны. Все, все, что может вознаградить художника за пережитые лишения, за гадкие унижения, – все это выпало мне на долю, мое сердце теперь утешено, и в нем воцарился мир». Или после постановки «Тристана» в Мюнхене Вагнер пишет: «Немецкая публика – вот кто позволил мне выдерживать самые коварные нападки моих врагов, и мюнхенской публике я тоже могу спокойно доверять». Не без удовольствия Вагнер сообщает об успехе мюнхенской постановки «Золота Рейна», осуществленной в отсутствие Вагнера, против его воли, по повелению короля: «Странным образом все неприятности, которые пришлось мне перенести по вине Мюнхена, не могли стереть окончательного впечатления, произведенного на меня известием о том, что даже самое нелепое и, во всяком случае, совершенно бездушное и рутинное исполнение сложнейшей части всего цикла, «Золота Рейна», не только не могло погубить само произведение, но, напротив, подтвердило силу его воздействия на широкую публику, так что теперь уже не один театр подумывает о том, чтобы включить его в свой репертуар».
Для всех этих противоречий, разнящихся впечатлений, чувств и высказываний есть одно объяснение – волшебство чар театра. Эти чары породили оперу, самый объемный, крупный жанр искусства, они давали ей жизнь на протяжении веков, только такая мощь и могла противостоять ожесточенным нападкам со стороны Вагнера. Опера – это нечто уникальное в силу того, что в ней слились воедино несовместимые, казалось бы, стороны, причины, предпосылки. Но она живет! И сегодня не может быть сомнений в том, что произведения Вагнера существуют не как музыкальные драмы, но как оперы. Он начинал как оперный композитор, свои первые театральные познания он приобрел как оперный композитор. Чувство оперного эффекта было у него в крови. Однако, когда Вагнер занялся эстетическими рассуждениями, философией искусства и в его душе сложилась идея универсального произведения искусства, между его далеко идущей теорией и его же неискоренимым инстинктом музыканта возникло противоречие, которое так никогда и не ослабевало. Оперный композитор восставал против музыкальной драмы. Хочется сказать: художник боролся с педантом.
Быть своим собственным либреттистом, притом выдающимся, даровитым поэтом, столь великое преимущество, что Вагнер стал драматурга ставить выше музыканта, а тогда уже вполне логично заключил, что он – единственный, кто призван разрешить проблему. Иначе он мог бы заметить, что идеал музыкальной драмы уже давно достигнут! Правда, достигнут лишь в исключительных произведениях, создававшихся под счастливой звездой. Лишь человек, одержимый манией величия, мог пройти мимо шедевров Моцарта, мимо «Фиделио» Бетховена, «Орфея» Глюка, «Волшебного стрелка» Вебера, «Севильского цирюльника» Россини, снисходительно признавая за ними известные достоинства и подчеркивая фундаментальные пороки, будто бы присущие самому жанру.
Опера исторически постоянно колеблется между двумя полюсами, стремясь то к идеалу драмы, то к идеалу музыки, и это учит нас тому, что проблему эту не решить теоретически. Вагнер – прямолинейный теоретик как раз и помог нам понять это. Жизнеспособная опера всегда обязана своим существованием соединению сносного либретто, вдохновенной музыки и такому соотношению этих двух компонентов, при котором впечатление от сцены и воздействие музыки приведены в состояние равновесия. Однако общее впечатление более всего зависит от вокала. В драме нас занимает живой человек – любящий, страдающий, смеющийся и плачущий, трагический, его судьба. В опере же нас трогает поющий человек, и чем более совершенно характер преобразован в поющий голос, чем прекраснее этот голос, тем сильнее общее впечатление. С незапамятных времен красота голоса привлекала в оперу слушателей, и по мере развития оперного жанра развивалось итальянское вокальное искусство – пока не стало тем, чем оно было, чем оставалось с конца XVII века. Опера и бельканто – это одно и то же. Вот одно из самых замечательных явлений, созданных эпохой Возрождения. Французская опера непосредственно обязана своим появлением примеру итальянской, хотя впоследствии развивалась по-иному, своеобразно. Для немецкой оперы, как и для всей немецкой духовной жизни, тормозом были мучительные последствия Тридцатилетней войны, и она возникла значительно позднее: собственно, лишь «Волшебная флейта» знаменовала момент, когда немецкая опера вступила в права развитого художественного жанра. Как и само Возрождение, опера черпала свои лучшие силы в интернациональных связях. Итальянец Люлли стал основателем французской оперы, немец Гендель был величайшим мастером итальянской оперы эпохи барокко; Моцарт как оперный композитор был итальянцем по крайней мере наполовину, а Бетховен в своем «Фиделио», либретто которого восходит к французскому подлиннику, испытал со стороны стиля и техники влияние французских опер итальянца Керубини. Фанатический национализм именно поэтому и игнорирует фундаментальные факты истории оперы. Вагнер осуждает оперу – не немецкий жанр, но с тем же успехом можно было бы осуждать полифонию Баха, восходящую к нидерландским мастерам, или танцевальные формы баховских сюит, заимствованные из Франции, или симфонии Бетховена, восходящие к итальянским корням.
Агрессивный комплекс неполноценности впервые появился, говоря о немецких композиторах, отнюдь не у Вагнера. Уже Вебер, противившийся победному шествию Россини по сценам немецких оперных театров, не был свободен от него. После безвременной смерти Вебера в 1826 году его некому было заменить. Не было одаренной личности, которая повела бы за собой всех. Самые авторитетные композиторы 1830-х годов, Шпор и Маршнер, давно забыты (если не говорить о редких попытках возобновления их опер). Зато Лортцинг, куда менее претенциозный музыкант, утвердился на сцене благодаря своему юмору и природному дарованию, а прежде всего благодаря безошибочному чувству сцены; это тоже в своем роде композитор-поэт, он в этом отношении похож на Вагнера. Характерно, что, разбирая по косточкам оперный жанр, Вагнер ни словом не упомянул о Лортцинге, хотя не мог не знать его произведений: Лортцинг работал в Лейпциге в годы юности Вагнера. Несомненно, Вагнер в одной из опер Лортцинга даже почерпнул для себя материал. Эта опера – «Ганс Сакс». Однако безалаберность Лортцинга-литератора столь велика, что Вагнер не счел возможным для себя хотя бы упомянуть его. И, разумеется, хороший поэтический уровень оперного произведения тоже достоинство наряду с прочими качествами, и как раз большая заслуга Вагнера заключается в том, что он разбудил совесть либреттистов. Однако, несмотря на упорные, продолжавшиеся всю жизнь старания Вагнера, в оперном репертуаре утвердились многие произведения, поэтические достоинства которых ниже всякой критики, и этот факт опровергает мнение, будто качеству либретто следует придавать решающее значение. Мейербер, правда, низвергнут, однако для этого вовсе не требовалось усилий Вагнера.
Склонность к внешнему эффекту из всех грехов Мейербера была самым пустячным. Это ведь старинная привилегия оперы. Опера возникла как дорогостоящая затея князей-меценатов и никогда не обходилась без декораций, театральных машин, пышных костюмов. Склонность к роскоши опера сохранила и в Париже, где ей покровительствовал сам король. Спонтини и Мейербер любили помпу, и в этом они – традиционалисты. Сам Вагнер не пренебрегал подобными средствами воздействия, притом не только в «Риенци», где он безоговорочно следует французским образцам, но и вообще во всех своих произведениях, за единственным исключением – «Тристана». «Тристан» – это действительно «драма души», как называет его Вагнер. Появление корабля-призрака в «Летучем голландце», грот Венеры и охотничья компания с лаем собак и с двенадцатью рогами в «Тангейзере», рыцарь-лебедь, поединок и шествие в Мюнстер в «Лоэнгрине» – все это эффектные сцены большой оперы. В «Кольце нибелунга» все тоже настроено на старый лад: начиная с фантастической подводной сцены, Нибельгейма, кования молнии и радуги-моста в «Золоте Рейна» до разрушения зала Гибихунгов и пожара Валгаллы в заключительной сцене «Гибели богов». Чем лучше адская пасть в «Роберте-дьяволе» Мейербера, восход солнца в его «Пророке», кораблекрушение в «Африканке»? Мейербер поступал не хуже Вагнера – как и Вагнер, он помещал в центре сюжетного развития оперы наиболее впечатляющие сцены. В том-то и заключается сомнительность любой оперы, что сцена, картина должна заменить все непонятное; чтобы понимать, мы должны видеть. Картинность, пластичность – это существенный элемент оперной драматургии, все устремлено к картинному, эффектному образу, и Вагнер всегда следовал этому принципу, хотя, теоретизируя, умалчивал о нем. Когда он ставил в Байрейте «Кольцо нибелунга», машинист сцены являлся для него лицом не менее важным, чем дирижер, и Вагнер не останавливался ни перед трудами, ни перед расходами, чтобы получить все самое лучшее для оформления сцены. Не всегда успешно! Кусок заказанного в Лондоне дракона для «Зигфрида» – а дракона этого надо было перевозить по частям – по недосмотру отправился вместо Байрейта в Бейрут и опоздал на несколько месяцев. Итак, Вагнер всегда чрезвычайно серьезно относился к реквизиту и настоял на том, чтобы дорогостоящее оформление для дрезденской постановки «Тангейзера» было выписано прямо из Парижа. Он-то очень хорошо понимал, что успех постановки зависит от таких внешних вещей. Но, помимо этого, внешние вещи были составной частью однозначно определенного представления о том, каким должно быть его произведение не только в музыкальном, но и в зрительном плане: режиссерские замечания Вагнера, краткие, благоразумно ограниченные самым существенным, таковы, что режиссерам стоит считаться с ними – ведь дирижеры внимательно относятся к нотам и динамическим обозначениям Вагнера.
И само собой разумеется, певцу следует принимать во внимание как то, так и другое. Странным образом именно вагнеровская традиция, так называемый «байрейтский стиль», воспитывал у певцов манеры, которые совсем не соответствуют тому, что задумывал композитор, когда сочинял свою музыку. Листая клавир оперы Вагнера, тотчас же замечаешь дуги, которые плавно обнимают широкие фразы в вокальных партиях, однако вагнеровские певцы избегают легато и делают все наоборот. Композитор недвусмысленно подчеркнул разницу между драматической декламацией и плавным лирическим пением, и в «Кольце», и в «Мейстерзингерах», да уже и в «Ло-энгрине». Работая над «Лоэнгрином», Вагнер впервые осознал это различие. Впрочем, мы не знаем, как поступал он сам при исполнении опер. Он был одержим идеей абсолютно ясной дикции и, по-видимому, тоже несет ответственность за дурные манеры, компрометирующие его музыку. Если верить Камиллу Сен-Сансу, стойкому вагнерианцу со времен парижской премьеры «Тангейзера», то на первом байрейтском фестивале 1876 года никто отнюдь не старался удивить красотой пения. Сен-Санс добавляет к своему рассказу: «Певцов, которые заслуживали бы этого имени, редко встречаешь в Германии; большинство исполнителей «Кольца» кричат, а не поют». С тех пор методика обучения пению усовершенствовалась, но вагнеровского певца с хорошим легато и теперь редко встретишь. Нужна вокальная культура, безукоризненное владение дыханием и твердое намерение ни при каких обстоятельствах не форсировать звук – как бы ни бушевал оркестр. Из многих высказываний Вагнера нам известно, что красота продолжала оставаться его конечной целью. И точно так же хорошо известно, что очень часто он вынужден был довольствоваться меньшим, по его мнению, злом – ясной дикцией при не очень красивом звучании голоса.
Правда, Вагнер никогда не соглашался с тем, что источник беды есть он сам. Через все его сочинения проходит постоянный мотив – требование выразительной, точной вокальной интонации. Такой интонации он не находит у Моцарта, у Бетховена, у Вебера, объясняя это тем, что тогда еще не был обретен настоящий немецкий вокальный стиль. Он и на этот раз ошибся. Уж не говоря о том, что настоящий немецкий вокальный стиль существовал с XVII века, среди более близких к нему по времени композиторов его намного обогнал Шуберт. Правда, вагнеровский вокальный стиль преследует совершенно иные цели. Он требует драматического пафоса, чуждого Шуберту, а с другой стороны, в отличие от Шуберта Вагнер не был столь неистощим в сочинении выразительных, певучих, лирически-плавных мелодий. Когда Вагнер следовал традиционному стилю и нуждался в лирическом кантабиле – в «Риенци» и в некоторых частях «Летучего голландца» (партии Даланда, Эрика), – его находки взяты из вторых рук. Куда ближе была ему неистовая декламация Голландца, исполненный страстью экстаз Сенты. И в целом оркестровая фантазия Вагнера первичнее, изначальнее, своеобразнее вокальной – все развитие его стиля зависит от этого обстоятельства. Показывая свои произведения друзьям, Вагнер охотно пел их. Лист, Бюлов или Таузиг садились за рояль, и свидетели таких показов в один голос восхищались бесподобной живостью и проникновенностью его исполнения. Вагнер обладал высокоразвитым чувством вокальной артикуляции, однако испытывал потребность прежде всего в отчетливой, осмысленной, внятной декламации.
Вокальная декламация – водораздел между оперой и музыкальной драмой. В опере декламация ограничивается речитативными партиями, «парландо», когда оркестр только ставит «знаки препинания». В моменты возбуждения такое «парландо» иной раз обретает известный драматизм. Вагнер же обычно предоставляет главную роль оркестру, благодаря чему сфера действия декламационного стиля необычайно расширилась. Правда, как ни стремился Вагнер в первую очередь к ясности произношения, отчетливая дикция остается лишь добрым пожеланием. При этом ясно, что если вокалист ограничивается декламационным стилем, его фантазия живет в спартанских условиях; дело кончается тем, что он скандирует стихи, а не поет. Но и тут существуют различия: партии Эрды в «Золоте Рейна», Зигмунда («Ein Schwert verhiefimir der Voter»), Брунгильды в «Валькирии» («War es so schmahlich») – вот подлинные высокие образцы декламационного пения. Вообще же Вагнер часто приносил музыку в жертву драматическому воздействию. Однако этому решительно противилось его собственное здоровое чутье оперного композитора. Ощущение тонко подсказывало ему, где в драматическом действии следует поместить лирический оазис. Вагнер следовал своему чутью и находил момент для «вставки» даже в самых драматических ситуациях – таковы песни Зигфрида, кующего меч, рассказ Вальтера Штольцинга в первом, песня Ганса Сакса во втором действии «Мейстерзингеров». Но не боится Вагнер и чистой лирики – вроде весенней песни Зигмунда из первого действия «Валькирии», монолога Сакса о сирени, уже упоминавшегося квинтета из третьего действия «Мейстерзингеров». А невероятно пространному любовному диалогу Тристана и Изольды ничего не остается, как превратиться в дуэт.
Правда, этот дуэт не слишком радует (если отвлечься от чисто лирической начальной партии): причина в том, что, как уже говорилось, вагнеровское ощущение вокала уступает его чувству оркестрового звучания. От этого нередко происходят довольно забавные вещи. Дуэт Тристана и Изольды достигает точки кипения, и тут возникают нелепо безобразные интервалы. Композитор, пишущий для голосов, знает, что вокальные интервалы не сливаются в один аккорд с оркестровыми инструментами, а, так сказать, звучат голо, и вот, когда у Вагнера между двумя голосами постоянно образуется интервал септимы, не помогает уже и густота гармонии – певцы поют неуверенно, и септимы звучат совсем невразумительно.

Вообще, вагнеровская склонность доводить голоса певцов до пароксизма представляет собой большую опасность: есть ведь такая акустическая точка насыщения, после которой пение перестает быть пением. Это и случается с Тристаном и Изольдой, с Зигфридом и Брунгильдой – в последнем действии «Зигфрида»: герой и полубогиня, любовная пара сверхчеловеческих масштабов, доводят друг друга до эксцесса – вместо величия рождается гротеск. Разве все это действительно необходимо? Наверное, нет. Однако нельзя безнаказанно переносить центр тяжести в оркестр – у певца появляется такое чувство, будто на него обрушивается целый океан звуков, а он должен изо всех сил сопротивляться им, чтобы не стряслась беда. Никто не понимал ситуации лучше Вагнера! Анджело Нейман, который силами своего оперного ансамбля впервые исполнил «Кольцо» в Берлине весной 1881 года, приводит слова Вагнера из его речи, обращенной к оркестрантам: «Господа, прошу вас, не относитесь к fortissimo слишком серьезно; где только возможно, исполняйте fortissimo как mezzoforte, a piano – pianissimo. Подумайте о том, что вас в яме так много, а наверху только одно-единственное человеческое горло». Каждый вагнеровский дирижер должен твердо запомнить эти слова.
Большая беда «оркестровой» оперы состоит также и в том, что в ней искажена перспектива: наше внимание сосредоточено на сценическом действии, а потому фигура человека на сцене должна находиться в центре музыки, иначе она перестанет быть живым, реальным явлением. Вагнер, будучи настоящим оперным композитором, не всегда нарушает это правило и, даже перенося центр тяжести в оркестр, умело придает голосу необходимую плавность и последовательность звучания. Классический пример – сцена смерти Изольды. Голос противостоит симфоническому буйству оркестра, словно парящая в небесах душа, если выразиться специальным термином – как контрапункт или побочный голос. Неприятно признаваться в том, что этот эпизод обычно исполняют как концертную пьесу и человеческий голос, стало быть оказывается в ней чем-то лишним.
Чтобы понять, в чем истина, не остается ничего иного, как обратиться к классикам оперы. Когда мы думаем об опере Моцарта, нам первым делом приходят на ум живые, характерные персонажи – Фигаро и Сусанна, Дон Жуан и Лепорелло, Тамино, Памина, Зарастро, Папагено, даже маленькая Барбарина из «Фигаро», тоже вполне сложившаяся личность со своим характером. В либретто все эти персонажи лишь жалкие наброски, эскизы, клише. Но музыка вдохнула в них жизнь. Каждый оперный композитор во вторую очередь все равно бывает поэтом: он создает свой шедевр на текст, главная задача которого состоит в том, чтобы пробудить его вдохновение. Это-то и удавалось Да Понте[188]188
Понте Лоренцо да (1749–1838) – итальянский либреттист, автор текста опер Моцарта «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все».
[Закрыть] и Шиканедеру[189]189
Шикане дер Эмануэль (1751–1812) – австрийский актер, драматург, либреттист, основатель венского «Театер ан дер Вин», автор либретто «Волшебной флейты» Моцарта.
[Закрыть]. Кроме того, их либретто – это по-настоящему сценичные вещи. Однако текст бетховенского «Фиделио» поначалу не был даже и сценичным, потребовались радикальные переделки, чтобы «Леонора» 1805 года превратилась в «Фиделио» 1814 года. Но настоящим поэтом был композитор: это он создал Леонору, Флорестана, Рокко, Пизарро – живые характеры, принадлежащие к золотому фонду нашей фантазии. Эти характеры и живут лишь в музыке, которая окружает их своим ореолом. Они живут в музыке, которую поют. Думая о Флорестане, Леоноре или о Донне Анне, Царице Ночи, Папагено, мы слышим их пение – их душа заключена в пении. Таков Моцарт, таков и Верди – душа его оперных созданий заключена в мелодии, и задача драматической характеристики возлагается им на мелодию. Именно вокальная мелодия создает прямой контакт между сценой и слушателем – неоценимое преимущество, которым лишь очень редко пользуются вагнеровские персонажи. Они пользуются им в «Мейстерзингерах», но лишь изредка в «Тристане» и «Кольце нибелунга». За Вотана говорит торжественный мотив Валгаллы, за Логе – беспокойные языки пламени; думая о Зигфриде, мы слышим радостный призыв его рога:

Но когда в «Гибели богов» этот призыв рога как-то раздувается, выступает как мотив героя, внезапно ставшего взрослым, то наше чувство противится искажению незамысловатого, беззаботного персонажа, своеобразного человека природы, – и, к сожалению, мы правы в своем недоверии, потому что раздувшийся герой падает жертвой первой же неловкой интриги.








