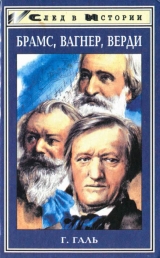
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 45 страниц)
В самой жизни Вагнер страдал от того же порока – от многоговорения, от задиристости. Должно быть, заходил он в этом очень далеко, коль скоро ему приходится приносить свои извинения Матильде Везендонк. Поводом (что тоже показательно) послужили нападки Готфрида Земпера на нестерпимую серьезность Вагнера. «Вспоминаете последний вечер, когда в гостях был Земпер? Я вдруг потерял покой и обидел собеседника нарочито резким обвинением. Слово вылетело, и я внутренне сейчас же остыл и стал думать лишь о том, как бы восстановить мир и должный тон беседы, потому что необходимость этого я понимал. Но в то же время известное чувство подсказывало мне, что невозможно просто замолчать, а нужно постепенно и сознательно перевести разговор в другое русло. Я помню, что, решительно выражая свое мнение, я тем не менее уже вел разговор с известным сознанием художественной формы, и он, несомненно, завершился бы тем, что мы поняли бы друг друга и успокоились… Но, как мне кажется, даже Вы в какой-то момент пришли в замешательство, опасаясь того, что мои непрестанные громкие речи объясняются сильной взволнованностью, и все же я помню, что спокойно возразил вам: «Позвольте же мне только повернуть разговор назад, так быстро ведь ничего не решается».
Несмотря на свое беспримерное чувство сценичности, Вагнер вновь и вновь становился жертвой непреодолимой потребности все аргументировать, и в его произведениях нередко встречаются места, где никак не удается подавить досаду: «Ну разве надо объяснять все столь обстоятельно?!» С Вагнером здесь происходит то же, что с его эстетической теорией, – его красноречие беспредельно, если только он подозревает, что не все тут чисто. Мелодраматичный – но с нечистой совестью, Вагнер не может отрешиться от наследия мелодрамы, как ни старается углублять характеры и подробнейшим образом мотивировать завязку.
Типичнейший аксессуар мелодрамы – интригующий персонаж. Вагнеровские интриганы, враги его положительных героев, – жалкие личности, они бедны музыкой, и их создателю явно пришлось с ними туго. Их музыка, за редким исключением, условна, она показывает, что Вагнер не любил этих героев, да и за что их любить? Достаточно лишь прибегнуть к сравнению и посмотреть, чего достиг Верди в изображении таких персонажей: от Спарафучиле («Риголетто»), графа, ди Луна («Трубадур»), Карлоса («Сила судьбы»), Ренато («Бал-маскарад»), Амонасро («Аида») до несравненного Яго в «Отелло». Какая жизненность, какая музыка! А вагнеровские злодеи невыносимо мрачны и тусклы: Тельрамунд под сапогом своей супруги, неловкий грубиян Гундинг (который только и может сказать своей жене, что «приготовь нам пищу» да «жди меня в постели»), сумрачный Гаген («Оставь печального мужа!»), оскопивший себя Клингзор, брызжущий проклятиями Альберих.
Ах, эти проклятия! Чары проклятий – опять же изобретение вагнеровской эпохи, новый мелодраматический реквизит. Из Ветхого завета известна чудесная сила благословения, однако проклятия Бог оставил за собой и редко пользуется этим своим правом – разве что проклинает Каина. Мелодраматические проклятия мы находим у Верди в «Риголетто», в «Силе судьбы», и там они на месте. У Вагнера же проклятие становится драматическим приемом, против которого можно многое возразить. Альберих клянет, защищая свои жизненные интересы, – он клянет любовь, чтобы обрести золото, и клянет золото, чтобы досадить грабителю. Зато проклятия Кундри совершенно беспредметны, она просто до крайности раздражена, и невозможно понять, отчего проклятия ее обладают такой силой, что ни в чем не повинный Парсифаль должен из-за них годами скитаться по свету?.. Альберих мог по крайней мере сослаться на символическое значение золота… Приходится прибегать к символическому значению, оправдывая и другой аксессуар мелодраматической режиссуры – волшебный напиток. Вполне можно представить себе, что первый импульс к созданию «Тристана» Вагнер почерпнул из необычайно популярного «Любовного напитка» глубоко презираемого им Доницетти. Конечно, в «Тристане» мотив напитка понятен – это символ неодолимого влечения двух юных героев друг к другу, но тут добавляется еще и роковая подмена волшебных напитков – настоящий фарс, не будь при этом трагического фона! Неужели же дубиноголовая Брангена не нашла ничего более невинного в сундуке с зельями, когда ей было приказано приготовить напиток смерти?
Наконец, в «Гибели богов» использование напитка, обращающего героя Зигфрида в безголовую марионетку, не ведающую, что творит, в драматическом отношении ниже всякой критики. Здесь изъяны внутренней взаимосвязи событий, характерные для «Гибели богов», становятся очевидны – ведь и сами мотивы сказаний в «Кольце нибелунга» плохо совмещаются друг с другом. Все, что внутренне не взаимосвязано, все, что приходится соединять силой, – все это здесь расползается во все стороны. Зигфрид, убивший дракона и взявший в жены Гутруну, то есть на самом деле Кримхильду, – это одно лицо, а Сигурд, пробудивший ее ото сна и взявший ее себе в жены, – другое; у Вагнера оба превращены в одно лицо, и напиток оправдывает такое слияние. Странные – и предательские – вещи творятся и с главным реквизитом тетралогии, с кольцом: Зигфрид подарил его Брунгильде, а потом стягивает его с ее пальца (всегда ли мужчины так поступают, когда дерутся с женщинами?), но на следующее утро уже не помнит об этом своем подвиге, зато помнит, что отнял кольцо у дракона Фафнера. Итак, чудесный напиток действует выборочно – люди то забывают, то не забывают, в зависимости от того, чего требует ситуация.
Впрочем, если досконально разбираться в событиях «Кольца», то конца не будет всплывающим на поверхность нелепостям. Вот хотя бы Вотан – какой-то необычный, непоследовательный «бог». Он строит себе дворец, но денег на постройку у него нет, тогда он отдает в залог богиню Фрейю, жизненно необходимую для богов (золотые яблоки!), потом он платит за нее выкуп – награбленное золото, с которым расстается, однако, с крайней неохотой. Невольно думаешь о Вагнере – должнике и неплательщике, невольно вспоминаешь о Вагнере и Минне, когда Вотан («Валькирия», второе действие, вторая сцена) поступает со своей женой Фриккой как неверный супруг, совесть которого нечиста и который именно поэтому вынужден уступать там, где прав и где должен был бы показать характер. Когда же Брунгильда нарушает его повеление и поступает мужественно и человечно, он карает свою любимую дочь, словно мстительный бог Иегова, – навеки изгоняет ее из мира богов!
Тут ворчуну-критику следует прерваться, чтобы откровенно заявить: все его возражения не имеют ни малейшего значения. Ни один восприимчивый зритель ни на минуту не задумывается о непоследовательностях и драматургической недобросовестности Вагнера. Он примирится со всем – потому что эмоциональное воздействие музыки таково, что о подобных вопросах сразу забываешь. Вот почему в глазах публики Вагнер всегда был прав, вот почему его критики никогда не были правы. У сценического действия свои законы, своя логика.
Правда, иногда Вагнер заходит слишком далеко: в последней сцене «Тристана» вооруженные мужи с остервенением бьются у врат замка Кареоль (итог – двое убитых), тогда как стоит пройти два шага… и Брангена без труда перебирается через низкую стену, чтобы поспешить к своей госпоже Изольде. Мы все это видим, но никогда над этим не задумываемся. И все наши возражения направлены не против произведений Вагнера, а против его претензий на величайшую славу и непогрешимую святость его драматического искусства, против призрака универсального художественного произведения. Если Вагнер воздействует на зрителя глубоко и серьезно, то это всякий раз воздействие оперного искусства. Если принять его произведения за оперы, какими они и являются на деле, то и все мелодраматическое в них уже не вызывает возражения. Начинаешь искать в них только то, что можно в них найти, – великолепные, красивые места. Драматург превосходно потрудился ради музыканта, он предоставил ему такие возможности для демонстрации выразительности, какими никто прежде не располагал. Уровень созданного – вот единственный реальный критерий оценки всего творчества композитора-поэта.
А все сомнительное в его сочинениях восходит к противоречию между сознательно поставленными целями и фактически достигнутым, между претензиями теории и неискоренимым инстинктом художника. Педант-драматург, правда, воздвиг на оперных подмостках чудовищные горы балласта, не думая о последствиях: все надо объяснять, все мотивировать, и предыстория становится известной нам в мельчайших подробностях. В «Кольце нибелунга» все это доходит до крайности и, вероятно, объясняется тем, что текст тетралогии возникал по частям, в обратной последовательности, или, что тоже не исключается, желанием автора обеспечить возможность исполнения каждой из частей по отдельности. Но разве не жестоко заставлять нас выслушивать в «Валькирии» подробный рассказ обо всем том, что произошло в «Золоте Рейна», в «Зигфриде» – о том, что происходило в «Золоте Рейна» и «Валькирии», а в «Гибели богов» еще раз, с начала до конца, воспроизводить всю цепь событий «Золота Рейна», «Валькирии» и «Гибели богов». Но все не беда, если бы только музыка была на должной высоте! А это, увы, не так: разве вечное пережевывание одного и того же может вдохновить композитора? Посвященные пересказу давних обстоятельств сцены – во втором действии «Валькирии» (Вотан и Брунгильда), в первом действии «Зигфрида» (сцена Странника) – выдержаны на точке замерзания фантазии, это суховатый диалог, простроченный лейтмотивами. В такие минуты осознаешь всю мудрость «сухого речитатива» в старинной опере – там диалог заканчивается с минимальной тратой времени, а «негативное» музыкальное содержание речитатива подчеркивает рельефность следующей за ним арии.
Но со всеми слабостями «Кольца» контрастирует такая высота реально достигнутого, что уже ввиду колоссальных размеров произведения ему присуще совсем особое достоинство. Человек, сумевший создать все это, был громадной личностью – с твердым характером, с крепкой верой в свои художественные идеалы. Это произведение уникально, и столь же уникальна линия развития его стиля, в котором отразился 25-летний процесс становления, от первого дрезденского замысла до завершения в Байрейте. Вот в чем, по-видимому, основная причина чрезвычайных различий в стиле четырех составляющих единое целое произведений. Самое прекрасное и словно предначертанное судьбой в становлении гигантского замысла – это невольный, непредусмотренный результат развития: по мере того как сам Вагнер изменялся, старея, параллельно с этими изменениями шло и действие тетралогии, охватившее историю целого мира, от первозданного состояния до гибели, от наивной простоты «Золота Рейна» с непосредственными изначальными мотивами словно еще не тронутой природы через потрясающие бури «Валькирии» с их стихийным разгулом страстей, через светлый, полдневный героический ландшафт «Зигфрида» до скрывающихся в черных тучах вершин «Гибели богов» с колоссальным финалом, громоздящим в небеса весь тематический материал произведения. Вместе с возрастом росло художественное самосознание музыканта – подлинный центр всей энергии его существа, за эти два десятилетия оно достигло самой безмерности. Отсюда величественность стиля «Гибели богов», его полифоническое великолепие, неисчерпаемое богатство гармонического и оркестрового колорита. Многие музыкальные символы-лейтмотивы, проходящие сквозь всю тетралогию, мотив дочерей Рейна, мотив золота, Валгаллы, копья Вотана, мотив проклятия Альбериха и многие другие при своем первом появлении в «Золоте Рейна» – всего лишь музыкальные значки. Трудно даже предположить там их тематическое значение в высшем, симфоническом смысле. В «Гибели богов» эти мотивы складываются в комбинации, непревзойденные по силе впечатления.
Здесь, в «Гибели богов», – видимый пик целого, это самое монументальное создание Вагнера. Эмоциональная же вершина тетралогии, по-человечески волнующая, – это «Валькирия». Судьба двух прекрасных, несчастных, гонимых страстью людей: Зигмунда и Зиглинды – Вотан бездумно произвел их на свет и столь же бездумно губит – потрясает до глубины души. И первый, кого так тронула, кого так возмутила их судьба, поднялся в своей музыке, созданной для них, на вершину своих величайших достижений. Можно считать, что первое действие «Валькирии» – самое лучшее оперное действие, какое когда-либо писал Вагнер. Это музыка, отмеченная такой проникновенностью, глубиной, внутренним жаром, что ничего подобного он уже не писал впредь. Колоссальное внутреннее развитие, которое ведет от «Золота Рейна» к «Валькирии», не объяснить разделяющим их промежутком времени, – как сказано, оба произведения создавались непосредственно друг за другом. Их разделяет внутреннее переживание – переживание фантазии, переживание драматурга, ни с чем не сопоставимое во всем творческом развитии Вагнера. «Золото Рейна» – это сказка. И все, что в ней происходит, подобно книжке с картинками, яркими и живыми, веселыми и пугающими. А «Валькирия» переносит нас в сферу подлинной человеческой трагедии. Зигмунд и Зиглинда – простые люди, они созданы, чтобы жить. Однако неумолимый рок преследует их, и вся их жизнь сводится к блаженству одной-единственной весенней ночи, с которой начинается их гибель. Катастрофе в конце второго действия предшествует сцена, отмеченная потрясающим трагизмом: валькирия является перед Зигмундом и возвещает ему смерть, но буря его чувств заставляет ее отступить, нарушив повеление Вотана. И сколь же жалка в сравнении с этой трагедией живых людей, с их чувствами вся политика Вотана, политика силы! Кстати, если только отвлечься от непоследовательности поступков Вотана, сама драма отличается классической мощью и единством развития. Более того, это цепь образных, волнующих, удивительно законченных как в драматическом, так и в музыкальном отношении сцен, производящих огромное впечатление в театре. Говоря иначе, это настоящая опера.
Единственное произведение Вагнера, которому нельзя сделать такой комплимент – или же, рассуждая по-вагнеровски, которому нельзя предъявить такой упрек, – это «Тристан и Изольда». В этом сочинении художник наиболее последовательно шел за теоретиком, и, если только не обращать внимания на неискоренимые мелодраматические предпосылки произведения, Вагнер-драматург вполне удовлетворил здесь самым строгим требованиям классической драмы. Вагнер из сказания заимствовал лишь одно – мотив рокового любовного напитка и образ волшебницы Изольды, которая является слишком поздно, чтобы спасти смертельно больного Тристана. Все остальное принадлежит Вагнеру. Ярко образные мотивы сказания Вагнер скрестил с построениями мысли в духе Шопенгауэра, хорошо ему тогда известного, но в итоге он вложил в произведение слишком много абстрактной рефлексии – сказочный сюжет не выдержал такого бремени. Это повсеместно приводит к чрезмерной широте. Такова бесконечная экспозиция первого действия – тут необходимо мотивировать отчаяние, овладевшее Изольдой, приводящее ее на грань самоубийства вместе с Тристаном. Во втором действии бесконечными разъяснениями надо оправдать все нелепое, что было и осталось в поведении Тристана. В третьем действии жестокие в отношении к самому себе монологи больного Тристана должны проиллюстрировать бесконечное ожидание опаздывающей Изольды («…это ведь так быстро не бывает!»). Если это изъяны, то вместе с тем и непременные своеобразные особенности произведения, которое в том виде, в каком оно существует, представляется выдающимся шедевром. Осторожные купюры в первой половине любовной сцены и в третьем действии, предложенные самим Вагнером, могут лишь яснее выявить совершенство целого. Однако от этого не исчезает проблематичность вещи: порожденная экзальтированным чувством, она пребывает в сфере экстаза, не всегда доступной здоровому чувству. Тристан и Изольда ходят на котурнах, их чувства превышают обычные человеческие, предельное напряжение, для которого отождествляются жизнь и смерть, пронизывает целое произведение. Даже песня матроса за сценой в начале первого действия звучит ирреально (с хроматическими смещениями!) – и это тоже фрагмент иного мира, сотворенного фантазией мира не по-земному напряженных, сверх меры натянутых чувств. Вагнер это понял! «Боюсь, мою оперу запретят, – писал он Матильде Везендонк, – если только скверное исполнение не превратит ее в пародию. Итак, только посредственное исполнение может меня спасти! А исполнение совершенное сведет людей с ума – иначе я себе этого не представляю».
Уже «Лоэнгрин» смутил ум молодого короля Людвига; «Тристан» же смутил целое поколение! Кстати говоря, из всех фантастических капризов Вагнера самый странный – это его шопенгауэровская поза. Наиболее послушный своей воле из всех когда-либо живших на земле людей, Вагнер заговорил о преодолении воли, об отречении! Однако Вагнер веровал и творил. Судя по дневникам, которые Вагнер писал в Венеции для Матильды Везендонк, его фантазия завела его очень далеко – он с головой ушел в тристановские настроения: «Итак, ты посвятила себя смерти, чтобы даровать мне жизнь, и я принял в дар твою жизнь, чтобы вместе с тобой расстаться с миром, чтобы страдать с тобой, чтобы умереть с тобой!» Непостижима способность Вагнера-художника переносить весь жар своей фантазии в творчество – не расплескав, не остудив его по дороге! Трудно даже судить о вагнеровском «Тристане» – трудно потому, что, собственно говоря, надо или любить, или ненавидеть его, или любить и ненавидеть сразу. Корнелиус прямо-таки боялся «Тристана». Он писал своей невесте: «Андер в Вене учил эту партию и уже почти твердо ее знал. Поэтому для Вагнера тяжелейший удар, что Андер умер в безумии, а Шнорр, исполнивший ее, – от тифа. Не должно ли это событие послужить, словно пограничный столб, предостережением: не надо натягивать сверх меры лук, выпуская стрелу энтузиазма в самое сердце слушателя; предостережением: не надо вступать в сферу такого искусства, беспощадного, дергающего и взвинчивающего все нервы и фибры души?» Кто равнодушен к этому произведению, тот страдает от недостатка фантазии. А для оценки этого произведения важны такие критерии – колоссальный факт существования стиля, отмеченного самым дерзновенным своеобразием, и раскрытие мелодических и гармонических тайн, какие до Вагнера никому и не снились.
Если даже и не предаваться полностью воздействию «Тристана», в общем впечатлении все равно должны отложиться два эпизода, по потрясающей напряженности отразившегося в них переживания, не имеющие параллелей в искусстве. Оба эпизода связаны с умирающим Тристаном. До какой же степени Вагнер внутренне слился с его страданиями! Тристан, мучимый жаром, вслушивается в «печальный наигрыш» пастуха – тот переходит в оркестр и, видоизменяясь, продолжает звучать. И вот Тристану на этом фоне, на этом cantusfirmus гложущей сердце, мучительной, несказанно жуткой мелодии, представляется вся его жизнь. Трудно сказать, музыка ли это еще – это передаваемое средствами музыки выражение больной души! Второй эпизод наступает позднее: приходя в себя после обморока, больной Тристан думает, что видит корабль с Изольдой на борту. Четыре валторны исполняют здесь парафраз лирической мелодии из любовной сцены второго действия; спокойная и проникновенная, она постепенно достигает вершин ликования, и пение Тристана поднимается вместе с нею к лирической кульминации – «Изольда! Как ты прекрасна!». Наконец на самой точке кипения раздается веселый наигрыш пастуха, который увидел приближающийся корабль Изольды, – это прекрасная музыка, и едва ли можно говорить об исключительно музыкальном воздействии такой сцены. Вот где истинная драма – в единстве действия, звучащего выражения и нашей собственной взволнованности, передающей нам художественное переживание подобной степени интенсивности.
Стоит ли указывать на те средства, которыми маг и волшебник Вагнер достигал подобного воздействия на слушателей. Интересующийся этой проблемой музыкант должен будет заняться тайной побочных доминант, благодаря гармоническому освоению которых все интервалы полутоновой гаммы приведены в диатонически-тональную взаимосвязь. Однако о вагнеровской гармонии, и особенно о гармонии «Тристана», написано немало неразумного, и не будет излишним указать на то обстоятельство, что Вагнер действительно постиг самые тонкие возможности тональности, подчинив их своим потребностям в выражении, но что он ни на йоту не отошел от тональности с ее полем притяжения. У Вагнера даже бывает и так, что, как во всех операх Моцарта, а также в «Волшебном стрелке», «Эврианте» и «Обероне» Вебера, целое сценическое произведение написано в своей особой тональности, которая, словно дуга, соединяющая начало и конец, творит в произведении единство, которое мы ясно слышим. В «Лоэнгрине» это ля мажор, в «Мейстерзингерах», в «Парсифале» – ля-бемоль мажор. Вагнеровский ответ на вопрос о тональности вступления к «Тристану», на вопрос, далеко не всем ясный, недвусмысленно дан уже тем, что для концертного исполнения вступления Вагнер приписал к нему завершение, приводящее к ля мажору, – это необходимо вытекает из того, что вступление коренится в тональности «ля», в тональности, которая, однако, становится у Вагнера символом вечного томления: гармоническое развитие все время приближается к тонике «ля», но никогда не достигает ее.
Гармоническое мышление Вагнера – это особенный феномен. Чтобы подыскать пример столь же уверенного обращения с тональностью, необходимо обратиться к решительному антиподу Вагнера, к Брамсу, у которого никто еще не находил склонности к атональности. В соль-минорной рапсодии Брамса (Ор. 79, № 2) нужно дойти до самой середины разработки этой большой, написанной в сонатной форме пьесы и пересечь эту середину, чтобы утвердилась тональность пьесы. А последняя из пьес Ор. 76, до-мажорное каприччио, с самого начала недвусмысленно вращается вокруг своего тонального центра, но утверждает его лишь своим последним аккордом. Бессмысленно выводить из «Тристана» необходимость атональной музыки: ведь «Тристан» это самый последовательный итог тонального стиля. Безошибочно ориентируясь, Вагнер шел по трудному пути, и нельзя возлагать на него ответственность за то, что люди, шедшие вслед за ним, заблудились. Правда, Вагнер-композитор вдохновлялся драмой, его музыкальное мышление определено поэтическим текстом, однако тенденции выразительности, тенденции звукописи не способны были нарушить его чувства целостности, внутренней взаимосвязи музыкального произведения. Ни в одной вагнеровской партитуре нет ни одной ноты, которая не была бы однозначно определена с музыкальной стороны. Теория Вагнера – но не его музыка! – правда, повинна в том, что в истории музыки наступил период величайшего хаоса, что целое поколение музыкантов было выбито из равновесия и что многие – в гармоническом отношении – начали жить не по средствам. Хотя рок и на этом не остановился, и все мы присутствуем при бунте огромного большинства людей против музыки, при восстании против нее немузыкальных людей всех стран. Вот что повернулось за это время на 180 градусов – общественное мнение! В эпоху «Тристана» Ганслики ворчали, а публика толпами бежала за Вагнером, как дети за крысоловом из Гамельна. Теперь наоборот: публика не желает слушать новую музыку, а критики восторгаются, потому что пример Ганслика научил их предусмотрительности. И только одного они не поняли – и для предусмотрительности нужен разум.
Вагнер обладал абсолютно здоровой натурой, и вот симптом – после всех экстазов и хроматических сумерек «Тристана» он вернулся в посюсторонний мир, и притом вступил в полосу такого яркого света, какого ему до той поры не доводилось видеть. Переход потребовал времени и явной смены всей обстановки. Человек волевого действия, Вагнер должен был заново осмотреться в мире, сразиться с ним, наставить себе синяков, о чем побеспокоился парижский «Тангейзер» да и вся действительность до и после этой постановки. По «Вакханалии», которую Вагнер писал в Париже, можно заметить, что «тристановская» инфекция все еще оставалась у него в крови. Нужен был какой-то основательный, решительный толчок, чтобы оживить его творчество и направить в русло, отвечающее его натуре. Тут-то Вагнер и разыскал в закоулках своей памяти «Мейстерзингеров» – сюжет, который он набросал за шестнадцать лет до этого в Дрездене.
Естественно, что и «Мейстерзингеры» не стали легкой комической оперой – а именно это пообещал Вагнер своему издателю, – как не стал итальянской оперой для Рио-де-Жанейро «Тристан». Вагнер не способен высказываться иначе как широко и весомо, у него была не легкая рука. Верди, антипод Вагнера, подарил миру «Фальстафа», когда ему исполнилось 80 лет, и ему тоже надо было пережить для этого чудесное превращение: художник, всю свою жизнь преданно служивший трагической музе, обрел в комедии новый взгляд на мир. Верди научился ко всему относиться легко – вот откуда прелесть «Фальстафа». А «Мейстерзингеры» были написаны за двадцать пять лет до этого – за четверть века, и Вагнер еще нес на своих плечах тяжкое бремя романтического мира чувств, исторических костюмов, декораций. А романтик обязан ко всему относиться с предельной серьезностью – к себе и к своим чувствам, без такой серьезности он вовсе немыслим. Уже первые такты вступления к «Мейстерзингерам», тяжеловатые и торжественные, не оставляют сомнения в том, что нам скорее предстоит пережить праздник, чем просто посмеяться. «Мейстерзингеры» слишком серьезны для комедии, в них сознательно вложено слишком много мировоззренческого, это одновременно драматическое высказывание в свою пользу, сатира, самовозвеличивание, уникальное соединение прокламации, драмы, оперы.
Несомненно, произведение это – подлинная опера. Теоретику музыкальной драмы пришлось закрыть глаза на происходящее! Вся композиция «Мейстерзингеров» с развернутыми музыкальными эпизодами, с ярким светом, льющимся на главных героев, с широкими финалами – все соответствует идеальной форме оперы, форме, созданной мудростью многих поколений, форме, которую не разрушит никакое отрицание. Непосредственные музыкальные импульсы сюжета дали здесь самый богатый урожай – в отличие от состязания певцов в Вартбурге, где Вагнер не сумел ими воспользоваться, – а песня Вальтера – это благородный цветок вагнеровской лирики. И – о чудо! – оперный композитор перехитрил сурового драматурга и отвоевал у него даже маленькую балетную сцену – танец подмастерьев на лугу, красивый, прелестный, с которого начинается финальная сцена оперы. От музыкальной драмы «Мейстерзингеры» получили в наследство лишь небывалую широту и пространность – без этого Вагнер никак не мог бы высказаться. Но, собственно говоря, всего только три эпизода своей прозаической прохладой, обстоятельностью диалогов усложнили здесь работу оперного композитора. Это, во-первых, уже упомянутое собрание мастеров в первом действии, во-вторых, сложные теоретические пояснения касательно поэтики, которые дает Ганс Сакс Вальтеру Штольцингу в своей мастерской, и, наконец, совестливость, с которой он же очень обстоятельно рассказывает собравшемуся на праздничном лугу народу, что теперь будет, хотя к этому времени все хорошо известно и нам, и, наверное, собравшимся на праздник нюрнбергским бюргерам тоже. Однако балласта тут меньше, чем обычно у Вагнера, и если отвлечься от упомянутых сцен, то в «Мейстерзингерах» совсем нет длиннот – вот торжество самой богатой, льющейся непрерывным потоком фантазии.
У автора этого произведения музыка, как говорится, льется неудержимым потоком, а причина этого, не осознанная самим композитором, заключалась в следующем: Вагнер блаженствовал, потому что был избавлен от темного (скрывшегося за занавесями. должно быть из атласа и парчи) мира сказаний, от богов и героев, великанов и нибелунгов, любовных напитков и шапок-невидимок – перед ним настоящие люди, настоящие чувства, реальные факты, люди, с которыми можно искренне смеяться и плакать, радоваться и сердиться. И как же хорошо от этого всем вокруг! Ева – самая поэтическая и самая естественная среди всех женских персонажей Вагнера, Вальтер Штольцинг – единственный его герой, у которого к романтической экзальтации прибавляется капелька душевности и даже крупица юмора, а Ганс Сакс с его глубокой человечностью и крепким здравым смыслом принадлежит к числу бессмертных драматических характеров.
В процессе работы над материалом Вагнер сместил центр тяжести оперы, и это обернулось большим преимуществом для произведения. Создавая первый набросок в тридцатилетием возрасте, Вагнер отождествлял себя с молодым героем – Вальтером Штольцингом, гениально одаренным музыкантом, который перед лицом мастеров со смехотворными условностями их искусства выступает в полном сознании своего превосходства, будучи убежденным в своей правоте. Пятидесяти летний Вагнер сам стал большим мастером, и теперь, заново приступив к эскизу, он уже отождествлял себя с Гансом Саксом, в которого вложил все то зрелое и благородное, что смог найти в тайниках своего сердца. Итак, сложилась двойная связь автора с персонажами своего произведения, и благодаря этому оба главных героя, и Вальтер, и Ганс Сакс, обретают несравненную жизненность, а все произведение – такую реальность и такую душевность, какой больше нигде не встретишь у Вагнера. Здесь самовозвышение становится столь непосредственным выражением крайне эгоцентрической личности, что не дает воли и крупице тщеславия. А эгоцентризм вагнеровской натуры помешал ему рассмотреть в пору борьбы за Козиму, в какой мере сам он погрешил против своего идеального представления. Ганс Сакс находился в том же положении, но он великодушно отказался от юной Евы… Познай себя!
Наряду с главными героями необычайно четко охарактеризованы и второстепенные. Достаточно сравнить Погнера, доброго, благожелательного отца, с Даландом, его предшественником из «Летучего голландца», традиционно условным представителем того же амплуа, чтобы понять, как далеко вперед продвинулся Вагнер в своем искусстве. И вторая любовная пара «Мейстерзингеров» удостоилась самой живой, индивидуальной характеристики – Давид и Магдалена. А если характерные типы «Мейстерзингеров» сравнить с персонажами «Кольца нибелунга», всякому станет ясно, сколь огромен контраст между ними. Мы уже указывали на то, что в «Кольце» злодеи, интриганы обделены музыкой – как и в «Лоэнгрине», «Тристане», «Парсифале» – и что это связано с самой «конституцией» этих произведений. В «Мейстерзингерах» любая фигура полнокровна, пропитана музыкой, и даже на Котнера, суховатого старшину гильдии, проливается яркий свет музыки, когда он зачитывает табулатуру – правила цеха мейстерзингеров. И Бекмессер, писарь, воплощенный враг искусства, любого чувства, – живая, оригинальная личность. Пародировать легче всего, и Бекмессер мог бы стать простой пародией. Но композитор ограничивает пародийность этого образа весьма сдержанными намеками. Поэтому серенада, которую исполняет Бекмессер, – это непревзойденный шедевр; несмотря на все пародийные частности, это великолепная мелодическая находка, благословенный ритм, из всего этого и вырастает чудесно задуманный финал второго действия. Раздраженный прямолинейной критикой Ганса Сакса, который, отмечая ошибки, знай себе бьет молотком по подошве башмака, Бекмессер вне себя от возмущения с трудом «продирается» сквозь последнюю строфу своей песни, и тут на него набрасывается с кулаками Давид, который, увидев своими зоркими глазами сидящую в окне переодетую Магдалену, решил, что ей-то и предназначалась серенада незадачливого писаря. Так и начинается славное побоище, где никому не ведомо, кто кого бьет и за что… А из «Мотива драки» вырастает фуга с мелодией серенады Бекмессера в качестве второй темы! Эта тема поднимается по терциям вверх, чтобы – ради этого и все нарастание! – приземлиться на фа-диез, единственной ноте, какую издает рожок ночного сторожа, который уже довелось услышать в предыдущей сцене. Этот фа-диез – сигнал ужаса: все немедленно разбегаются… А вместе с тем с него начинается поразительно прекрасная мелодия: прежде она звучала, когда Вальтер и Ева сидели в уединении под липой, и, кажется, все волшебство теплой летней ночи перешло в эту мелодию. Когда же ночной сторож выходит на сцену и, зевая, напевает свою песню, думая, должно быть, что услышанный им издалека шум просто-напросто пригрезился ему, а затем мелодия летней ночи, нарушаемая тихим отголоском отшумевшей драки, перебивается клочками бекмессеровской серенады, на звуках которых и опускается занавес, – это самый чудесный финал оперного акта, который когда-либо был написан.








