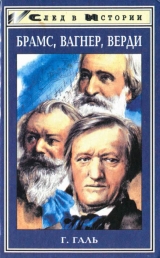
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
У Бетховена Брамс научился также особой тщательности в решении проблемы финала, который в вариациях приобретает значение энергичной обобщающей концовки, подводящей некий итог этой длинной череде небольших эпизодов и носящей более масштабный характер. При этом, как и Бетховен, он использует здесь возможности самых разнообразных форм. Так, в Вариациях на тему Паганини финалом является развернутая заключительная вариация, постоянно включающая в себя основную модель темы, в Вариациях на тему Генделя – фуга, а в Вариациях на тему Гайдна – пассакалья, построенная на пятитактовом мотиве в басу, причем именно этот мотив, восходящий к главной теме, и обеспечивает в итоге победу этой темы, триумфально возводя ее на трон.
Как и Бетховен, Брамс свято чтил неприкосновенность темы как модели формы. В этом смысле он действительно «шутить не любит» – хотя Вагнер, отпуская свое ядовитое замечание, менее всего имел в виду данное обстоятельство. Сколь ни удивительна фантазия композитора, уводящая его порой далеко за пределы темы, структурное зерно этой темы всегда остается неизменным. Ганслик в одном из своих газетных эссе шутливо заметил, что под бородой, которую композитор отпустил во время летних «каникул», его настоящее лицо разглядеть так же трудно, как тему в иных его вариациях. Брамсу, несомненно, не раз приходилось слышать упреки подобного рода; однако они несправедливы. Правда, умение выделить тему внутри вариации – это вопрос музыкальной памяти и той, достаточно высокой, степени концентрации внимания, которая доступна далеко не каждому слушателю. Однако в конечном счете все это и не так уж необходимо для наслаждения музыкой – тем более что присущие ей логические взаимосвязи все равно оказывают на нас свое воздействие, даже если мы не вполне отдаем себе отчет в том, чем именно это воздействие обусловлено.
В струнном квартете си-бемоль мажор, который дал повод для этого разговора по проблемам вариационной формы, композитор обращается к ней для решения еще одной важной задачи. Как и предшествовавшие ему классики, Брамс охотно использовал эту форму в произведениях циклического характера. В названном квартете она применена в финале, построенном в виде восьми вариаций на непритязательный песенный мотив. В двух последних из них, однако, внезапно возникают мотивы из первой части, вставленные в рамки варьируемой темы. Эта основная тема становится в свою очередь главенствующей в заключении, естественно вытекающем из последней вариации, где затем, контрапунктически сплетаясь с вновь возникшим незадолго до этого начальным мотивом, образует великолепную финальную конструкцию, широкой дугой охватывающую все произведение. Сходную композиционную идею Брамс использовал и в последнем своем крупном камерном сочинении – квинтете с кларнетом. В нем последняя вариация непосредственно возвращает слушателя к настроениям и тематической ситуации первой части. И это производит удивительное, ни с чем не сравнимое поэтическое впечатление. Трудно найти другой пример, где грусть и смирение, навеянные предстоящим прощанием, получили бы столь проникновенное выражение.
* * *
Принцип вариационного построения занимает в структуре произведений Брамса более важное место, чем это может показаться поначалу. Кальбек, например, восхищается «божественной мелодичностью» побочной темы в первой части фортепианного квартета до минор, обнаруживает там еще и «вторую распевную тему» – и не замечает, что весь этот развернутый, охватывающий целых сорок тактов эпизод побочной партии состоит из восьмитактовой темы и четырех вариаций. Причем одна вариация столь естественно переходит в другую, что действительно рождается впечатление, будто перед нами разворачивается некий непрерывный процесс сочинения все новых и новых мелодий. Истина раскрывается лишь благодаря пятикратному возвращению к одному и тому же кадансу – каждый раз, впрочем, сформулированному несколько иначе, – который и вносит своеобразный элемент покоя и некоей статичности в крайне беспокойное, встревоженное звучание этой части. Судя по всему, никто не заметил также, что грациозная буколическая побочная тема в первой части Третьей симфонии построена как семь вариаций одной и той же однотактовой модели – опять-таки с намерением привнести элемент идиллического покоя в живое, возбужденное движение музыки. Следует еще раз подчеркнуть, что подобные детали, выявляющиеся в анализе, в принципе не воспринимаются слушателями. Композитор, действуя в естественной для него манере, добивается здесь одного: спонтанности развития мелодической линии. Как он этого добивается – его дело.
Разумеется, это в той же мере относится и к вершине вариационного искусства Брамса – финалу его Четвертой симфонии, разработанному в технике барочной пассакальи. Контрапунктированной вариационной темой здесь является восьмитактовый период, проходящий по большей части в басу. Великолепие звучания в этой пассакалье – в еще большей степени, чем в двух предыдущих случаях, – достигается мощью мелодического развития. Мелодия изливается непрерывным потоком, синтаксически расчленяемая лишь заключительным кадансовым оборотом, восходящим через две хроматические ступени к доминанте и получающим каждый раз новую гармоническую трактовку, и четкими цезурами. Тему этой пассакальи – элементарную по структуре череду нот – Брамс заимствовал из кантаты Баха «Твой зов, Боже, слышу» («Nach dir, Herr, verlanget mich»). Однако к теме Баха он добавил еще одну ноту – ля-диез (между ля и си), которая и создает только что упомянутый кадансовый оборот. И именно этот оборот усилил драматизм темы, бесконечно расширив ее гармонические возможности. Вариации – их всего тридцать – разделяются на контрастные группы, причем в эпизоде, где с помощью увеличенного пассакального баса их длительность удваивается, они образуют как бы более спокойную среднюю часть. Привлечение дополнительной мажорной тональности (основной является ми минор) делает их звучание еще красочнее и богаче. А когда последняя, тридцатая вариация прорывается к раздольно звучащей коде, когда ускорение темпа создает в музыке особое, буквально захватывающее напряжение, – тогда сверлящий хроматизм кадансового мотива обретает еще большую выразительность. Финал потрясает своим размахом, он безжалостен и страшен, как пляска смерти. Подобного драматизма, такой интенсивности выражения вариационная форма, скорее статичная по самой своей сути, до той поры еще не знала.
На этой, зрелой стадии творчества вариационная техника настолько же органична для выразительной манеры Брамса, насколько для Бетховена – техника тематического развития. Именно со времени Бетховена принцип тематического развития проник в крупную форму. О его потенциале можно судить, сопоставив, например, движение лаконичных – двухтактных – остинатных фигур в кодовых эпизодах его симфоний (в частности, в Седьмой и Девятой) с фантастическими превращениями темы в последних бетховенских сонатах и квартетах. У Брамса, напротив, и в сонатную форму, и в рондо, и даже в танцевальное интермеццо проникает вариационная форма. Последний случай иллюстрирует интермеццо в его Второй симфонии, где второй по счету серединный раздел, выдержанный в духе трио из танцевальных пьес, является вариацией первого такого раздела, а главная тема этого первого раздела возникает в свою очередь в результате вариационного – скерцозного – преобразования спокойной главной темы. Бетховен нередко повторяет свои главные темы, используя при этом более яркие оркестровые краски (см., например, первые части его Третьей, Четвертой, Шестой, Седьмой симфоний). В Четвертой симфонии Брамса главная тема первой части не просто повторяется, но возникает как вариация – с орнаментально декорированной мелодической линией и контрапунктическими противоходами. И даже в бурлескной третьей части, этом лаконичном сонатном аллегро с предельно лапидарным тематическим материалом, грациозно-мелодичная вторая тема не повторяется, а опять-таки варьируется. Подобно тому как в старой физике властвовал «horror vacui» – постулат, утверждавший, что природа не терпит пустоты, – так в стиле Брамса царит «horror repetendi», то есть нелюбовь к простым повторам.
На поздней стадии творчества принцип вариационного построения еще больше укореняется в композиторской манере Брамса, создавая то бесконечное течение мелодии, которое всегда было для него синонимом сонатного письма. Примером могут служить обе его сонаты для кларнета (1895). Сумеречность настроений, свойственная этим чудесным произведениям, усталая покорность и тихая задумчивость придают использованной в них вариационной форме значение едва ли не символическое. Кажется, будто именно в ней находит свое выражение та потаенная работа мысли, когда предмет как бы рассматривается со всех сторон, становясь поводом для глубоких, серьезных, исполненных спокойной мудрости рассуждений. «Четыре строгих напева», написанные годом позднее, – это подлинное чудо вариационной техники, благодаря которой мелодическая линия как раз и обретает ту гибкость, что позволяет ей полностью приспособиться к движению библейского текста, грозящего – коль скоро речь идет о прозе – разрушить любые ритмические рамки. Раскрывая технологию, можно сказать, что именно благодаря тем изысканным приемам вариационной техники, которые использует композитор, одна и та же музыкальная фраза (без элемента симметрии музыки не бывает) легко приспосабливается к любому количеству слогов и любой расстановке ударений в тексте.
Следует еще раз подчеркнуть: речь идет не о какой-то искусственной конструкции, но о методе сочинения музыки, таком же, каким была «разработка темы» у Гайдна или Бетховена. В обоих случаях цель метода – добиться естественной непрерывности в движении музыкальных событий. Тот, кто полагает, будто главное в музыке – мотив, рискует не разглядеть за деревьями леса. Мотив – не кирпичик, но тот связующий раствор, что объединяет и скрепляет в совокупное целое образ, возникающий на основе мелодических, гармонических и контрапунктических отношений. Начальная партия Пятой симфонии Бетховена, которая нередко рассматривается как образец разработки темы, складывается отнюдь не из многократных повторений одного и того же однотактного мотива. Напротив, она вырастает из широкого, свободного движения всего музыкального материала, в рамках которого этот мотив используется как связующий ритмический элемент, легко вписывающийся в любую из возникающих ситуаций, – то есть абсолютно так же, как и в дальнейшем, при возникновении новой, контрастной побочной темы (совершенно независимой от первой), когда он постоянно, через каждые четыре такта, «вздрагивает» в басу. В системе музыкального выражения мотив тем самым используется как средство, позволяющее упрочить логику развития идеи. Предметом же выражения как раз и служит эта развивающаяся идея, спонтанно являющаяся нам из неиссякающей золотой жилы творчества.
С точки зрения истории музыки метод Брамса представляет ее позднюю стадию – стадию большей изысканности выразительных средств, равно как метод тематической разработки, высвобождавший и обогащавший возможности музыканта, есть производное от техники барочной фуги. Самое удивительное в этом, насчитывающем уже не одну сотню лет, развитии музыки состоит в том, что каждый его этап в равной мере богат совершенными творениями. Истинно художественная содержательность, составляющая суть произведения искусства, не зависит от примененного в нем технологического метода.
Брамс постоянно ищет стимулы для собственной фантазии в самых различных стилевых течениях. Порой это даже напоминает некую гигиеническую процедуру, сознательно используемую композитором для обновления своего эстетического «обмена веществ». Взгляд врага остер, но предвзят и недоброжелателен. Когда Вагнер говорит о «маскараде» Брамса, он точно подмечает именно эти стилевые «процедуры». Однако он упускает из виду ту незыблемую самобытность, ту индивидуально-отличную постоянную, которая неизменно проступает в многообразии свершений Брамса. Брамс все время обновляет и укрепляет животворные основы своего симфонического стиля, обращаясь к изначальным видам музыкального творчества – песне и ее мелодике, мотетам с их полифонией, к малым формам с их строжайшей дисциплиной, концентрирующей фантазию композитора на решении какой-то одной задачи.
В отношении этих последних важным стимулом оказались, видимо, вальсы Шуберта, многие из которых он в первые венские годы буквально открыл для себя по рукописям, принадлежавшим венскому издательству Шпины. Брамс, как в свое время Лист и Шуман, внес в ту пору немалый вклад в «новую волну» шубертовского ренессанса. «Блаженнейшие часы, – пишет он своему швейцарскому издателю Ритер-Бидерману, – подарили мне здесь неизданные сочинения Шуберта, рукописи которых во множестве есть у меня дома. Просматривать их – одно удовольствие, но тем печальнее все остальное, что с ними связано. Многие из вещей, с которыми я познакомился, например, по рукописям, принадлежащим Шпине или Шнейдеру, существуют только как рукописи – даже копии, хотя бы одной, с них не сделано. А ведь и у Шпины, и тем более у меня эти вещи хранятся отнюдь не в несгораемых шкафах. Совсем недавно, притом баснословно дешево, здесь продавали целую кипу его неизданных сочинений; к счастью, их приобрело Общество друзей музыки. А сколько их еще рассеяно по свету, находится у частных лиц, которые или стерегут свои сокровища словно драконы, или беспечно обрекают их на гибель».
Чему он научился у Шуберта, показывают – правда, в несколько замаскированном виде, – Вальсы для фортепиано в четыре руки, Ор. 39, посвященные Ганслику. Забавно, однако, что даже здесь, выказывая свое уважение к другу (текст посвящения безукоризненно вежлив), Брамс тем не менее ясно дает понять, в какой именно мере он рассчитывает на его понимание и поддержку. Ибо смысл этого текста – всего лишь надежда, что хоть парочку вальсов бедняга Ганслик уж как-нибудь выдержит. Воистину, Ганслик – не то что Бильрот: тому можно было посвятить даже квартеты.
* * *
Если в названных выше вальсах Брамс, следуя Шуберту, держит свою фантазию в сравнительно узких рамках, соответствующих требованиям стиля, то в «Песнях любви – вальсах», Ор. 52, и «Новых песнях любви», Ор. 65, дело обстоит иначе. Восходящая к тому же образцу выразительная манера композитора обретает в этих замечательных произведениях зрелое своеобразие. По настоянию издателя, склонного к известной осторожности, в первом из этих циклов партии певцов напечатаны с пометкой «ad libitum»[114]114
По желанию (лат.).
[Закрыть], то есть как необязательные. Однако на публикацию цикла также и в чисто фортепианном варианте (дабы облегчить жизнь любителям играть в четыре руки) композитор все же не согласился. «Вальсы, – пишет он Зимроку, – нужно печатать так, как они написаны. Если кому-нибудь захочется исполнять их без пения – пусть играет их просто по партитуре. Но издавать их в первый раз без певческих голосов ни в коем случае нельзя. Пусть люди увидят их именно такими. И вообще, как я надеюсь, это чисто домашняя музыка, и очень скоро ее будут петь повсюду…» Надежда оказалась оправданной – вальсы быстро завоевали популярность. Правда, сегодня уже не найдется любителей, способных отважиться на исполнение этих жемчужин; но это свидетельствует лишь об оскудении нашей эпохи.
В литературе для вокальных ансамблей трудно найти произведения, равные этим вальсам по красоте звучания, по богатству мелодики и полифонической структуры. Непринужденность, внешняя необязательность их расстановки внутри каждого цикла, заставляющая вспомнить о вальсовых циклах Шуберта, вместе с тем свидетельствует о тонком композиционном чутье автора. А «Новые песни любви» даже увенчаны торжественной концовкой, которую уже сам текст (стихи Гёте) выводит в иные, возвышенные сферы. Этот финал, в значительной мере раздвигающий границы песенной формы, представляет собой пассакалью, где мелодия, непрерывно развиваясь, свободно парит над звучащим в «фундаменте» басовым мотивом. И нам остается лишь еще раз отдать дань восхищения мастерству, которое сумел проявить композитор на столь ограниченном пространстве.
Если симфонические произведения позволяют оценить всю глубину тематических построений Брамса, то «Песни любви» предоставляют неисчерпаемый материал для изучения возможностей гармонического развития в рамках строго ограниченной малой формы. В этом плане Брамс явно – и притом вполне осознанно – опирается на Шуберта. В чем он идет дальше Шуберта, так это в богатстве гармонических конструкций. И еще – в том неподражаемом мастерстве, с каким у него в эту красочную гармоническую ткань вплетается четкий полифонический рисунок. Впрочем, эти тайны его творческой лаборатории предоставим разгадывать знатокам. Здесь же рассуждения на данную тему слишком далеко завели бы нас в сферу чисто технических проблем.
В настоящей главе не раз заходила речь о проблемах музыкального выражения. Поэтому возникает, видимо, необходимость дать некоторые пояснения по данному вопросу – тем более перед лицом музыки столь безусловной, столь абсолютной по своему характеру, какой является музыка Брамса. Музыкальное выражение или поэтичность – терминов, обозначающих тот элемент, который воздействует на наше воображение при встрече с музыкой в качестве слушателя или исполнителя, может быть сколь угодно много – именно в музыке Брамса выступает как компонент настолько яркий, что его неизбежно расцениваешь как одно из ее высочайших достоинств. Правда, постичь его чисто аналитическим путем или тем более дать ему какое-то точное определение вряд ли возможно. Музыкальное выражение есть функция музыки, но никак не ее содержание. Оно неотъемлемо от акта творчества у художника, оно воздействует на рецептивный аппарат слушателя, но оно непереводимо на язык понятий.
Путаницу между этой эмоциональной содержательностью, от природы свойственной музыке, и внемузыкальным живописным или поэтическим – ее содержанием, короче говоря – «программой», Брамс всегда рассматривал как детски наивную ошибку. В борьбе против абсурдной установки на такую программность он был полностью солидарен со своим другом Гансликом, который развил свои теоретические взгляды в трактате «О музыкально-прекрасном» (1854). Однако, определяя содержание музыки как «движущуюся музыкальную форму» и отказывая музыке в какой-либо связи с духовным миром человека, Ганслик впадал в другую крайность. Основная трудность для него состояла, пожалуй, в том, чтобы найти формулировки, адекватные характеру объекта, почти не поддающегося отображению средствами словесного и научно-понятийного аппарата. Брамс заполучил его книжку сразу по ее выходе в свет. То, что он писал о ней тогда Кларе Шуман, весьма далеко от комплиментарности: «Собрался было прочесть книгу Ганслика «О музыкально-прекрасном», которой бредит Заар[115]115
Заар Фердинанд фон (1833–1906) – австрийский писатель и поэт, изобразивший в некоторых своих произведениях (сборник «Австрийские новеллы» и др.) в элегических тонах социальные конфликты своего времени.
[Закрыть]. Однако, уже перелистывая ее, обнаружил столько глупостей, что оставил это дело». Позднее Брамс был склонен признать положительные стороны эстетики Ганслика. Ганслик же в свою очередь отдавал себе отчет в том, что его тезис, если понимать его буквально, несостоятелен. В своих воспоминаниях он в связи с этим писал: «…С другой стороны, должен признать, что говорить вообще о «бессодержательности» инструментальной музыки – а именно благодаря этому моя книга и обрела большинство своих противников – было бы чистейшим недоразумением. Можно ли, опираясь на научные критерии, отделить в музыке одухотворенную форму от бессодержательной? Я имел в виду первую, мои противники упрекали меня в приверженности к последней».
Единственное, что Брамс искренне ненавидел, – это всякого рода теоретизирование. Музыка была для него тем, что возникает из живого чувства, живого человеческого опыта. Рассуждать о том, что именно обусловливает ее воздействие, он считал бессмысленным. Такие категории музыки, как выразительность, подлинность, глубина, величественность, не поддаются количественному измерению, однако это никак не отменяет самого факта их существования. Исключительно на эмоциональной основе удается выявить и еще одно важнейшее достоинство музыки Брамса – ее благородство. Именно эта особенность мешала ее быстрому успеху. Человеку духовно ограниченному, вроде Ганслика, она представлялась чем-то «эзотеричным»; современники, способные к конгениальному восприятию, такие, как Иоахим, Клара Шуман, Бильрот, Бюлов, осознавали ее как высочайшее и существеннейшее достоинство музыки Брамса. И именно благородство музыки Брамса определяет то своеобразие этого композитора, которое – уже на наш, сегодняшний взгляд – обеспечивает ему почетное, единственное в своем роде место даже среди великих музыкантов.
Однако все это, как уже говорилось, не поддается техническому анализу – равно как не поддается аналитическому постижению и живая красота, рожденная озарением. Недостатки техники – будь то упущения в технике письма, ошибки в гармонии или изъяны композиции – можно выявить и доказать. Однако, когда дело доходит до явлений позитивного порядка, до высших, решающих достоинств мастерского произведения искусства, любая методология становится бессильной. Скелет Елены Прекрасной не раскроет нам тайну ее очарования. А под скальпелем аналитика соната Клементи может оказаться произведением столь же мастерским, как соната Моцарта, и квартет Шпора – столь же великолепным, как и бетховенский.








