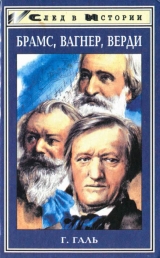
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
С бородой он в Вене бесповоротно превратился в «господина фон Брамса»: персонал венских рестораций и кафе охотно возводил в дворянское достоинство всех, кто достаточно солидно выглядел. Впрочем, ядовитые сплетни насчет Швендера и Шперля были не лишены оснований, поскольку он всегда охотно посещал места народных увеселений. С момента первого знакомства с Веной он питал слабость к Пратеру, причем не только к его роскошным лужайками и полянам, но и к простонародному «Вурстельпратеру» – «колбасному Пратеру» с его балаганами, тирами, каруселями. Он был также завсегдатаем расположенных в Пратере кафе, а также «Чарды», где играл цыганский оркестр. Примечательно, что именно этому серьезному уроженцу немецкого Севера, навсегда оставшемуся верным своему гамбургскому диалекту, настолько полюбились и это южное, более светлое человеческое племя, и его манера говорить, и этот южный ландшафт, что он уже не мог жить нигде, кроме Австрии. «Когда я, возвращаясь домой, пересекаю австрийскую границу, я готов обнять каждого кондуктора», – говорил он Мандычевскому; подобных высказываний у Брамса немало. Но особую симпатию вызывает у него дружелюбный народ Австрии, тот, с представителями которого он постоянно соприкасается в местах, где на склоне лет полюбил проводить лето. Он пишет из Ишля Кларе Шуман (1891 год): «У меня все хорошо. Здесь изумительно красиво и очень приятно, и я, как уже, пожалуй, не раз говорил, чувствую себя здесь особенно уютно прежде всего благодаря исключительной любезности местных жителей». А вот что пишет он Элизабет фон Герцогенберг: «То, что здесь собирается пол-Вены, ничуть не портит мне удовольствия: мне и вся Вена целиком не была бы противна. Пол-Берлина или Лейпцига, пожалуй, обратили бы меня в бегство. А пол-Вены – это вовсе неплохо и вполне смотрится». И еще раз Кларе: «В жизни не видел таких милых людей – и детей, и взрослых. Всякий раз, как выхожу из дома, у меня сердце радуется, а приласкаешь парочку таких милых ребятишек – и чувствуешь себя так, будто испил чего-то освежающего. В Бадене меня тоже радуют люди, а вот в Баварии или даже Швейцарии – нет. Я говорю о людях, которых вижу и с которыми сталкиваюсь только на улице, но которые, пожалуй, для меня важнее, чем большинство тех, которых я знаю по дому. Я сам слишком подолгу сижу дома и радуюсь, если, выйдя на улицу, вижу приветливое лицо. Сейчас я вспомнил твое милое, приветливое лицо и всем сердцем приветствую тебя».
Этот его задушевный тон неизменно восхищает – и в его прозе, и в музыке.
На пятом десятке лет облик маэстро, каким мир привык видеть его в пору его славы, получил окончательное завершение. Видман очень живо описывает и его самого, и его образ жизни в ту пору (в 1886–1888 годах), когда Брамс выезжал на лето в Тун – неподалеку от Берна, где жил писатель, – и поддерживал постоянный и тесный контакт с ним самим и его семьей: «Уже с рассвета на ногах, он сам готовил себе на прихваченной из Вены маленькой плитке первый утренний завтрак, для которого его верная поклонница из Марселя фрау Ф.[62]62
Госпожа Фрич-Эстранжен.
[Закрыть] снабжала его замечательнейшим мокко, причем в таком изобилии, что он, едва приехав, уделял толику и для моей кухни; тем самым, бывая у меня в Берне, он мог доставить себе удовольствие быть – по крайней мере за кофейным столом – гостем и хозяином одновременно. Утренние часы отдавались работе, причем особенно хорошо ему работалось в его жилище в Туне, где к его услугам была большая беседка и целая галерея из множества просторных, переходящих одна в другую комнат, что позволяло ему, прогрузившись в размышления, в спокойном одиночестве бродить по ним взад и вперед… В полдень он обедал, причем, если хоть сколько-нибудь позволяла погода, – в саду какого-нибудь кабачка: ритуальные светские табльдоты всю жизнь были ему ненавистны и он по возможности избегал их – уже по той простой причине, что не любил переодеваться. В полосатой шерстяной рубашке, без галстука и пристежного белого воротничка он чувствовал себя лучше всего; даже свою мягкую фетровую шляпу он больше носил в руках, чем на голове. Отправляясь каждую субботу в Берн, чтобы пробыть у меня воскресенье, а в большинстве случаев еще и до вторника или среды, он брал с собой кожаную походную сумку, напоминавшую набитую камнями сумку странствующего минералога, но загруженную главным образом книгами, которые я ему дал в предыдущее посещение и которые он теперь возвращал, чтобы обменять их на новые. В такую погоду с плеч его свисал серо-коричневый плед, стянутый на груди какой-то чудовищной булавкой и окончательно придававший ему облик некоего странного, старомодного существа, заставлявший людей с удивлением глядеть ему вслед».
Видмана дополняет Ганслик в своих воспоминаниях: «Брамс – это характер, который прочно стоит на собственных ногах; привлекая к себе бесчисленное множество поклонников и обожателей, сам он, по всей видимости, душевно не нуждается ни в ком. Суровость, иногда отталкивающая резкость его северной натуры заметно смягчились под цветущим дыханием австрийской природы и окружающей среды, в солнечных лучах славы и счастья, но не исчезли окончательно. Некоторую бестактность, которую он иной раз допускает, будучи и в хорошем, и в дурном настроении, те, кто его знает, не принимают особенно всерьез… Нетерпимый к малейшим посягательствам на свою личную свободу, он вряд ли был бы счастливым супругом, но наверняка – нежным отцом. Я бывал у Брамса в Мюрццушлаге, Туне и Ишле, где он жил летом. Не было в окрестностях ни одного малыша, который не бросился бы со всех ног к этому коренастому, седому бородачу с приветливыми голубыми глазами или издали не помахал бы ему ручкой… Что меня всегда радует в Брамсе, так это его несокрушимое здоровье. Он и сегодня еще способен на дальние пешие прогулки, словно студент, и спит крепко, как дитя».
Во всем, что касается одежды, он стремится прежде всего к максимальному удобству. Он, правда, уже не заклеивает прорехи на брюках сургучом, как бывало в юности (об этом он сам рассказывал Геншелю): добрая фрау Трукса[63]63
Трукса Целестина – домохозяйка Брамса с 1888 г., вдова венского литератора.
[Закрыть] содержит его гардероб в образцовом порядке. Однако его друзья никогда не уверены, есть ли у него под бородой галстук; кроме того, за пультом с ним бывали случаи, когда дирижерское искусство вдруг приводило в движение его брюки, поскольку он забывал пристегнуть подтяжки.
При всей своей горячей любви к Австрии он оставался убежденным немецким патриотом. «Просто невозможно себе представить, – рассказывает Видман, – насколько глубоко этот пламенный – в полном смысле слова – патриотизм проник в эту серьезную, подлинно мужскую душу». Его юношеские годы совпали с нарастанием острого соперничества между Австрией и Пруссией в рамках весьма непрочного Германского союза[64]64
Германский союз – объединение германских государств под гегемонией австрийских Габсбургов, создана на Венском конгрессе 8 июня 1815 г. (в составе 35 немецких княжеств и 4 вольных городов). Ликвидирован после разгрома Австрии в войне 1866 г. с Пруссией.
[Закрыть]. В ту пору сын вольного ганзейского города не питал ни малейших симпатий к Пруссии и ее сторонникам и, когда в 1866 году дело дошло до вооруженного конфликта[65]65
Имеется в виду спровоцированная Бисмарком прусско-австрийская династическая война (15.6—26.7.1866), которая в результате поражения Австрии привела к ликвидации Германского союза, возвышению Пруссии, аннексии ею многих территорий и «объединению Германии сверху».
[Закрыть], занял позицию, равно критическую в отношении обеих сторон. Зато патриотический подъем 1870 года[66]66
Имеется в виду волна шовинизма, захватившая население германских государств в связи с началом франко-прусской войны 1870–1871 гг.
[Закрыть] захватил его в той же мере, что и каждого немца в то время, и именно с этого момента он становится убежденным почитателем Бисмарка – объединителя нации и создателя Германской империи. «Мое воодушевление было столь велико, – рассказывал он Геншелю, – что после первых поражений я твердо решил идти добровольцем и был абсолютно убежден, что найду в армии и своего отца, который явится, чтобы сражаться бок о бок со мной. Слава Богу, дела сложились иначе». Его вкладом в победу немцев стала «Триумфальная песнь» для хора и оркестра на текст из Священного писания – произведение, которое он вполне мог бы назвать и «Немецкий Те deum». Это грандиозное, во многих отношениях необычное сочинение после первой мировой войны было – по понятным причинам – почти забыто. Однако оно вполне заслуживает, чтобы его открыли заново – сколь ни трудно полностью отделить его от тех давних обстоятельств, что его породили. Правда, у Брамса есть более значительное произведение, которое намного проще и в котором патриотические настроения композитора выражены в более спокойной и менее демонстративной манере, – это «Торжественные и памятные речения» для хора без сопровождения, посвященные им – в ответ на присуждение ему звания почетного гражданина Гамбурга – бургомистру Петерсену и достойные того, чтобы занять свое место в ряду лучших произведений для хора a capella всех времен.
Как ни странно, Брамс был единственным из знаменитых музыкантов своей эпохи, кто упорно отклонял предложения о заграничных турне; исключение составляют поездки в Италию – с целью отдохнуть и развлечься. Возможно, отчасти виной тому его недостаточное знание языков, но главная причина, видимо, его поразительный старомодный страх перед незнакомой обстановкой, необходимостью появляться на людях в чуждом окружении, или, проще говоря, перед всем тем, что способно нарушить его «уют» – словечко, которое постоянно встречается в его высказываниях. Впрочем, он сам все объяснил на сей счет с предельной простотой и убедительностью, когда – в 1892 году – вновь возник вопрос о присуждении ему степени почетного доктора Кембриджского университета. Тогда же эта награда была предложена его знаменитому современнику Верди, который, однако, вежливо отклонил ее, поскольку он – правда, будучи на двадцать лет старше Брамса – побаивался поездки в Англию, где неоднократно бывал в молодости. Ирландскому композитору Стенфорду, профессору музыки в Кембриджском университете, Брамс пишет: «Дорогой и глубокоуважаемый господин Стенфорд! Я с трудом берусь за перо, ибо просто ли, выразив столь бесконечную признательность, сказать тем не менее «нет»? И все же: я от души благодарен Вам за Вашу любезность и Вашему университету за оказанную мне высокую честь, и, однако же, мой ответ насчет июля сведется к «нет», даже если сегодня мне и очень хотелось бы не признаваться в этом ни Вам, ни самому себе, надеясь убедить нас обоих в обратном. Но прежде всего: согласитесь, я не могу приехать в Кембридж, не побывав также и в Лондоне, а приехав в Лондон, не побывать во множестве мест и не принять участия во множестве дел – и все это в разгар лета, когда и Вам самому, конечно же, куда приятнее было бы прогуляться со мною, скажем, по берегам какого-нибудь прекрасного озера в Италии. Мне очень соблазнительно Ваше приглашение. И к тому же: разве не будет это подлинно прекрасный праздник музыки и разве не нужно мне опасаться, что старик Верди посрамит меня, превзойдя молодостью и признательностью?! Но как ни хотелось бы мне сегодня, уступив своему влечению, дать обещание приехать, я слишком точно знаю, что, когда настанет час, я не сумею решиться на поездку и на все то, что с ней связано».
Можно лишь пожалеть, что Брамс и Верди никогда не встречались друг с другом. При всем их несходстве в том, что касается художественного темперамента, они обнаруживают много общего, если говорить о таких свойствах, как мужественная прямота, бескомпромиссность убеждений, честность в выражении собственного мнения. И хотя Брамс в пожилые годы старательно избегал оперы, он всегда оставался искренним поклонником своего итальянского коллеги.
В Лондоне у Брамса, не в последнюю очередь благодаря неослабным усилиям его друга Иоахима, проводившего там, как правило, по нескольку месяцев в году, составился неуклонно растущий кружок поклонников и почитателей. Но он оставался тверд в своем нежелании побывать там лично. Иоахим соблазняет: «Жаль, что твоя неприязнь к чужой для тебя обстановке и твоя gene[67]67
Стеснительность (франц.).
[Закрыть] удерживают тебя вдали отсюда. Здесь знают и любят твою музыку и почитают тебя, как никого другого…» Брамс отвечает: «За твое приятное сообщение искренне благодарю. Я предпочту все же узнать обо всех этих столь приятных и столь замечательных вещах из рассказа, нежели самому пережить все это и всю суету в придачу… И конечно, даже если я и не недооцениваю вашу работу в искусстве и вашу увлеченность, то опять-таки меня вполне устраивает та толика независимости, которая у меня есть, и то, что английский фунт не имеет у меня хождения и что я теперь могу спокойно думать о предстоящей мне весне в Сицилии».
Понятно, что признанный художник, которому богатейшей мерой отпущены лавры и успех, становится к ним более или менее безразличен. Однако Брамс уже в молодые годы был не слишком склонен приносить жертвы повседневному тщеславию, и именно это, пожалуй, уже с тех давних пор сделало его непригодным для придворной службы. Он не терпел зависимости в любой форме, и это проявлялось еще в то время, когда он, совсем молодым человеком, служил в Детмольде. Тогда – в 1861 году – он писал Кларе: «Ты, возможно, подумаешь, что место при этом маленьком дворе весьма заманчиво. Здесь и в самом деле можно музицировать без конца, однако, к сожалению, далеко не всегда удается повеселиться от души, и тогда в конечном счете эти физиономии становятся тебе противны… Прекрасной природой ты можешь наслаждаться и сам по себе, но, когда творишь музыку в зале и в присутствии людей, не хочется оставаться в одиночестве…». Единственный раз более или менее прочные придворные связи возникли у него в пожилые годы, когда благодаря Гансу фон Бюлову ему удалось установить тесный творческий контакт с придворной капеллой в Мейнингене. Но даже здесь, невзирая на предельно дружелюбное, далекое от всяких формальностей отношение герцога и его супруги, баронессы фон Гельдбург[68]68
Гельдбург Елена фон (1855–1923) – драматическая актриса, жена герцога Саксен-Майнингенского Георга II (1826–1914), вошедшего в историю под именем «театральный герцог», поскольку вся его жизнь была посвящена реформаторской деятельности в драматическом театре.
[Закрыть], Брамс держится за свою независимость. В ответ на повторное приглашение баронессы провести лето в имениях герцога он пишет ей (1887 год): «Я думаю, Вы нередко считаете меня человеком неблагодарным и не вполне добросовестным, и в известном смысле Вы, вероятно, правы. Речь идет о тех случаях, когда мне предоставляется возможность насладиться Вашей бесконечной, замечательной добротой и дружелюбием. Иной раз я действительно от души наслаждаюсь ими. Вы это сами видели и вряд ли сомневаетесь в этом. Но я слишком часто избегаю этого, а Вы не можете понять, почему. Позвольте поэтому мне здесь признаться, что в подобных случаях я не обманываю, но и не вполне откровенен: истинный, честный ответ просто застревает у меня в горле, потому что я не люблю говорить о себе и особенностях своей натуры. Объясняется это просто: мне требуется абсолютное одиночество – не только для того, чтобы создать все то, что я могу, но и вообще для того, чтобы подумать о своих делах. Это от природы заложено во мне, но это и очень просто объяснить. Дело в том, что мы, «малые мира сего», принуждены как можно раньше уяснить себе, от чего нам, как ни печально, необходимо отказаться… Но теперь, когда передо мной лежит уже законченное новое большое произведение [двойной концерт для скрипки и виолончели. – Авт.], я, не без удовольствия глядя на него, должен признаться себе: я не написал бы его, если бы не имел прекрасной возможности радоваться жизни на Рейне и в Берхтесгадене [в имениях герцога. – Авт.]». Характерно, с какой простотой и откровенностью он высказывает здесь свое недовольство условностями придворного этикета, и без обиняков признается: «Я не могу себе позволить даром растрачивать время – даже с такими милыми, благородными и щедрыми людьми, как Вы». И великолепна гордость, с какой этот человек, подлинный властелин в своем деле, относит себя к «малым мира сего», к коим он принадлежит от рождения и по происхождению.
В Мейнингене, в сентябре 1895 года – то был последний год, когда Брамс чувствовал себя несокрушимо здоровым, – ему довелось пережить величайший триумф в своей жизни: праздник музыки, в программе которого под руководством Фрица Штейнбаха[69]69
Штейнбах Фриц (1855–1916) – немецкий дирижер, известный своей интерпретацией произведений Брамса.
[Закрыть] получило великолепное практическое воплощение выражение Бюлова «Три гиганта с фамилиями, начинающимися на букву, Б» – Бах, Бетховен, Брамс. Наряду с баховскими «Страстями по Матфею» и «Missa Solemnis» Бетховена была исполнена его «Триумфальная песнь», наряду с бетховенским фортепианным концертом ми-бемоль мажор – его двойной концерт и Первая симфония, наряду с камерными произведениями Бетховена – его камерная музыка. И порадоваться этому празднику собрались слушатели со всех концов Европы. Ради такого торжественного случая Брамс даже появляется во фраке и с белой бабочкой. Однако в этом парадном костюме его можно встретить уже ранним утром; переодевание для концертов и праздничных приемов – это для него уже слишком: «И уж если я вынужден надевать фрак, то лучше сразу надену его утром, чтобы потом весь день не знать никаких забот».
Вскоре после этого, в октябре 1895 года, его «Триумфальная песнь» – наряду с Девятой симфонией Бетховена – прозвучала еще раз, в только что построенной цюрихской Тонхалле[70]70
Тонхалле – название концертного зала в г. Цюрихе.
[Закрыть], где вместе с портретом другого гиганта музыки на него взирал из-под потолка его собственный портрет. Еще при жизни он был вознесен на Олимп – до него это удавалось немногим.
Но он уже считал свой творческий путь завершенным. Летом предыдущего года вышел из печати солидный том его Собрания немецких народных песен. Явно с умыслом он обращает внимание Клары, что одна из этих песен – «Луна взошла украдкой» – использована в первой сонате для фортепиано: «Может быть, ты заметила, что последняя из этих песен возникает в моем Op. 1? Может быть, у тебя возникли при этом и кое-какие мысли? Собственно, в этом действительно есть некий смысл; это – как змея, жалящая свой собственный хвост, то есть символ, который означает: все, история окончена, круг замкнулся!» То же самое пишет он Зимроку: «Кстати, Вы заметили, что как композитор я явственно сказал свое «прощай»? Последняя в сборнике народных песен и она же в моем опусе № 1 – это как бы змея, жалящая свой собственный хвост, то есть просто-напросто символ, означающий, что история окончена».
Недремлющий, неизменно присутствующий в Брамсе инстинкт не обманул его и на этот раз. Он не хочет в это верить; уже тяжело больной, он продолжает говорить «о небольшой бюргерской желтухе», стараясь создать впечатление, будто он уверен, что поправится. Но он знает, что час его пробил, и приводит в порядок свой дом, уничтожая все, о чем он не хочет поведать грядущим поколениям. У него в квартире не осталось и следа каких-нибудь неопубликованных сочинений. Со своим «Мамоной», как он называл свое состояние, он был менее осмотрителен. Его завещание не было признано законным, что повлекло за собой многолетний спор о правах на наследство.
Друзья
В той сложной мозаике, из которой складывается изображение человеческого характера, друзья и дружеские отношения составляют весьма существенную часть. Применительно к Брамсу это тем более справедливо, поскольку он постоянно испытывал потребность в людях, в общении, в личных связях. Эта потребность не только не противоречит его привычке к одиночеству, свойственной ему как творческой личности и как живущему особняком холостяку, но, напротив, именно этой привычкой и обусловлена. Общение с людьми было ему необходимо как противовес, как отдых от экстатических видений, которыми он жил в минуты творчества. Поэтому его так часто можно было видеть на людях и поэтому же так богата его переписка. Читатель, вероятно, уже заметил, сколь интересен он был как автор писем, насколько точен и пластичен его язык, насколько содержательно любое из его сообщений, при всей их краткости и торопливости, ибо он терпеть не мог попусту тратить время. Правда, иногда он пишет не очень понятно; но причина тому коренилась в его характере, в известной стыдливости, которая мешала высказать то, что он чувствовал на самом деле. Иной раз это может показаться своего рода позой – особенно когда он, как бы вскользь, как о чем-то несущественном, говорит о том, что для него как раз чрезвычайно важно. Иногда он сам жалуется на какие-то внутренние препоны, мешающие ему высказаться открыто. Так, в одном из писем Кларе он, поздравляя ее с днем рождения, признается: «Собственно, я всегда пишу лишь половину фразы, а другую половину читатель пусть додумает сам!» В других случаях эти препоны дают ему повод для шутки – как, например, в письме Бернгарду Шольцу: «Я знаю за собой несносную привычку писать коротко, но неясно». Неясность неизменно была порождена какой-то из этих препон.
При всем том он добрый, верный, надежный друг. «Я привык относиться к дружбе очень просто и очень серьезно», – написал он однажды Альгейеру[71]71
Альгейер Юлиус (1829–1900) – талантливый гравер по меди и фотограф.
[Закрыть]. Его друзья знали это, они его любили и уважали, но в то же время и побаивались, потому что никогда нельзя было понять, в каком он настроении. К тому же он мог жестоко обидеть. Иногда создается впечатление, что больше всех страдал от этого он сам. Однако он никогда не снисходил до извинений – так же как не мог удержаться от ехидного замечания, если оно пришло ему в голову. В его прямоте был элемент садизма, равно как в его прорывающейся порой агрессивности присутствовало нечто вроде стремления отомстить за ту боль и те несправедливости, которые ему причинили другие. Поэтому отношения Брамса с друзьями постоянно омрачались какими-то недоразумениями. Причем пострадавшей стороной, пожалуй, оказывался в большинстве случаев именно он – тот, кто, собственно, и был виновником этих недоразумений. И тогда он становился способным на признания, поразительные в своей горечи, – вроде того, о котором сообщает Евгения Шуман, дочь Клары: «У меня нет друзей! Если кто-нибудь скажет, что он дружит со мной, не верьте ему!» Бильрот цитирует его афоризм: «Никому не дано заглянуть в душу другого» – в наибольшей мере в нем, пожалуй, отложился опыт самопознания самого Брамса. Но именно поэтому так важен тот свет, что проливают на него лучи дружеских связей. Многие его свойства каждый из друзей воспринимал по-своему, в соответствии с собственным характером; но в перекрестье этих отдельных лучей возникает все же более или менее законченная картина.
В молодости друзьями становятся быстро. В той своей первой поездке по стране двадцати летний Иоганнес, помимо Иоахима и чтимого превыше всех Шумана, встретил еще двоих людей, которые на всю жизнь стали его друзьями: Альберта Дитриха и Отто Юлиуса Гримма. Крепкие, уверенные в себе музыканты-профессионалы, люди с характером, оба они тем не менее как художники не вышли за пределы благопристойной посредственности. Юный и неопытный, Брамс был склонен переоценивать друзей, превосходивших его практическими познаниями, равно как он в ту пору переоценивал и композиторское дарование Иоахима. Однако эти музыканты, будучи несколькими годами старше, уже успели повидать свет и разбирались в вещах, в которых Иоганнес, как он сам сознавал, был полным невеждой. Секреты оркестрового звучания и его воплощения в партитуре были ему еще в значительной мере недоступны, и даже камерно-ансамблевая музыка, в силу пробелов в его знании смычковых инструментов, была для него проблемой. Его фантазия целиком ориентировалась на фортепиано, которым он владел вполне уверенно. Поэтому прежде всего он стремится научиться у друзей чему-то новому, ибо ему присуща неутолимая жажда знаний.
В начале 1854 года он написал первое свое камерное произведение, которое опубликовал, – фортепианное трио си мажор. А летом того же года – уже после катастрофы с Робертом Шуманом – мы застаем его за сочинением симфонии, в итоге долгих трудов превратившейся в фортепианный концерт ре минор. Он посылает Иоахиму только что законченную часть партитуры и пишет: «Что касается моей партитуры, то ты о ней слишком высокого мнения. Я уже просил фрау Шуман передать тебе, что всеми удачами в ней я обязан Гримму, советы которого мне здорово помогли. Ее недостатки и просчеты – пожалуй, даже не слишком скрытые – Гримм либо проглядел, либо не стал исправлять, уступив моему упрямству… Склонен ли ты поощрить меня к работе над другими частями? Сам себе я кажусь до глупости дерзким…»
Здесь уместно вспомнить об одном его замечании, высказанном много лет спустя в переписке с Иоахимом по поводу двойного концерта: «Но теперь, когда наш концерт лежит перед тобой, уже напечатанный, прошу тебя: не считай меня вздорным лицемером за то, что я порой настойчиво испрашивал твое мнение, чтобы затем остаться при своем. В частности, прошу простить меня за вот это место [далее цитируется один из эпизодов финала. – Авт.]…Когда будешь играть сам, можешь исправить его снова, и я предпочту услышать его в этом виде у тебя, нежели в моем варианте – у любого другого!» Нечто подобное, однако, он мог бы написать и в молодые годы – тому же Иоахиму, да и всем остальным. Он очень часто неуверен в себе, просит совета и благодарен за любую подсказку; однако советчику не так-то просто порекомендовать хоть какую-нибудь поправку этому художнику, отличающемуся такой глубиной мышления и такой цельностью и органичностью композиторской манеры. И решает в конечном счете он сам, руководствуясь прежде всего собственным критическим разумением. В рукописной партитуре двойного концерта есть страницы, дающие возможность сопоставить три различных варианта: первоначальный авторский, уязвимый по тем или иным техническим причинам; альтернативный, вписанный рукой Иоахима; и, наконец, итоговый, уже предназначенный для печати, где использованы технические указания Иоахима, но найден иной, более соответствующий авторской идее путь, который в состоянии найти лишь сам композитор. Иоахим вообще был для него всю жизнь незаменимым советчиком не только как скрипач и опытнейший камерный исполнитель. Брамс всегда чрезвычайно высоко ценил и его мнение в вопросах композиторской техники. Как композитор, Иоахим, впрочем, не добился тех успехов, которых он от него ожидал. Но Брамс – иногда с искренним сожалением – приписывал это исключительно той необыкновенной энергии, с какой его друг отдавался деятельности интерпретатора – скрипача-виртуоза, первой скрипки в квартетах и дирижера. Советы Иоахима для молодого Брамса были необходимостью, для Брамса зрелого – ценностью, приобретавшей иной раз решающее значение. А как скрипач, как музыкант-исполнитель Иоахим всю жизнь оставался для него мерилом высочайших свершений. Брамс пишет ему о Кларе, которая после заболевания Шумана впервые вновь отправилась в концертную поездку: «Она играет абсолютно с прежней силой, только более выразительно – в большей мере напоминая тебя. Вчера она сыграла мне мою фа-минорную сонату – именно так, как я ее задумал, но с большим благородством, со сдержанным воодушевлением, к тому же чисто, прозрачно, а в кульминационных эпизодах – великолепным звуком – словом, со всеми маленькими преимуществами, которые у нее есть передо мною».
Брамс никогда не успокаивался на достигнутом, его отличали неусыпная самокритичность и огромная требовательность к себе. Именно ему пришла в голову идея, которую оба друга упорно проводили в жизнь в течение многих лет Впрочем, Брамс все же выказывал здесь куда больше энергии и целеустремленности, нежели Иоахим. Иоахиму явно недоставало высоких творческих амбиций, и Брамс постоянно теребил и подталкивал его. Он пишет Иоахиму (февраль 1856 года): «Теперь, однако, хочу тебе напомнить о том, о чем мы с тобой уже не раз говорили, а именно об обмене упражнениями в контрапункте, и попросить тебя взяться наконец за дело. Каждый должен посылать свои работы примерно раз в четырнадцать дней; другой возвращает их (то есть через восемь дней), сделав соответствующие замечания, и высылает свои – и так до тех пор, пока мы оба не поднатореем в этом деле. Неужели же мы, вполне разумные, серьезные люди, не сумеем обучить друг друга лучше всяких профессоров?.. Заранее радуюсь в надежде получить вскоре первый пакет. Будь же серьезен! Ведь это было бы так здорово, так приятно, так полезно».
Две недели спустя он пишет: «Посылаю два небольших сочинения – в знак начала наших совместных занятий. Если у тебя еще не пропала охота к этому предприятию, то я хотел бы сообщить тебе о некоторых условиях, которые считаю необходимыми. Работы – туда или обратно – должны высылаться каждое воскресенье. В одно воскресенье, например, посылаешь работу ты, в следующее – я возвращаю ее назад вместе с собственной и т. д. Но если кто-то пропустит день, т. е. ничего не пошлет, то он обязан вместо работы выслать талер – на который другой мог бы купить себе книги!!! Только в случае, если вместо упражнений будет послано какое-нибудь сочинение, виновный будет прощен и даже принят с еще большей радостью… Годятся: двойной контрапункт, каноны, фуги, прелюдии – что угодно».
Теперь наконец работа живо подвигается вперед; однако создается впечатление, что юный Брамс зарабатывает денег на книги куда больше, чем его партнер. При этом еще его же терзает совесть: «У меня такое ощущение, что я вроде бы пока не отблагодарил тебя за твой великолепный штраф. Я очень рад этим деньгам, однако предпочел бы регулярно получать твои работы и письма, нежели деньги в счет штрафа». Он по-прежнему посылает Иоахиму свои упражнения. «Отсылаю тебе вновь мои прежние каноны. Можно ли назвать это – отвлекаясь от искусности – просто хорошей музыкой? Не придает ли ей искусность еще большую красоту и ценность? Отметил ли ты что-нибудь особо? Я ничего об этом не знаю! Посылаю вдобавок еще несколько небольших канонов. Особенно хотелось бы узнать твое мнение по поводу четырехголосного кругового канона. Еще прилагаю работу, которая мне, видимо, трудна и которую я прошу тебя – или предоставляю тебе – закончить самому: канонические имитации (весьма свободные) в стиле cantus firmus[72]72
Сильное, или твердое, пение, прочная, неизменная мелодия (лат.).
[Закрыть]… Я все же храню все листы с нотами, которые ты мне прислал. Я обязательно хочу их сохранить; может быть, позднее мы посмотрим их вместе и, как я надеюсь, обнаружим, что сделали замечательные успехи».
Иоахим в связи с последним заданием отвечает: «Чтобы сдержать слово, посылаю тебе требуемые контрапунктические этюды на заданную тему… Это нелегкая работа, и мои каноны против твоих – с их характерностью и точностью – выглядят рыхлыми и неуверенными, как ритмически, так и по части голосоведения. Я ведь начинающий, так что имей терпение: я должен попробовать еще раз». В это же время он пишет Гизеле фон Арним: «С некоторого времени я состою с Брамсом в своего рода музыкальной переписке: мы посыпаем друг другу свои упражнения в трудных формах. Такая форма музыкального общения мне очень дорога: благодаря ей я остаюсь духовно близким тому, в ком всем сердцем заинтересован, к тому же мой друг, хоть он и моложе, уже владеет этими видами композиции с настоящим мастерством. Я же в своих занятиях ими никогда не заходил дальше изучения обязательных грамматических азов. Так что это общение стимулирует меня и в творческом отношении».








