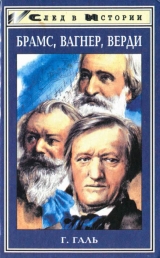
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
Правда, совесть его в отношении этой кантаты была не совсем чиста. Свидетельство тому – одно из писем Рейнталеру, где Брамс, обычно ярый противник всякого рода крайностей в инструментовке, пытается свести самое существенное в «Ринальдо» к особенностям звучания: «Я постарался найти время для этого клавираусцуга [ «Ринальдо». – Авт.] и посылаю его тебе – хотя и не без робости. Еще бы! Убежден, что все действительно красивое и прекрасное в этой вещи теперь и вовсе не разглядеть. А партитуру послать не могу. Тем более хотелось бы, чтобы вещь хоть немного понравилась тебе и так. Если же не понравится, то, значит, это точно: все самое главное в ней – в партитуре». Если бы речь шла о реквиеме, подобное ему и в голову бы не пришло! И все же, хотя «Ринальдо» отнюдь не шедевр, в нем всюду видна рука мастера. В особенности это чувствуется в масштабности и пластичности построения кантаты – что в принципе вообще характерно для хоровых произведений Брамса.
В этом плане, а равно в силу величавой отрешенности, над-личностности выражения к сочинениям большого стиля следует отнести и «Четыре строгих напева», хотя они как произведение, написанное для баса в сопровождении фортепиано, скорее принадлежат к разряду песен. Есть особого рода монументальность, создаваемая самим характером выражения, а никак не объемом произведения или спецификой использованных в нем художественных средств. Именно такого рода монументальность и свойственна музыке Брамса, и именно поэтому ее нередко не замечали. Он никогда не считал нужным повышать голос, чтобы сказать нечто важное: значительность высказывания для него определялась его содержательностью, но никак не эмфатической интонацией. Здесь, в «Четырех строгих напевах», высказывается в первую очередь сам композитор; слова суть выражение того самого сокровенного, что может высказать человек, уже освободившийся от груза земных условностей и предрассудков. Это вещь, осознанно написанная как прощальное произведение, если таковые вообще есть в природе. Во всяком случае, это достаточно «языческое» творение, чуждое всякой конфессиональности, и притом настолько человечное, что вопреки своему крайнему пессимизму и скептицизму оно производит возвышенное впечатление, оказывает умиротворяющее воздействие. И еще раз текст Священного писания, предельно лапидарный в выражении мысли, предоставил ему все необходимое, чтобы высказаться.
В этих четырех пьесах – песнями их назвать, пожалуй, все же невозможно – все поражает своими сверхчеловеческими масштабами: и сама мысль, и вокальный стиль, и фразировка. Чрезвычайны даже требования к исполнителю, голос которого должен обладать и ясностью звучания в глубочайших басовых регистрах, и абсолютной свободой на предельных верхах (включая соль первой октавы). От беспощадной мудрости проповедника – царя Соломона к высказываниям Иисуса сына Сирахова и далее – к первому посланию к коринфянам апостола Павла – таков здесь путь развития чувств, что ведет от горчайших страданий и сострадания к евангелию любви как высочайшему откровению. Всюду ощущается та потрясенность, то глубочайшее волнение, которое владело композитором, пока он создавал этот цикл, и от которого он освобождался, перенося музыку на бумагу. У Брамса нет более ни одного произведения, которое столь непосредственно выражало бы его переживания. Для создания музыки такой силы требуется та творческая дисциплина, что достигается лишь ценой беспощадного самовоспитания на протяжении всей жизни художника.
«…Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти…» Леденящим холодом веет и от этих слов, и от самой музыки. Даже в страшном взрыве отчаяния, что, опрокидывая любые преграды, затопляет все вокруг, бушует леденящий холод: «Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится во прах». И единственное утешение, которое нам остается, сводится к осознанию той истины, «…что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это – доля его». В очередной раз мы сталкиваемся здесь с одной из тех загадок, что так часто загадывает нам музыка, когда пытаемся понять, как из этих слов могла родиться столь величественная, столь совершенная, столь монолитная музыкальная композиция. Впрочем, это можно сказать о каждом из четырех напевов. И притом каждый из них сугубо индивидуален, каждый оригинален и неповторим как с точки зрения формы, так и по характеру выражения.
«И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила…» И в этой пьесе звучит отчаяние – только сострадающего, который бессилен помочь. Когда проповедник возглашает: «И ублажил я мертвых», мы буквально падаем в бездну. Но высшего эмоционального накала музыка достигает, когда возвещается, что лучше всего еще не родившимся на свет, тем, «кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем», и что зло и страдания на земле неистребимы. Отчаяние, звучащее в музыке в этот момент, выше человеческих сил. Слово проповедника – беспощадная истина. Но музыка превращает эту истину в высказывание, исполненное огромной человечности. Все здесь – бесконечная в своем течении мелодия, все – музыкальное выражение в его кристально чистом виде.
В третьей пьесе, однако, накал чувств становится еще сильнее. Это кульминация всего произведения. Именно здесь возникает то эмоциональное состояние, из которого оно родилось. Фразы, равной по смелости той, что без всякого вступления открывает пьесу, Брамс никогда прежде не создавал:

«О смерть, о смерть, как горька, как горька ты!»[124]124
Русский канонический перевод: «О смерть! как горько воспоминание о тебе…»
[Закрыть] Весь долгий жизненный опыт потребовался Брамсу – лирику и симфонисту, – чтобы суметь написать эту музыку. Чтобы почувствовать то, о чем говорит эта пьеса, человек должен уже полностью отрешиться от всего, что его еще связывает с этой жизнью, и найти в себе силы без страха и иллюзий заглянуть в собственную могилу. Единственной в своем роде, отрешенной от всего реального красоты музыка достигает в момент, когда фраза о горечи смерти переворачивается и смерть является уже как избавительница: «О смерть! отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды…» А потом вдруг музыка как бы перебрасывает мостик через многие годы, когда в самом конце «дух воспоминаний» привносит в нее заключительную фразу той «Колыбельной», что когда-то спел совсем еще молодой Брамс и что давно уже стала чуть ли не народной песней.
Трудно представить себе, как от этой пьесы проложить тропинку, ведущую в ином направлении – к позитивному взгляду на бытие. Мы достигли вместе с нею того пункта, где в «Немецком реквиеме» раздается крик отчаяния: «И ныне чего ожидать мне, Господи?» В четвертом напеве ответом служит мудрость, едва ли не самая замечательная из всех когда-либо выраженных в слове: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею…» Любовь, таким образом, – любовь в высшем, всеохватывающем смысле – и есть цель, надежда и единственное оправдание человеческого бытия.
С точки зрения формы из всех пьес эта наиболее грандиозная. По масштабности, величественности мысли, по контрастности выражения она вполне сопоставима с одной из частей симфонического произведения. Вторая тема этой симфонической части – чудесная в своей пластичности мелодия на слова «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло…». Эта же мелодия возникает и в заключении, когда из фразы «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» вырастает последняя, самая главная из истин: «…но любовь из них больше». Брамс, который в течение всей жизни никому не давал заглянуть в свой внутренний мир, высказывает здесь собственный символ веры. Здесь во весь голос заявляет о себе тоска человека, который никогда не имел возможности выразить свои самые благородные, самые живые чувства иначе как в музыке. И здесь перед нами буквально его последнее слово, та его последняя, сокровеннейшая мысль, которую он должен был выразить как человек и художник.
Четыре времени года художника
Если вспомнить о временной протяженности творческого пути Брамса, примерно равного в этом смысле дистанции, разделяющей вагнеровские «Риенци» и «Парсифаль», то следует признать, что развитие его стиля протекало в довольно тесных хронологических рамках. В первую очередь это обусловлено необычайно ранним созреванием его таланта – в противоположность вагнеровскому. Брамс начинал как уже вполне сложившийся художник. Шуман был совершенно прав, увидев в юном Брамсе того, «кто выкажет нам свое мастерство не в постепенном развитии, но, подобно Минерве, вышедшей из головы Крониона, явится в полном вооружении». В той же мере это относится и к самому Шуману, а равно и к его современникам Мендельсону и Шопену. Уже в ранних произведениях этих художников их стиль оказывается настолько определившимся, что на протяжении всего их дальнейшего творческого пути в нем практически уже не происходит сколько-нибудь существенных перемен. У Брамса, чья жизнь и чья карьера продолжались значительно дольше, стилевое развитие гораздо более заметно. Тем не менее очень многое из того своеобразия, которым отличались уже ранние произведения, навсегда сохранилось в его творчестве, а изменения в манере на протяжении его жизни настолько спокойны и постепенны, что говорить применительно к нему, как это делается в отношении Бетховена, о различных стилевых периодах в творческой эволюции вряд ли целесообразно. Что действительно можно заметить у Брамса, так это изменения в творческой психологии, которые, естественно, оказывали воздействие и на стиль. Знатоку его музыки не составит труда достаточно точно определить, на какое десятилетие жизни приходится создание той или иной его вещи.
Разделение творческого пути на три стилевых периода, верное в отношении Бетховена и многих других художников, неприменимо к Брамсу прежде всего потому, что процесс духовного созревания продолжался у него необычно долго, а полной зрелости он достиг уже в весьма солидном возрасте. Однако такой тип творческого развития у деятелей искусства совсем не редкость. Помимо Брамса, он характерен для Вагнера, Верди, а также, пожалуй, и для Гайдна и Генделя. Для подобных случаев, видимо, гораздо больше подходит периодизация, соответствующая обычному физиологическому развитию живого организма. Наиболее наглядный символ ее – смена времен года в природе. Весна с ее молодыми побегами – как время становления; лето – когда во всей своей мощи развертывается процесс созревания; осень – пора сбора урожая; зима – фаза постепенного упадка, отлива жизненных сил – вот те периоды, на которые проще всего разделить творческий путь Брамса в параллель к его жизненному пути.
Весна жизни Брамса, творческой кульминацией и одновременно завершением которой явилось трио си мажор, – эта весна оканчивается катастрофой с Шуманом, событием, которое перевернуло душу молодого композитора и последствия которого надолго выбили его из колеи. Связанные с ним болезненные переживания в течение многих лет оказывали воздействие и на его жизнь, и на его творчество. Отсюда естественно вытекает и следующая конечная дата: она связана с Первой симфонией, последним произведением, корни которого уходят в то памятное время и которое он заканчивает на сорок четвертом году жизни. Это пора возмужания, лето его жизни: душное, грозовое, с частыми сменами погоды и нередкими бурями – беспокойное время борьбы, странствий, поисков, душевной угнетенности, время сменяющих друг друга успехов и неудач, внутренней и внешней неустроенности. Скорее всего, это был мучительный для него период, хотя сам он почти ничего не говорил об этом. Именно тогда в Брамсе развивается характерный для него стоицизм, воистину героическая способность подавлять свои чувства и держать в узде свой душевный хаос – точно так же как одновременно он учится обуздывать формой хаотичный, взрывчатый от природы мир своей музыки.
Летняя пора жизни и творчества Брамса разделяется на две части одним важным событием: первой поездкой в Вену, решившей его судьбу. Стилевая граница, проложенная 1862 годом, определяется довольно точно. То, что она при этом фиксирует, есть результат импульса, которым стали для Брамса-художника новые, более богатые возможности, новое окружение, в большей мере способное оценить его гений, честолюбие, разбуженное более высоким уровнем творческого соревнования. Все это окрылило Брамса, способствовало росту его творческой продуктивности. Новые отличительные черты его стиля особенно заметны при сопоставлении обоих струнных секстетов: секстета си-бемоль мажор, датированного 1860 годом, и секстета соль мажор, относящегося к 1864 году. Эти же новые черты обнаруживаются и в той возросшей уверенности письма, которая отличает такие произведения, как виолончельная соната ми минор, трио с валторной, фортепианный квинтет, история создания которого (см. с. 124) учит нас, впрочем, что любой прогресс не исключает и неудач. Однако эти произведения уже подводят нас к тому, что непосредственно соседствует с «Немецким реквиемом», типичным произведением того великолепного периода, когда художник все более осознает себя зрелым мастером. Далее следует назвать сочинения, появившиеся в промежутке между реквиемом и последующими крупными хоровыми произведениями: «Венгерские танцы» для фортепиано в четыре руки, сыгравшие весьма заметную роль в стремительном взлете его карьеры в те годы, несколько вокальных квартетов, «Песни любви – вальсы» и более шестидесяти песен, в том числе такие жемчужины, как «О вечной любви», «Кузнец», «О, моя королева», «Майская ночь», «Путь к милой», «Колыбельная». И наконец, завершенные после долгих колебаний струнные квартеты, Вариации на тему Гайдна и фортепианный квартет до минор подводят нас к той фазе, когда мастерство композитора, его умение сочинять и воплощать достигает суверенных, лишь ему доступных высот.
В последнем из названных произведений ощутима, впрочем, некоторая скованность. Брамс сам указывал на его связь с «вертеровской ситуацией» дюссельдорфских лет, и мы знаем, что он долгие годы обдумывал эту вещь, прежде чем решился закончить ее. Заряженная страстью музыкальная идея, найденная композитором, всегда становится для него навязчивым видением, которое не дает ему покоя, пока он не обуздает ее в своем произведении. Для Брамса в данном случае подобная идея обладала, видимо, эмоциональной значимостью, выходящей за пределы ее объективной ценности. «Я уже не в силах судить и совершенно не властен над этой своей вещью», – писал Брамс в аналогичной ситуации по поводу концерта ре минор. Здесь же, в фортепианном квартете до минор, отдельные разделы первой части страдают от угрюмой, безрадостной монотонности тематического развития, обусловленного, возможно, именно этой неподвластностью воле композитора и именно потому не достигающего необходимого размаха. Клара, добрейшая Клара сразу почувствовала это (даже не подозревая, насколько близко все это ее касается). После первого прослушивания она писала Брамсу: «О квартете я долго думала; последние три части глубоко взволновали меня. А вот насчет первой части, ты уж извини, но должна сказать, что она, на мой взгляд, не на высоте. По мне, ей явно не хватает свежести дыхания, хотя оно и чувствуется в первой теме. Мне очень бы хотелось прослушать ее еще раз, чтобы разобраться, почему она не затронула меня. Может быть, тебе удастся что-нибудь изменить в ней, хотя я знаю, как подолгу ты иной раз обдумываешь каждую часть. Или, может, напишешь новую? Тебе ведь нетрудно вновь найти нужное настроение, ты ведь уже не раз доказывал это, да еще как доказывал! Впрочем, извини, возможно, я говорю глупости». Ей было невдомек, что значило для него в данном случае «настроение» и как долго и с какой болью он вынашивал эту часть.
Зато в связи с другим произведением, последним, в котором еще скрываются конфликты юношеской поры, она все это знала. Ибо она была первой, кто мог увидеть начальную часть его Первой симфонии, еще когда на рукописи, что называется, чернила не высохли, причем за четырнадцать лет до завершения всей вещи. 1 июля 1862 года она пишет Иоахиму: «Иоганнес прислал мне на днях – подумайте только, какой сюрприз – первую часть симфонии с таким вот смелым началом [следуют первые такты Allegro. – Авт.]». В ту же пору эту часть видел и Альберт Дитрих – правда, согласно его сообщению, в ней еще отсутствовало медленное вступление. Иоахим, весьма заинтересованный, пишет Брамсу: «Дорогой Иоганнес, сочту за знак твоей неизменной благосклонности, если ты соблаговолишь хоть что-нибудь сообщить мне о своей симфонии, о первой части которой мне недавно писала фрау Шуман. Напиши, не хотел бы ты, еще до Гамбурга, опробовать ее в Ганновере, собираешься ли ты вообще исполнять ее там и т. д.». Иоахим уже думает об исполнении! Брамс, однако, тем временем отправился в Вену, отложив симфонию в долгий ящик. «Я уже четырнадцать дней в Вене, – пишет он, – поэтому получил твое письмо слишком поздно, чтобы успеть послать тебе ответ еще в Англию. К тому же спешить с ответом сейчас уже нет необходимости, поскольку к словам «Симфония г-на И. Б.» вполне можешь поставить знак вопроса». Следующий факт, относящийся к симфонии, о котором мы узнаем, – это приветствие Кларе в виде темы валторны из финала, уже упоминавшееся выше (см. с. 146). Но это приветствие появилось через шесть лет после окончания первой части. И только в 1876 году, то есть еще через восемь лет, после долгих сомнений и колебаний, партитура была завершена. Брамс знал, чем рисковал, отваживаясь выступить с симфонией. К обычной для него самокритичности добавилось ныне сознание того высокого собственного авторитета, который ему теперь предстояло защищать. К тому же он отдавал себе отчет в том, что новое произведение не очень-то шло навстречу ожиданиям слушателей. Он пишет Карлу Рейнеке, дирижеру концертов в лейпцигском Гевандхаузе: «Хотел бы сделать еще одно, вероятно весьма неожиданное, сообщение, а именно, что моя симфония далеко не и отнюдь не во всем приятна».
Мрачная взбудораженность кризисных лет, доминирующая в первой части этой симфонии, определяет и то беспокойство ее звучания, какого, пожалуй, нигде больше не встретишь в творчестве Брамса. В первой части фортепианного концерта ре минор, родившейся из сходных трагических настроений, есть все же обширные эпизоды, исполненные лирического покоя. В первой части симфонии этот лиризм отсутствует; небольшой эпизод с солирующим гобоем воспринимается лишь как момент кратковременного успокоения. Даже Бильрот, наиболее восторженный из друзей композитора, в письме Ганслику, написанном после первой репетиции, где он присутствовал, именно в отношении первой части высказывается с известной осторожностью: «Хотя в громадном пустом зале возникает чудовищный резонанс, впечатление от симфонии все же великолепное. О каких-то неясностях в смысле формы не может быть и речи, при всей объемности воплощения. В полной мере это относится и к первой части, бушующей, словно могучий ураган. При всей энергии и страсти, отличающих эту первую часть, некоторые мотивы в ней мне не понравились. В ритмическом плане они слишком обстоятельны, а с точки зрения гармонии исполнены какого-то жестокого упрямства, хотя есть в них и пронзительная тоска. Это – своего рода фаустовская увертюра. Вся первая часть – скорее лишь введение к симфонии. В исполнении второй части, в ми мажоре, которую я тебе играл, оркестру не хватило тонкости, чтобы донести до слушателя ту прозрачную небесную красоту, что вырастает из этих инвенций. Третья часть просто прелестна и великолепна во всем. Последняя часть грандиозна. Соло валторны захватывает дух, и сердце бьется наперегонки со скрипками…» Письмо это лишний раз показывает, в какой мере первоначальное восприятие нового произведения соответствует той реальности музыки, какую мы в ней слышим сегодня.
Отчетливо сознавая необычную жесткость первой части, Брамс выказывает в симфонии умение точно оценить соотношение настроений в произведении в целом. Поэтому обе средние части он трактует как лирические интермеццо, а в последней с непривычной щедростью концентрирует усилия на создании впечатляющих мелодий. Интересно, что два таких ценителя, как Клара Шуман и Герман Леви, поначалу не поняли идею подобного решения проблемы формы. Леви пишет Кларе: «Последняя часть, пожалуй, самое значительное из всего, что было создано доныне в инструментальной музыке. Где-то рядом с ней стоит, по-моему, и первая часть. А вот обе средние части вызывают у меня сомнения. Как ни хороши они сами по себе, они, как мне кажется, более уместны были бы в какой-нибудь серенаде или сюите, нежели в столь масштабной по замыслу симфонии».
Как все же сложно понять произведение как великое целое! Между тем свойственную всей симфонии эмоциональную напряженность недвусмысленно подчеркивает то обстоятельство, что грозный, будто сжатый в кулак хроматический мотив, непрерывно буравящий музыку первой части и не оставляющий в ней места для успокоения, вторгается даже в исполненную покоя мелодию Andante, зловещим гостем возникая в ее пятом такте. Разорванность сознания, измученного страстью, – главная особенность этого произведения, резко отделяющая его от последующих трех симфоний, в которых композитор окончательно прощается со своим периодом «бури и натиска», обретая покой и душевное равновесие.
Вторая симфония, полная благоухания цветущей природы, изящный скрипичный концерт, скрипичная соната соль мажор с ее раскованной мелодичностью, проникающей до потаенных глубин души, – эти три произведения знаменуют собой начало периода полной зрелости мастера. Они созданы в 1877–1879 годах в Пертшахе, в течение трех счастливых летних сезонов, подаривших композитору все радости творчества. Тогда же написаны и фортепианные пьесы Ор. 76 и 79, оба мотета Ор. 74 и дюжины две песен, которые Брамс всегда сочинял в перерывах между работой над крупными произведениями. Во всех этих сочинениях чувствуется та внутренняя умиротворенность, которую обретает художник, достигнув высочайших вершин в своей творческой продуктивности. Ими начинается его осень, время, принесшее наиболее полновесные, наиболее зрелые плоды.
Высшими достижениями этого периода являются симфонии, составляющие кульминацию его жизненного пути. Они написаны попарно. Лишь год отделяет Вторую симфонию от Первой, еще стоящей на пороге этого периода, а Третья и Четвертая, также соседствующие, возникли между 1883 и 1885 годами. Все четыре разнятся между собой характером, стилем, звучанием, но это как раз и составляет неотъемлемую часть их величия.
Симфоническая форма у Брамса словно изваяна из монолитной глыбы, она стала синонимом монументального стиля в инструментальной музыке. Однако достигается эта монументальность не столько за счет объемов произведения, сколько благодаря невиданной концентрации тематического материала и исходящей от него живой энергии. В сравнении с какой-нибудь глубоко продуманной темой Брукнера тема Брамса может показаться простой и неприметной. Однако в ней таятся гигантские силы, позволяющие ей заполнить все пространство музыки, ибо она обладает неисчерпаемыми возможностями роста и развития. Существенное значение при этом имеет динамичный полифонизм Брамса. Во Второй и Третьей симфониях, равно как и в Первой, главным, что движет произведение, является, по всей видимости, центральная музыкальная идея первой части. И во всех трех произведениях эта центральная идея представляет собой полифоническую находку: две контрапунктически связанные, резко отличные друг от друга фразы, противостоящие друг другу, как две темы какой-нибудь двухголосной фуги, причем эти две фразы не только доминируют в первой части, но и протягивают свои тематические щупальца через все произведение.
В идиллической Второй симфонии использование контрапунктического компонента особенно неприметно: поначалу возникает впечатление, будто главный мотив из трех нот, впервые возникающий в басу, всего лишь фраза в сопровождении к той широкой мелодии, что попеременно запевается валторной и деревянными духовыми. Эта басовая фраза, однако, как раз и оказывается тем главным мотивом, той способной к росту и развитию идеей, что в бесчисленных превращениях пронизывает все произведение. Из нее, словно цветущие побеги, постоянно вырастают новые мелодии, и мы встречаем ее, всякий раз преображенную, и в Adagio, и в грациозной, напоминающей интермеццо третьей части, и в финале. Возможно, самый замечательный момент во всей симфонии – кода первой части, где удвоенная главная тема этой и без того пространной, щедро разработанной композиции неожиданно растекается широкой кантиленой, воистину бесконечной в своей распевности.
Двойная тема, составленная из двух контрапунктически взаимосвязанных фраз, так же характерна для симфонизма Брамса, как ритмически насыщенный мотив – для бетховенского. При этом именно здесь выявляется столь свойственный манере Брамса синтез барочного и классического стилевых элементов. К ним, однако, добавляется еще и третий, романтический элемент: то гармоническое напряжение, которое придает дополнительное своеобразие взаимоотношениям контрапунктированных фраз. В первой части Третьей симфонии в качестве главной темы перед слушателем предстает поначалу исполненная героической патетики мелодия скрипок. На самом же деле она является контрапунктом к мощному первичному мотиву из трех восходящих нот: фа – ля-бемоль – фа, который, возникая сначала то здесь, то там, воспринимается как некий девиз, а затем, превратившись в своего рода cantus firmus, звучащий в басу и в средних оркестровых голосах, подобно контрфорсам, поддерживает всю музыкальную конструкцию. Однако благодаря перекрещиванию гармоний, которое определяет характер звучания начальных тактов, в этом первичном мотиве возникает некое странное напряжение. Суть в том, что ноте ля-бемоль в мелодии противостоит недвусмысленное в функциональном плане соль-диез в гармонии (в гармоническом плане ля-бемоль играет роль вводного тона) и возникающая в результате двузначность гармонии привносит в конструкцию необычайно яркий, красочный элемент. Создается впечатление, будто вся часть вырастает из этого пышущего жизненной силой ядра, действующего наподобие аккумулятора. А в бурном, стремительном финале этот первичный мотив является уже как миротворец, озаряя коду тем несказанным сиянием, что придает ей поэтическую просветленность.
Интересно, что именно в этом пункте – в динамике полифонического начала – оба антипода встречаются. Разумеется, та непосредственность, с какой Вагнер создает обычно свои полифонические конструкции, складывая их из мотивов, найденных независимо друг от друга, для Брамса-симфониста была бы вряд ли приемлема. Однако когда контрапунктической обработке подвергается какая-то одна первичная идея, то тут взаимосвязь между современниками становится очевидной. Слушая «Антракт» к третьему акту «Мейстерзингеров», мало кто вспомнит, что начальная его тема («мотив помешательства», играющий столь важную роль в последующих медитациях Ганса Сакса) без труда обнаруживается уже в предыдущем акте. Но только там этот мотив прозвучал как контрапунктирующий голос, который впервые возникает в третьей строфе песни Ганса Сакса о сапожниках. Правда, пусть читатель не ищет его в своем клавираусцуге – аранжировщик просто проглядел эту деталь. Великолепный пример того, как сапожник и поэт, приверженный старому, но и открытый новому, едва начав философствовать, тут же становится схоластом.
Странная особенность Вагнера состоит в том, что его вокальные мелодии редко равны его же инструментальным. Даже в самые вдохновенные моменты мышление Вагнера носит скорее оркестровый, нежели вокальный характер. Разумеется, это обстоятельство сказалось и на его музыкально-драматических теориях. Напротив, у Брамса синтез вокального и инструментального мышления столь же естествен, как у Моцарта или Шуберта. И потому кантиленность – общий знаменатель для него и как для автора крупных хоровых сочинений, и как для симфониста.
Учитывая плотность полифонической структуры в симфониях Брамса, это может показаться парадоксом. И тем не менее каждую часть любой из его симфоний можно спеть от начала и до конца как одну непрерывную мелодию. Ибо при всей сложности полифонических сплетений линия тематического развития в них настолько ясна, что воспринимается как единый могучий поток, не оставляющий никаких сомнений насчет того, где именно свершаются главные музыкальные события. Правда, от слушателя требуется предельная концентрация внимания, чтобы при этом понять данную конкретную часть именно как целое. Равным образом лишь зрелый, вдумчивый интерпретатор способен устоять перед соблазном выстроить эту часть как целое из отдельных небольших деталей, вместо того чтобы выделять эти детали из единого потока, до конца прочувствованного именно как целое. Во вступлении к финалу Первой симфонии вслед за мелодией валторны звучит хоральная фраза, вновь возникающая в конце в ускоренном «alia breve» в качестве динамической кульминации. И если дирижер заставит, ради помпезного великолепия, прогреметь эту фразу вдвое медленнее, чем следует, то целостность части будет им полностью утеряна – пусть даже он и добьется при этом минутного эффекта.
Однако все, чего может достичь – если говорить о симфонизме в рецептивно-интерпретаторском плане – слушатель или исполнитель, есть лишь отблеск того, что достигнуто композитором и что является (еще раз подчеркнем это) актом творческого созидания. Созидания, движимого вдохновением, но в равной мере руководимого и трезвым, самокритичным рассудком художника.
Создание музыкального языка, способного на такого рода свершения, явилось результатом многолетнего и неуклонного роста мастерства. Теперь, когда Брамс достигает вершин, кажется, что ему просто плывет в руки то, что прежде должно было вызреть и требовало бесконечного терпения. Это же можно сказать о технике оркестрового письма, которая, как упоминалось, давалась молодому музыканту с огромным трудом. Когда вокруг Брамса еще бушевали полемические бури, о его оркестровом стиле было написано немало глупостей. Действительно, если единственным мерилом оказывается красочная оркестровая палитра Вагнера, то скуповатая на краски, иной раз аскетичная инструментовка Брамса воспринимается просто как вызов критике. Вялые, блекло-серые тона так же характерны для звучания оркестра у Брамса, как пурпурные – у Вагнера. Но Брамс слышит совершенно иначе, и структура его музыки в корне отлична от вагнеровской. И если согласиться с тем, что идеальным будет звучание, которое способствует выявлению общего рисунка композиции, то к оркестру Брамса нечего добавить.








