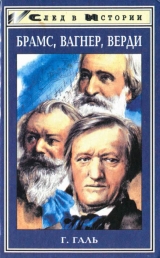
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Как видим, ни в отсутствии самокритичности, ни в недостатке доброй воли Иоахима обвинить нельзя. И все же наибольшую пользу из этого курса высшей школы контрапункта извлек именно Брамс. Благодаря таким занятиям его и без того уже чрезвычайно высокая композиторская техника достигла того непревзойденного мастерства, которое восхищает в каждом такте его музыки. Иоахим, по своим природным задаткам более расположенный, видимо, к практической деятельности, как композитор выступал сравнительно редко. Он всегда оставался верным поклонником и советчиком своего друга и не только с бескорыстной радостью следил за его карьерой, но и активно содействовал ей как исполнитель. Каждое новое камерное сочинение Брамса сначала проходило через его руки; ни одно из оркестровых произведений Брамса не отправлялось в печать, прежде чем его друг не заглядывал в партитуру своим критическим оком. Трагическое стечение обстоятельств на долгие годы отдалило их друг от друга, и оба тяжело это переживали. Причиной стал бракоразводный процесс Иоахима, в связи с которым Брамс энергично и, видимо, не считаясь с элементарными требованиями такта стал на сторону жены своего друга. Насколько глубоко оскорбила Иоахима эта ссора, можно судить по одному эпизоду, о котором сообщает его биограф Андреас Мозер[73]73
Мозер Андреас (1859–1925) – немецкий скрипач-педагог, методист и историк скрипичного искусства. Автор биографии Й. Иоахима. Опубликовал переписку Иоахима, в том числе с Брамсом.
[Закрыть]. Пожилой, умудренный опытом и глубоко порядочный человек, Иоахим в данном случае говорит о вещах, о которых по зрелом размышлении он предпочел бы промолчать. Мозер рассказывает: «Весной 1885 года, когда я в течение нескольких недель жил у него, чтобы составить ему компанию в одиночестве, он однажды, крайне резко высказавшись насчет «неверности» Брамса, спустя каких-то два часа сыграл вместе с Бартом[74]74
Барт Рихард (1850–1923) – немецкий скрипач и дирижер, автор книги «Иоганнес Брамс и его музыка».
[Закрыть] и Гаусманом[75]75
Гаусман Роберт (1852–1909) – немецкий виолончелист, член квартета Й. Иоахима.
[Закрыть] его трио до мажор, Ор. 87. Пораженный до глубины души великолепным исполнением этой вещи, я не смог удержаться и с удивлением спросил Иоахима, как ему удается, храня в своем сердце столько гнева, с таким увлечением играть музыку Брамса. «Ах, дорогой друг, – гласил ответ, – человек и художник – это же разные вещи! Но, даже если отвлечься от всех этих различий: дело в том, что я не могу слушать и играть эту музыку, не отдаваясь ей всем своим существом. Она действует на меня как стихия!» В более спокойном состоянии он однажды высказал нечто совсем иное: «Кто может так писать, тот благороден и добр». И еще: «Немецкий реквием» – сочинение, возводящее Брамса в ранг замечательнейшего из людей, и я никогда не стану торговаться с ним из-за тех мелочей, что мне в нем не по нутру».
Переписка между ними, впрочем, не прерывалась и в период ссоры, поскольку постоянно возникали деловые проблемы, которые требовалось обсудить. Наконец Брамс нашел желанный повод для новой встречи и сам сделал первый шаг к примирению: двойной концерт для скрипки и виолончели родился благодаря его желанию наладить отношения. Отношения эти продолжались затем, ничем не омраченные, до самой смерти композитора, хотя в них и не было уже прежней сердечности и теплоты.
Заметим, кстати, что их переписка – настоящая сокровищница ценнейших сведений по различным музыкальным проблемам общего характера. Приведем здесь одно из таких эпистолярных высказываний Брамса, касающееся его Четвертой симфонии: «Некоторые изменения темпов я указал в партитуре карандашом. Пожалуй, они пригодятся – да нет, будут просто необходимы – при первом исполнении. К сожалению, именно поэтому подобные указания (и у меня, и у других) нередко попадают в печатное издание, где они по большей части неуместны. Подобные преувеличения вообще нужны лишь до тех пор, пока новое сочинение еще «чужое» для оркестра (или виртуоза). В таких случаях мне порой приходится изрядно потрудиться, чтобы, то понукая, то сдерживая, хотя бы приблизиться к тому страстному или спокойному звучанию, какого я хочу. Когда же произведение уже вошло в плоть и кровь исполнителя, об этих преувеличениях, на мой взгляд, не может быть и речи, и чем дальше от них, тем естественней, на мой взгляд, будет исполнение. Мне достаточно часто доводилось убеждаться на примере своих прежних вещей, как все вроде бы само собой становится на место и насколько излишни иные обозначения вышеупомянутого свойства! Правда, нынче многие не прочь произвести впечатление так называемой творческой свободой исполнения – а со скверным оркестром, да с одной репетиции это куда как легко! Какой-нибудь Мейнингенский оркестр мог бы гордиться уже тем, что показывает нечто прямо противоположное!»
Последнее замечание содержит в себе ядовитый намек на обстоятельства, касающиеся конфликта Брамса еще с одним из его друзей: композитор определенно метит в Ганса фон Бюлова, знаменитого дирижера Мейнингенской капеллы, который в пору зрелого мастерства Брамса сделал для распространения его музыки не меньше, чем Иоахим – во времена юности и творческого становления Брамса.
Бюлов – фигура трагическая. Ученик Листа, восторженный поклонник Вагнера, выдающийся пианист и в равной мере замечательный дирижер, он был одним из известнейших апостолов обоих вождей «музыки будущего» в решающий период их борьбы за признание. Его наиболее памятными достижениями в этом плане явились первые постановки «Тристана» (1865) и «Мейстерзингеров» (1868) в Мюнхене. Вскоре после этого разразился скандал, который привел к изгнанию Бюлова из Мюнхена и из лагеря Вагнера и Листа. Жена Бюлова Козима, дочь Листа, оставила его ради Вагнера, за которого позднее вышла замуж. Для Бюлова происшедшее означало не только крах семейной жизни, которую он до того имел все основания считать счастливой: то, что ему тогда пришлось вынести от безмерно почитаемого маэстро, весьма смахивало на публичное поношение. Для человека с обостренным чувством чести все это не могло пройти бесследно. Обидчик занимал положение столь высокое, что это лишь усугубляло оскорбление: любого другого, в соответствии со своеобразными понятиями чести в ту эпоху, он вызвал бы к барьеру. Бюлов пережил кризис, чреватый трагическим исходом. Спустя несколько лет он сблизился с Брамсом – после того как исполнил в Ганновере его только что опубликованную Первую симфонию (до этого их связывало лишь беглое знакомство). Следуя своему пристрастию к афоризмам, он дал ей тогда название «Десятой», объявляя ее тем самым первым (за долгие годы) произведением, достойным стать законным наследником девяти бетховенских симфоний. В 1880 году он стал руководителем Мейнингенской придворной капеллы, превратив ее благодаря неустанной кропотливой работе во всемирно известный ансамбль. И тогда же предложил Брамсу опробовать с этим оркестром его новые оркестровые произведения, чтобы, таким образом, иметь возможность в спокойной обстановке еще до публикации сделать в них необходимые уточнения. Брамс не заставил себя упрашивать, и с этого момента стал частым гостем в Мейнингене, с выгодой используя все преимущества великодушного предложения Бюлова. Это, в частности, сказалось на его Третьей и Четвертой симфониях, на обеих увертюрах и на фортепианном концерте си-бемоль мажор.
Бюлов со всей пылкостью своей страстной и неуравновешенной натуры встал на защиту интересов нового друга. Причем даже невзирая на то, что ему доводилось испытать на себе беспечность и непредсказуемость Брамса, из-за чего он нередко называл его Медведем. Бюлов с той поры – в полном смысле слова – играл роль Савла, превратившегося в Павла[76]76
По библейскому преданию апостол Павел до обращения в христианство носил имя Саул (Савл). Смысл фразеологического оборота: из противника идеи сделать проповедника ее.
[Закрыть]. Одна из сцен, о которой рассказывает Кальбек, со всей очевидностью свидетельствует, что и по прошествии многих лет старые раны Бюлова все еще не закрылись. Пообедав вместе с Кальбеком и Брамсом в «Красном еже» – венском кабачке, завсегдатаем которого был композитор, – все трое шли через городской парк, Брамс намного впереди. «Неожиданно, – рассказывает Кальбек, – Бюлов схватил меня за руку и, бешено жестикулируя правой рукой (к удивлению остановившихся прохожих), хриплым голосом стал кричать: «Посмотрите на него, вон на того, что впереди! Видите, как он шагает – широко, уверенно, полный сил и здоровья! Ему я обязан тем, что образумился, – может быть, и поздно, но, надеюсь, еще не слишком поздно! Тем, что вообще еще живу на свете! Три четверти моего земного бытия я отдал своему экс-тестю, этому старому комедианту, и его отродью! Но зато остаток принадлежит тем, кто воистину святы в искусстве! И прежде всего – ему! Ему! Ему!»
То была странная дружба – основанная на безграничном уважении друг к другу и тем не менее не лишенная скрытой, но никогда не исчезавшей взаимной настороженности. В порыве первого восхищения Бюлов пишет своей невесте Марии Шанцер: «Что я думаю о Брамсе, ты знаешь: после Баха и Бетховена он для меня величайший, возвышеннейший из всех поэтов музыки. После твоей любви его дружба – мое ценнейшее достояние. Она составляет целую эпоху в моей жизни, она – мое нравственное завоевание. Я думаю, ни одно музыкальное сердце в мире – даже сердце его давнишнего друга Иоахима – не чувствует столь глубоко, не окунулось столь глубоко в бездну его духа, как мое…»
Но у Бюлова были к нему и свои претензии: «Маэстро Брамс оказал нам великую честь, но и изрядно помешал работе. Всю вторую неделю месяца пришлось целиком посвятить его сочинениям, дабы не опозорить Мейнинген в его ушах (3/4 капеллы распустилось донельзя, 2/4 – новички, зеленые, недисциплинированные). Третью неделю он сам проторчал здесь, каждый день бывал на репетициях, играл и дирижировал, трижды музицировал при этом перед герцогом. Изменить тут что-нибудь было невозможно: я сам в порыве оптимизма (февраль – Вена) устроил ему приглашение, причем и подумать не мог настаивать на времени, которое бы нас больше устроило, но, напротив, вынужден был считаться с его высоким положением. Он вроде был доволен, отзывался о нас не просто с похвалой, но даже с восторгом, хотя и отпускал порой ядовитые словечки. Три раза он обедал при дворе, получил рыцарский крест – тоже вроде не без удовольствия, – но мне даже подумать страшно, что он при случае скажет где-нибудь в другом месте, потому что и по части гениальности, и по части «сердца» он, на мой взгляд, ровня Рихарду Вагнеру».
Последнее дополнение многозначительно: позднее у Бю-лова появился повод вспомнить о нем. Бедняга еще раз в своей жизни получил возможность убедиться, что с великими мира сего вишню есть – только оскомину набивать; видимо, кое-что он сумел понять уже из мелких бестактностей своего Медведя. И в самом деле, прекрасные отношения между ними, ставшие плодотворным стимулом для обоих, рухнули, натолкнувшись на бестактность Брамса уже по большому счету: он исполнил свою Четвертую симфонию во Франкфурте-на-Майне, уведя ее, что называется, из-под носа у друга, который осенью 1885 года вместе с мейнингенцами совершал с ней концертную поездку по западным городам Германии и по Голландии. Бюлов воспринял этот поступок как преднамеренное оскорбление. Если вспомнить цитированное выше письмо к Иоахиму, то не исключено, что Брамса просто не удовлетворяла педантичная исполнительская манера Бюлова, его гипертрофированное внимание к деталям, идущее в итоге в ущерб спокойному, величавому течению музыки, и он хотел противопоставить этой манере свою интерпретацию, более простую и, разумеется, более компактную. Впрочем, возможно, за этим скрывалось также желание, чтобы его друзья во Франкфурте, не слишком жаловавшие Бюлова, получили новое произведение Брамса, что называется, из первых рук.
Происшествие это заслуживает внимания, тем более что источники информации об исполнительском стиле прошлых эпох весьма немногочисленны. Новой, еще переживающей радость открытия технике дирижирования – той, что отличала, например, виртуозов дирижерского пульта послевагнеровской эпохи, – определенно грозила опасность впасть в преувеличения, и в этом отношении грех лежит и на Бюлове. Видимо, то, что сообщала в письмах к Брамсу об одном из концертов Бюлова в Лейпциге Элизабет фон Герцогенберг – великолепная музыкантша, обладавшая немалым критическим чутьем, – вполне соответствовало действительности. «Бюловская привычка, – писала она, – к аффектированным коротким паузам при быстрой смене эпизодов или гармонических сдвигах неизлечима. В последней части ля-мажорной [симфонии Бетховена. – Авт.] он так и рассыпал легкие ферматы, где только хотел: каждый такт получал особую окраску».
Рихард Штраус[77]77
Штраус Рихард (1864–1949) – немецкий композитор, дирижер и музыкальный деятель. Автор опер, симфонических поэм. В начальный период творчества был близок к экспрессионизму, затем перешел к неоклассицизму.
[Закрыть], который в период подготовки к первому исполнению Четвертой симфонии Брамса принимал участие в работе Мейнингенской капеллы как ученик и ассистент Бюлова, полвека спустя написал воспоминания, где рассказал, между прочим, о таком эпизоде: «Во время репетиций произошел следующий знаменательный случай. У Бюлова по поводу одного неточно обозначенного эпизода возникли сомнения, как его играть: crescendo и accelerando или diminuendo и calando. Поэтому, дважды продемонстрировав Брамсу это место – на тот и на другой манер, он потребовал, чтобы тот принял какое-то решение. Бюлов: «Ну, так что ты решаешь?» Брамс: «Да, в общем-то, можно так сыграть, а можно и этак». Общее замешательство…» То была типично брамсовская манера выражать недовольство гипертрофированной нюансировкой, идущей, скорее, во вред целостности произведения. Отсюда и та бесцеремонность, которую он позволил себе по отношению к другу. Однако ему бы следовало лучше знать ранимый характер Бюлова, который вскоре после этого подал в отставку и покинул Мейнинген. Его преемник Штейнбах был предан Брамсу не меньше, чем Бюлов. Но Брамс сожалел о своем опрометчивом поступке. Когда Бюлов в январе 1887 года – более чем год спустя после той истории – концертировал в Вене, Брамс оставил для него в отеле свою визитную карточку с цитатой из «Волшебной флейты»: «Мне уж больше не дозволяется видеть тебя, дорогой?» Лед был тем самым сломан, и былая дружба восстановлена.
Переход Бюлова из лагеря Листа – Вагнера к Брамсу произошел в самое нужное время. Как раз в ту пору один из лучших друзей Брамса, Герман Леви, переметнулся под вражеские знамена, что было для композитора чувствительной потерей, боль от которой не так-то просто оказалось заглушить.
Брамс познакомился с Леви в 1864 году на празднике музыкантов, организованном Листом в Карлсруэ, где Леви был придворным капельмейстером. «Жаль своих трудов, – пишет Брамс Иоахиму, – а то бы я рассказал тебе о торжествах в Карлсруэ, куда меня занесла то ли тяга к познанию, то ли гнусное любопытство… Все это удалось вытерпеть лишь благодаря Герману Леви, здешнему капельмейстеру, который составил мне компанию. Этот ясноглазый молодой человек не погряз в обычной капельмейстерской рутине и судит так свежо, так возвышенно, что просто сердце радуется». Симпатия была обоюдной. Леви писал в ту пору Кларе Шуман: «После отъезда Брамса у меня пусто на душе, и это ощущение пустоты я безуспешно пытаюсь преодолеть напряженной работой… Мне кажется, тесное общение с Иоганнесом оказало на меня огромное воздействие, всколыхнуло меня до основания. Такого я не могу припомнить за всю мою музыкальную жизнь. Он явил мне образец чистого художника и человека, а в наше время это говорит о многом». И в другом письме, после еще одного визита Брамса (18 апреля 1866 года): «Вот это человек! Обычно каждый смертный носит на челе своем печать времени и собственных слабостей. Он же – единственный, кто сумел отринуть все земное, всю грязь и убожество жизни и воспарить к высотам духа, куда мы можем лишь заглянуть, наблюдая его полет, не в силах взлететь вослед ему сами. Надо ли винить нас, если у нас при этом иной раз кружится голова?»
В Леви, который во многом оказался его единомышленником, Брамс ценил его одаренность как человека и музыканта, широту интересов и – особенно – остроту и точность суждений. В его лице он приобрел, кроме того, тонкого, остроумного собеседника, с которым интересно было поговорить на профессиональные темы, в том числе и о проблемах композиторской техники, ибо Леви, сам композитор не без таланта, на удивление хорошо в них разбирался. Леви порой был весьма упрям, настаивая на своих замечаниях, и, как истый сын раввина, умел воспользоваться в спорах с другом аргументами ученого книжника: «В талмуде сказано: «Если приидет один и скажет: «Ты лошак», – не верь ему; но если приидет еще один и скажет: «Ты лошак», – то купи себе седло, и пусть на тебе ездят». По-немецки это означает: если тебе о чем-то сказали фрау Шуман или я – не слушай нас; но если, как в данном случае (насколько я полагаю), то же самое говорят все музыканты или такой друг, как Иоахим, то не пожалей трудов и выбрось последние четыре страницы». Речь здесь идет о фортепианном квинтете. Как и во многих других случаях Брамс, несмотря ни на что, не дал сбить себя с толку – и был, разумеется, прав.
В период «Немецкого реквиема», «Триумфальной песни» и «Песни судьбы» Леви постоянно заглядывал Брамсу через плечо во время работы, и тот всерьез считался с его мнением, хотя затем, пожалуй, опять-таки «оставался при своем». В эти решающие для Брамса годы, когда его хоровые и оркестровые произведения прокладывали путь к публике, Леви был его любимым исполнителем. Впрочем, Леви так же случалось ссориться с Брамсом, наталкиваясь на негативные стороны его характера. С горечью пишет он Кларе (2 октября 1867 года): «Боюсь, что Брамс – как человек и как музыкант – стоит на перекрестке двух дорог, одна из которых ведет к гибели… Если ему не удастся спасти свое лучшее «я» от демона грубости, черствости, бессердечия, он будет потерян и для нас, и для искусства, ибо лишь всеоплодотворяющая любовь создает произведения искусства…»
В то время, правда, серьезных столкновений между ними не было. Но после того, как в 1872 году Леви перенес свою дирижерскую деятельность в Мюнхен – резиденцию вагнерианских кругов, – его отношения с Брамсом, судя по всему, становятся менее близкими, тем более что выступления Леви в Мюнхене с симфониями Брамса закончились очевидным провалом. «Весьма печальный урок получил я нынешней зимой [1878 год. – Авт.] с симфонией Брамса, – писал он. – Никогда прежде я не попадал в такое мучительно-неловкое положение. После первой части – тишина, после второй – робкие аплодисменты, заглушенные энергичным шиканьем; тоже – и после третьей. Все это было подстроено, причем оппозицию организовали даже не вагнерианцы, а так называемые классики во главе с референтом «Аугсбургер абендцайтунг», который восторгается лишь Лахнером, Рейнбергером[78]78
Рейнбергер Йозеф Габриель (1839–1901) – немецкий музыкальный педагог, органист и композитор.
[Закрыть], Ценгером и Раухенлтером и который еще за несколько недель до концерта предостерегал Академию от исполнения симфонии, поскольку, мол, публике это не понравится! Все это меня бы не так уж и задело, если бы я чувствовал поддержку со стороны оркестра, но я не могу назвать ни одного музыканта, чьи глаза встретились бы с моими при исполнении какого-нибудь замечательного места в симфонии. После концерта дождем посыпались газетная брань и анонимные письма от абонентов, грозивших отказаться от своих абонементов; говорят даже, среди них развернулась агитация за то, чтобы заставить Академию публиковать программу в начале сезона, с тем чтобы слушатели – в случае, если в ней окажется какая-нибудь симфония Брамса, – могли воздержаться от покупки абонементов». Вскоре после этого (6 марта 1879 года) он пишет Кларе Шуман: «В следующем концерте даю Вторую Брамса. Адажио я еще не вполне освоил, пока что я холоден, играя его!» Однако холодом дохнуло, пожалуй, и на их отношения вообще. Несколько лет спустя Леви дирижировал в Байрейте премьерой «Парсифаля» Вагнера, будучи уже одним из вернейших его паладинов. Брамс почувствовал, что друг ускользнул от него, и отступился.
Стоит заметить все же, что Леви в этой истории заслуживает известной симпатии; в этом убеждаешься, когда читаешь следующее его письмо Кларе Шуман: «Я не нахожу, что мои взгляды можно считать парадоксальными, а мое умонастроение – предательством (по отношению к моему прошлому). Ведь не так уж трудно установить различие между драматургом и музыкантом. Брамс как музыкант настолько же выше Вагнера, насколько Моцарт был выше Глюка. Но разве из-за этого Глюк лишается своего места рядом с Моцартом? Вагнер сам не относит себя к музыкантам в том смысле, в каком ими были наши классики. Все его инструментальные сочинения я считаю скучными и беспомощными: если ученик придет ко мне на урок с его только что вышедшим у Шотта «Листком из альбома», я его выставлю за дверь. Но когда Вагнер ставит музыку на службу драме, он достигает такой силы выражения, какой не достигал до него никто. И поскольку он совершенно отличен от тех, кто был до него и кто стоит рядом с ним, поскольку он не может и не собирается сочинять просто музыку, но пытается заложить основы немецкой драмы, постольку я не вижу причин, почему мое искреннее восхищение его творениями несовместимо со столь же искренним восхищением Бахом, Бетховеном и Брамсом. По крайней мере «Песнь судьбы» или секстет соль мажор не стали мне менее близкими оттого, что я считаю «Тристана» великим произведением. В этом деле, как и всюду, фанатичные друзья – или враги – плодят лишь недоразумения. Банда, которая объединяет тех, кто именует себя вагнерианцами, и на знамени которой, наряду с именем Вагнера, значится еще имя и такого гениального мошенника, как Лист, мне настолько же отвратительна, насколько непонятны все ее принципиальные противники».
Соображения практической выгоды никогда нельзя полностью исключать из поля зрения, когда речь идет о дружбе между художниками или о мотивах их взаимного отчуждения. Брамс был реалистом и трезво смотрел на вещи. Однако в своих чувствах к самым близким друзьям – тем, к кому он относился с особой теплотой, – он был далек от подобных мыслей. Правда, при его одержимости музыкой трудно представить себе, чтобы у него могли возникнуть дружеские отношения, в которых музыка не оказалась бы главным связующим звеном. Последнее самым непосредственным образом относится и к его ближайшему другу венских лет Теодору Бильроту.
Знаменитый врач, создатель современной хирургии, Бильрот познакомился с Брамсом в Цюрихе в 1866 году. Последовавшее вскоре после этого приглашение в Венский университет, которое он принял, по времени практически совпадало с решением Брамса окончательно обосноваться в Вене. И эти возникшие таким образом чисто внешние обстоятельства в огромной мере способствовали тому, что их отношения в скором времени превратились в тесную дружбу. Бильрот был художественной натурой – случай нередкий среди ученых, многие из которых наделены даром фантазии. Он обладал незаурядными музыкальными способностями, тщательно развитыми еще в детские годы: был искусным пианистом, сносно играл на скрипке и на альте. Музыка была для него жизненной необходимостью. Воспитанный в классических традициях, он сравнительно поздно познакомился с музыкой Брамса, но, видимо, сразу же ощутил в ней нечто очень близкое и восторженно полюбил ее. Поэтому инициатива в установлении контактов исходила, вероятно, от него. В характере Бильрота импульсивность, жизнерадостность и неутолимая жажда прекрасного, столь часто отличавшие людей эпохи Ренессанса, органично сочетались с трудолюбием и методичной организованностью современного ученого. Он был единственным из друзей Брамса, кто был равен ему как личность. Брамс ценил его восприимчивость, способность к глубокому сопереживанию как в музыке, так и во всем остальном. Для Бильрота в свою очередь каждое новое произведение друга было волнующим событием, обогащающим его духовный мир. В Бильроте неуемная потребность высказаться сочеталась с умением поэтически одаренного человека найти для своих мыслей выразительную словесную форму, и Брамс был признателен ему за это; художник-творец нередко живет как бы в безвоздушном пространстве, лишенный возможности слышать подобный отклик. Бильрот пишет ему – еще на ранней стадии их знакомства: «С пером в руке я странным образом преображаюсь; я ни за что на свете не сумел бы выразить устно то, что на бумаге легко изливается из души». И Брамс отвечает: «Это прекрасно: уметь вовремя сказать доброе слово. Поэтому мне хотелось бы сейчас сначала отвесить тебе оплеуху, а потом от души поблагодарить Вас за то, что в данном случае Вы сумеете сделать это куда лучше меня». И еще – уже много лет спустя: «В общем ты ловко владеешь и пером, и словом и способен сказать другим именно то, о чем я произношу монологи про себя».
Само собой разумеется, что Бильрот был просто обязан присутствовать на премьере каждого нового произведения Брамса, а Брамс никогда не упускал случая показать другу это произведение еще в рукописи – как только он оказывался в состоянии выпустить его из рук. На этой стадии ему было совершенно необходимо показать или сыграть кому-нибудь новую вещь, дабы ему подтвердили, что он достиг того, чего хотел. «Удалась ли мне симфония – не знаю, – пишет Брамс Бильроту из Пертшаха, где он проводит лето. – Нужно показать ее сведущим людям». Вслед за тем Бильрот, получив партитуру, сообщает* «Музыка – сплошь голубое небо, журчание ручья, солнце и прохладная зеленая сень Наверное, на Вёртерзее очень хорошо!» Когда же позднее Брамс присылает ему четырехручное фортепианное переложение своей Второй симфонии (ибо именно о ней здесь идет речь), Бильрот в совершеннейшем восторге отвечает – «Я уже совсем сжился с этой вещью и провел с ней немало счастливых часов. Не могу сказать, какая часть мне больше нравится, каждая, как мне кажется, хороша по-своему. Вся музыка пронизана каким-то блаженным ощущением счастья, звучит тепло, просветленно, пленяя свободой, с какой изливаются здесь мысль и чувство. И на всем лежит печать абсолютного совершенства».
В гостеприимном доме Бильрота на венской Альзерштрассе впервые прозвучали все новые камерные сочинения Брамса. Бильрот особенно ценил это свое, как он говорил, «Jus primae noctis»[79]79
Право первой ночи (лат.).
[Закрыть]. На подобных вечерах лучшие из достижимых в данный момент исполнителей (с автором за фортепиано, если это требовалось) и избранное общество добрых друзей составляли своеобразный симпозиум, тщательно подготовленный хозяином дома и в плане кулинарном. Бильрот был эпикурейцем и любил щедро угостить своих гостей, что он охотно делал и после официальной премьеры каждого нового произведения своего друга. После одного из таких событий – репетиций и премьеры Первой симфонии – Брамс пишет: «Хотелось бы мне в двух словах – именно в двух, потому что, будь их больше, ничего не получится, – сказать тебе, как я признателен за все те дни, что завершились твоим вчерашним обедом. То есть я хочу сказать, дело тут не только в том, что сочинительство – сплошь муки и труд и бесконечная злость из-за того, что ничего толком не получается; просто ты не поверишь, как приятно участие такого человека, как ты, и как оно ободряет, В такие минуты думаешь, что это – лучшее в сочинении музыки и во всем, что с этим связано». И в другой раз – в связи с «Песней парок»: «Ты и представить себе не можешь, как важно мне твое одобрение, как оно мне приятно и как я благодарен тебе за него. Что из того, что знаешь, чего хотел и насколько всерьез к этому стремился. Не мешало бы узнать еще и что, собственно, из этого вышло. И пусть лучше скажут об этом другие – тогда охотно веришь каждому дружескому слову. Вот так и на этот раз: лишь теперь я рад этой вещи и вполне доволен ею».
Одним из тех, кто непосредственно примыкал к окружению Бильрота, был Эдуард Ганслик, музыкальный критик и профессор истории музыки в Венском университете. Его также связывала с Брамсом сердечная дружба. Правда, этот триумвират был не без странностей, поскольку здесь не обходилось без некоторой взаимной предубежденности. В Ганслике Брамс и Бильрот ценили прежде всего умного, блестящего литератора, человека с характером и убеждениями и к тому же неподдельно доброжелательного. Что же до его слабостей, то они были настолько очевидны, что их можно было и не принимать в расчет. Ганслик принадлежал к числу тех добровольных тружеников, какими обычно бывают именно люди с шорами на глазах. Несмотря на основательную теоретическую подготовку, хорошее владение фортепиано и искреннюю готовность к серьезному анализу, его возможности музыкального восприятия были ограниченными, а музыкальные вкусы – в чем-то примитивными. Его антипатия к Вагнеру объясняется – по крайней мере отчасти – именно этой органически присущей ему ограниченностью. Даже то обстоятельство, что он всегда, еще до исполнения новых сочинений, тщательно изучал их клавиры и партитуры (если они были доступны), не устраняло для него опасности не разглядеть за деревьями леса; тем чаще это случалось, когда ему приходилось, по выражению Брамса, «слушать с листа».
Плоды полустолетней критической деятельности Ганслика доступны нам благодаря его книгам, интересным, в частности, тем, что они убедительно показывают, сколь редко этот умный литератор, мастер эпиграмматически отточенных формулировок, упускал возможность поставить не на ту лошадь. Даже вальсы Иоганна Штрауса, которые он позднее, под влиянием Брамса, научился ценить не меньше, чем сам Брамс, – даже эти вальсы поначалу (в 1865 году) вызвали у него некоторое раздражение, ибо ему почудился в них «тот чересчур пикантный аромат, который свойствен дичи, когда она попахивает прошлым, и музыке, когда от нее веет будущим».
Практически о каждом значительном явлении он поначалу судил неверно или – по меньшей мере – недальновидно. Когда Брамс в 1862 году впервые посетил Вену, Ганслик принял его с уважением, даже, пожалуй, приветливо, а Брамс оказался достаточно умен и осюрожен, чтобы – коль скоро речь шла о влиятельном критике – ответить дружелюбием на дружелюбие, ни в чем, однако, не поступаясь самим собой. Ганслик позднее жаловался, что Брамс за все время ни разу даже словом не обмолвился по поводу его многочисленных хвалебных рецензий. Правда, Брамс вызывал интерес Ганслика прежде всего как единственный кандидат в «антипапы», которого он мог бы противопоставить «музыкантам будущего». И в своих оценках произведений собственного друга он порой был столь же поверхностен, как и в оценках Вагнера. Даже симпатизируя Брамсу, он поначалу (1862) отзывается о нем сдержанно и несколько отстраненно: «На сей раз Иоганнес Брамс предстал перед нами как композитор и как виртуоз. Сочинения Брамса не принадлежать числу тех волнующих композиций, которые доступны уже при непосредственном восприятии и способны мгновенно увлечь за собой. Эзотеричность звучания, гордо чурающегося всех популярных веяний, огромные технические трудности – все это ведет к тому, что его поэтические творения раскрываются отнюдь не с той быстротой, какую обещало восторженное пророчество Шумана, коим он напутствовал своего любимца… Оценить в настоящий момент талант Брамса и его возможное воздействие – рискованное предприятие… Именно последние произведения Брамса загадывают нам загадки и ставят вопросы, на которые ответить сможет лишь последующий период его творчества. Этот ответ будет решающим. Удастся ли прирожденной изобретательности Брамса и его огромному мелодическому дару идти вровень с его гармоническим и полифоническим искусством, доведенным до высочайшего мастерства? Та природная свежесть и молодая сила, что столь беззаботно цветут в его первых творениях, – не увянут ли они в новом драгоценном сосуде, ныне созданном для них композитором, более того, смогут ли они получить в нем новое развитие, обрести еше большую красоту и свободу? Тот туманный флер меланхолической рефлексии, что так часто омрачает его последние произведения, – станет ли он предвестником солнечной зари или сгустится в холодные сумерки?»








