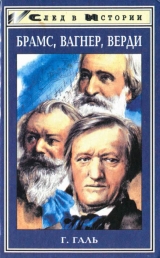
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Тайны творческой лаборатории
Знакомство с творческой лабораторией художника всегда захватывает. Законченное произведение – это чудо. Однако лишь тогда, когда видишь механизм его возникновения, когда хоть в какой-то мере постигаешь ту часть творческого процесса, что является делом сознания, – лишь тогда проникаешь и в самую суть этого грандиозного свершения (которое, собственно, в том и состоит, чтобы из бесчисленных возможностей выбрать одну – единственно правильную). И лишь тогда понимаешь, что и божественное начало в творении рук человеческих – не просто дар, но результат напряженного, целенаправленного труда. В своем экземпляре биографии Моцарта, написанной Отто Яном[110]110
Ян Отто (1813–1869) – немецкий археолог, филолог и художественный критик.
[Закрыть], Брамс дважды подчеркнул следующую фразу: «В работе художника собственно творчество – как открытие – никогда нельзя отделить от исполнения, воплощения».
Единственным из великих мастеров, кто предоставляет богатейший материал для подобных штудий, является Бетховен. Благодаря благословенной небрежности, в силу которой он никогда не приводил в порядок груды своих бумаг, после него остались ценнейшие россыпи черновых набросков, позволяющие наглядно показать процесс возникновения многих его произведений. Брамс с живейшим интересом следил за работой своего друга Ноттебома, в течение многих лет занимавшегося изучением бетховенских черновиков, и именно благодаря его усилиям блистательные труды Ноттебома увидели свет. Одной из особенностей Бетховена была его привычка к подробнейшим предварительным наброскам. Однако процесс, который при этом удается наблюдать, видимо, вообще типичен для композиторского творчества, свершающегося обычно в уме и не оставляющего письменных свидетельств, не говоря уже о естественной склонности художника уничтожать подобные свидетельства.
У Брамса была такая склонность, и потому от его набросков осталось совсем немногое. Иногда об особенностях его работы можно судить по поправкам в рукописях – иной раз весьма поучительным. В остальном, однако, применительно к Брамсу в этом смысле приходится довольствоваться теми редкими случаями, когда какое-нибудь его произведение – или фрагмент произведения – существует в различных вариантах. Однако, если имеешь дело с Брамсом, узнать, через какие стадии проходил процесс его сочинительства, так и не удается. Именно в этом плане бетховенские черновики дают особенно богатый материал. Они-то как раз ясно показывают, что в большинстве случаев мелодия, тема, мотив проходят долгий путь развития, прежде чем находка композитора обретает свою окончательную, адекватную ее характеру форму.
То, что можно было бы назвать начальной идеей, представляет собой – в той или иной степени – импровизацию. Фантазия композитора работает над этой идеей, по-разному поворачивая, расширяя, варьируя ее, пока она не получает форму, в наибольшей мере соответствующую поставленной цели. Работа эта совершается за счет критического чутья композитора, в котором он должен быть уверен. По этому поводу Брамс однажды в беседе с Георгом Геншелем сказал: «Творчества без тяжкого труда не бывает. То, что обычно называют находкой, музыкальной идеей, – это поначалу результат озарения, нечто такое, за что я не несу никакой ответственности и в чем нет моей заслуги. Это подарок, дар, который я имею право чуть ли не презирать, пока мой труд не превратит его в мою собственность. И с этим никак нельзя спешить. Это как с посеянным зернышком, которое прорастает и развивается само собой». В одном Брамс никогда не сомневался: что именно такие находки и составляют субстанцию собственно музыки, что они – душа произведения, самое ценное в нем.
Именно об этом можно говорить применительно к единственному крупному произведению Брамса, которое он полностью переработал, – фортепианному трио си мажор, написанному в 1854 году. То обстоятельство, что оно было опубликовано спустя двадцать шесть лет, превратило это сочинение в подлинный компендиум зрелого мастерства композитора; «новая редакция» – это осуществленная на практике критика юношеского произведения, которая беспощадно вскрывает все его слабости и извлекает из них уроки. В итоге три из четырех частей подверглись кардинальной переделке. Все, что в них осталось от прежнего, – это великолепная, вдохновенная начальная тема, никак не более того. Лишь Скерцо счастливо прошло испытания, отделавшись всего только новой кодой. Чудо – поскольку другого подобного случая музыка просто не знает – состоит в том, что в новой редакции нигде, ни в одном такте не чувствуется нарушения стиля; и в новой форме, со всем тем новым материалом, который потребовался взамен старого, непригодного, юношеская избыточность чувств, свойственная первоначальной редакции, по-прежнему не знает преград, образный мир произведения остается неизменным. Невольно напрашивается сравнение с парижской редакцией вагнеровского «Тангейзера», где все добавления, и прежде всего вакханалия в начальной сцене, по стилю решительно отличаются от первоначального варианта.
Трио си мажор, как уже говорилось, – раннее сочинение. Законченное незадолго до катастрофы с Шуманом, оно, собственно, завершает юношеский период творчества Брамса. Вдохновенное, мечтательно-романтичное, оно явно обнаруживает также изъяны еще не вполне сложившейся техники, и прежде всего в том, что композитор еще не в состоянии дать простор своей творческой энергии на всех уровнях столь развернутой формальной структуры. Каждая из трех частей, подвергшихся позднее кардинальной переработке, начинается великолепной, словно изваянной из цельного куска темой, и каждый раз молодой Брамс пасует перед задачей противопоставить этому вдохновенному началу нечто равноценное. В Скерцо эта проблема оказалась менее сложной – ввиду большей лаконичности формы, для завершенности которой здесь вполне хватает одной изумительной скерцозной темы; в следующем затем трио, построенном на такой же счастливой мелодической находке, также используются все преимущества сжатой, четко очерченной и потому не создающей особых трудностей формы. Зрелая мудрость мастера в новой редакции выявилась в том, что он сохранил в неприкосновенности некоторую наивность звучания, причем даже там, где ее легко было устранить, в ничем не осложненной гомофонности главной темы, словно упоенной своей мелодичностью, и особенно там, где уже не камерное, но чисто оркестровое тремоло скрипки сопровождает триумфальное возвращение скерцозной мелодии. Непосредственность, которая обычно так редка в произведениях Брамса, становится здесь добродетелью. В этой части изменения коснулись лишь второстепенных технических деталей. Правке, притом весьма тактичной, подвергся только заключительный раздел, где молодому композитору не удалось подвести стремительное скер-цозное движение к завершающему, снимающему напряжение и будто истаивающему звучанию. Его кода слишком преднамеренна, слишком обстоятельна, и та естественная, органичная концовка, которая появляется в новой редакции взамен первоначальной, может служить блестящей иллюстрацией тому, как решает подобную задачу подлинный мастер.
С остальными частями дело обстоит значительно сложнее, и здесь мы почти вплотную подходим к тому, что, собственно, и определяло характер творчества Брамса. Как музыка Брамса, так и его устные и письменные высказывания со всей очевидностью демонстрируют, насколько глубоко проникся он сознанием своей миссии как продолжателя всего того, что он разумел под понятием классической традиции. Непосредственно связано с этой установкой и свойственное ему смирение, по поводу которого он однажды недвусмысленно высказался в разговоре с Геншелем: «Чего я никак не могу понять, так это тщеславия нашей композиторской братии. Как мы, люди, став на ноги, высоко вознеслись над червем ползущим, так и боги стоят высоко над нами».
Брамс глубже, чем его непосредственные предшественники Мендельсон и Шуман, освоил бетховенскую крупную форму, что обусловлено прежде всего тем, что он лучше, нежели они, видел разницу между эпизодической формой, складывающейся из отдельных законченных фрагментов (например, скерцозной формой), и крупными, симфоническими в собственном смысле слова структурами и никогда не привносил обусловленную особенностями жанра дробность эпизодической формы в симфоническую. Суть первой из этих форм состоит в том, что она возникает на основе строго ограниченного тематического материала и какого-то одного ритмического импульса. Вторая, напротив, должна удовлетворять двум вроде бы взаимоисключающим, но на самом деле взаимодополняющим и в равной степени необходимым требованиям: ее основой должна быть одна развернутая, заполняющая все пространство формы художественная идея, и вместе с тем ей необходимы достаточный в количественном отношении контрастный тематический материал и та четкая, наглядно фиксирующая несущие части конструкции «пунктуация», благодаря которой она и превращается в некое пластичное, выверенное в своих пропорциях архитектурное сооружение.
В своих ранних сонатах, предшествующих трио си мажор, молодой композитор на удивление близко подошел к созданию подобной формы. То, что в трио наблюдается некоторый отход от завоеванных позиций, объясняется разрастанием его размеров, которому еще не противостоит достаточно уверенное чувство формы и которое идет вразрез с названными принципами. В первой части после начальной темы с ее широкой, певучей, победно звучащей концовкой (этот раздел Брамс в новой редакции оставил, в сущности, без изменений) мы натыкаемся на какие-то запинающиеся ритмы, назначение которых – точно следовать мелодии, но которые тем не менее не справляются со своей задачей ввиду той обстоятельности, с какой она решается. И при этом, вместо того чтобы обратиться к новой мысли, ввести в сочинение новую контрастную тему, молодой композитор по-прежнему держится за начальный мотив первой темы – прием, нередкий у Гайдна, но используемый лишь при обращении к предельно сжатой форме. Попытка добиться тематического единства в данном случае кончается ничем или, что то же, оборачивается импровизацией, все время как бы начинающейся заново и превращающейся – в силу рыхлости тематического материала – в своего рода конгломерат, состоящий из отдельных, небольших по объему тактовых групп. Но дело не только в том, что тем самым ликвидируется противоречивое единство тематического развития, а еще и в том, что последующей разработке просто не хватает мелодического материала, поскольку возможности начального мотива уже исчерпаны. В результате же и разработка распадается на ряд недостаточно взаимосвязанных между собою небольших эпизодов.
Учитывая все это, Брамс в новой редакции оставляет в первой части лишь начальную тему, возвращающуюся затем в репризе. После изложения этой темы вводится новая, побочная (в соль-диез миноре), которая естественно и непринужденно вырастает из короткой связующей партии и из которой позже возникает заключительная партия, отличающаяся особым мелодическим богатством. Создающаяся таким образом экспозиция – насыщенная контрастами и при всей ее пространности точно выверенная в структурном плане – идеально справляется со своей задачей: дать четкое изложение основного тематического материала. Соответствует теперь своей задаче и разработка, нацеленная на то, чтобы, развивая этот материал, подвести его к драматической кульминации и затем открыть дорогу к повторению главных тем в репризе, где они вновь являются в своем первоначальном (исключая лишь отдельные детали) облике. Вся эта часть в ее нынешнем виде – одна из вершин камерной музыки Брамса.
Если недостатком первой части было отсутствие достаточно значимой побочной темы, то в Adagio композитора не удовлетворяла фатальная монотонность звучания. При этом новая тема, возникающая в его средней части вслед за распевной, широкой мелодией первого раздела, как две капли воды похожа на одну из шубертовских мелодий (в песне «Сияло море перед нами»), и то обстоятельство, что это «даже ослу заметно», явно сердило Брамса.
В этой связи уместно одно замечание общего характера. В сердце художника есть один трижды благословенный механизм, который ведет и направляет его так же, как человека с развитым нравственным чувством – его совесть. Это механизм – недовольство собой. И он немедленно включается в работу, если какая-либо идея или находка, какой-нибудь оборот или некая деталь не удовлетворяют постоянно растущей с опытом требовательности художника. Чем выше мастерство и тем самым требования к собственным творениям, тем острее становится самокритика, тем неподкупнее недовольство собой – которое, собственно, и есть выражение этой самокритики. Если, однако, по несчастной случайности в законченном сочинении осталось нечто такое, что гложет беспокойную совесть художника, то каждая новая встреча с этим сочинением превращается в «прогулку» сквозь строй; а если это нечто еще и открывается публике, то муки совести становятся и вовсе нестерпимыми. Это как раз те моменты, на которые иной раз жалуется Брамс, – моменты разочарования в собственном произведении, возникающие иногда вопреки опыту, обретенному на долгом творческом пути, минуты, когда по окончании работы рождается мысль, что ты по-прежнему далек от того, чего, как чудилось в порыве творчества, уже достиг. За его болезненной самокритичностью стоит боязнь именно такой вот ситуации; именно она заставляет его показывать друзьям каждое новое сочинение, добиваясь от них подтверждения, что сочинение удалось, – чтобы затем иногда, вопреки их мнению, «остаться при своем». До самой старости Брамс упорно отказывался публиковать произведения, несовершенство которых он сумел своевременно распознать. Еще в 1880 году он показывал Кларе Шуман и Теодору Бильроту первые части двух трио. Одно из них, трио до мажор, Ор. 87, он через три года закончил и издал, другое же, чья первая часть (в си-бемоль мажоре) привела в восторг обоих его критиков, бесследно исчезло.
Но – стоп! Вернемся к трио си мажор. Недовольство, связанное с упомянутой выше цитатой из Шуберта, побудило Брамса к полной переработке Adagio. Введение в средний раздел совершенно новой темы придало этой части новое направление, что опять-таки пошло ей только на пользу.
В финале юный Брамс в свое время также потерпел неудачу в попытках найти вторую тему. Существенная трудность крупной формы состоит в том, что необходимо освободиться от первой темы и найти нечто противоположное ей, нечто такое, что способно погасить тот начальный импульс, то озарение, которое, собственно, и дало толчок к созданию нового произведения. Необходим, иначе говоря, новый творческий акт; и композитору здесь никак нельзя спешить – напротив, от него требуется терпение, которого молодому художнику, на его беду, иной раз не хватает. Принимая во внимание обычную для Брамса строжайшую требовательность к себе, нетрудно понять ту суровость, с какой он судил о работах своих коллег или молодых начинающих композиторов. «Но к делу он относился слишком уж легкомысленно…» Когда у Брамса возникало такое впечатление, он был способен на любую жестокость.
Если в первой части композитора раздражало отсутствие контрастной идеи, а в Adagio — момент слишком очевидной мелодической несамостоятельности, то в финале ему действовала на нервы анемичность проходящей у виолончели побочной темы. Бросается в глаза, что эта широкая, чисто песенная мелодия слишком сентиментальна и не отличается особым богатством ритмики. (Не исключено, что мелодия – если судить по ее складу и характеру фортепианного сопровождения – действительно восходит к какой-то из неопубликованных песен.) Она явно не выдерживает сопоставления с четко очерченной первой темой, что в свою очередь ощутимо ослабляет драматическое напряжение в музыке. Этот недостаток оказывается тем губительнее, что неприятный эпизод еще раз возникает в репризе, другими словами, размах изложения вновь ощутимо идет на спад. Во второй редакции эта побочная тема заменена новой – энергичной, ритмически четкой; в итоге решительно меняется и последующее изложение: в музыке теперь куда больше жизни, движения, а вся часть обретает несравнимо большую цельность.
Различные высказывания Брамса свидетельствуют, что эта новая редакция принесла ему большее удовлетворение, чем иная новая вещь, и он лучше всех знал почему.
Приведенный пример показывает, как самокритичная объективность художника и пластичность, гибкость его мелодического дара превращают пусть гениальную, но не лишенную слабостей юношескую работу в подлинный шедевр. Но есть и другой пример, демонстрирующий, что может сделать мастер из юношеской идеи, в жизнеспособность которой вообще трудно было поверить. В литературе о Брамсе этот случай до сих пор оставался незамеченным. Между тем он заслуживает самого серьезного внимания. Ибо трудно найти более наглядную демонстрацию самого процесса рождения музыки, возникающей из непостижимого синтеза фантазии и подвластного строжайшему контролю рассудка.
Среди событий и фактов переходного – гамбургского – периода жизни Брамса иногда упоминается «Сарабанда», которая входила в его репертуар пианиста и которую он, видимо, охотно исполнял. Обнаруженная вместе с рядом других произведений среди бумаг Клары Шуман, она впервые увидела свет в 1917 году, а затем заняла свое место в 15-м томе Полного собрания сочинений Брамса.
Обычно «Сарабанду» рассматривали скорее как упражнение в композиции, нежели как законченное произведение. Известно, что Брамс в ту пору (конкретно – в 1855 году) упорно работал, стремясь ввести свою композиторскую технику в рамки строжайшей дисциплины формы, и во множестве писал подобные упражнения – жиги, сарабанды, прелюдии и фуги, за которыми не скрывается особых композиторских амбиций, но явственно обнаруживается чисто брамсовская основательность в попытках дойти до самой сути в постижении проблем того или иного музыкального жанра.
Форма «Сарабанды» предельно лаконична: в ней два раздела по восемь тактов в каждом. Пьесы такой формы, так называемой двухчастной песенной, встречаются в сюитах эпохи барокко; в ней выдержана, в частности, и та тема Генделя, которую Брамс выбрал для своих Генделевских вариаций. Менуэт в его серенаде ре мажор также представляет собой упражнение в форме сарабанды, с той лишь разницей, что Брамс соединяет в нем две пьесы подобного рода, придавая тем самым данной форме большую масштабность. Недостатком таких сочинений является то, что копирование формы с легкостью превращается здесь в копирование стиля; в результате синтез архаичной формы и свойственной композитору индивидуальной манеры выражения представляется не всегда убедительным.
Брамс написал еще одну сарабанду, звучание которой абсолютно безлично и к которой он в дальнейшем не проявлял ни малейшего интереса. Зато та «Сарабанда», о которой идет речь, с ее характерным сочетанием парных восьмых и триолей, звучит совершенно по-брамсовски; к тому же ее отличает еще одна особенность выражения, основа которой – примечательная маскировка тональности: она звучит где-то на границе между мажором и минором, так и не давая окончательного разрешения в ту или иную сторону.
Первая половина «Сарабанды» – формально завершенный восьмитактовый период – производит впечатление сакрального танца. Во втором разделе это танцевальное звучание орнаментируется выразительными мелизмами, составляющими единственный контрастный оборот во всем произведении; он также заканчивается формально завершающей его исходной фразой. Недостатком пьесы является некая укороченность ее дыхания.
Удивительно, насколько непредсказуема фантазия художника. В 1883 году, спустя двадцать восемь лет, эта, казалось бы, давно забытая «Сарабанда» вдруг вспомнилась композитору и превратилась в одно из его прекраснейших, выразительнейших Adagio. Она звучит в струнном квинтете фа мажор, Ор. 88, трехчастном произведении, средняя часть которого представляет собой комбинацию Adagio и скерцозного интермеццо, то есть одну из тех бетховенских форм, которую Брамс сходным образом использовал в скрипичной сонате ля мажор. Adagio – точнее, grave ed apassionato – возникает здесь трижды, каждый раз в вариационно измененном виде, а в промежутках звучит грациозное, напоминающее сицилиану интермеццо, также возвращающееся в виде новой вариации. Вся часть, таким образом, состоит из пяти разделов.
Нас интересует, однако, не интермеццо, а медленный, очень торжественный главный – начальный – раздел, ибо именно здесь мы обнаруживаем прежнюю «Сарабанду». За исключением тональности – тоникой произведения является теперь до-диез, – материал первых ее семи тактов остался без изменений. Зато восьмой такт приносит новый оборот, который сразу же решительно выводит все сочинение на новый уровень. Стоит специально сопоставить восьмой такт «Сарабанды» с с восьмым тактом квинтетной части. Ибо сделанное здесь композитором принадлежит к тем неподражаемым маленьким хитростям искусства, что отличают гения. Брамс взрывает рамки прежней суховатой концовки, выпуская мелодию на простор, и она, освободившись, течет дальше, становясь все шире, все богаче, доставляя нам истинное наслаждение. Хитрость состоит в том, что в восьмом такте вместо рассудочно обрезающего период каданса композитор вводит продолжающий мелодию триольный мотив, который, словно меткая фраза, брошенная в разговоре, становится зародышем и движущей силой дальнейшего мелодического развития. Анемичный восьмитактовый период, разрастаясь почти вчетверо против прежнего, превращается, таким образом, в предельно выразительный фрагмент.
Первое повторение, следующее после грациозного интермеццо, свободно варьирует начальный раздел, точнее, является фантазией на тему этого раздела, продолжающей его гармоническое и мелодическое развитие. А затем, после повторения интермеццо – с изменением тактового размера и в ускоренном до presto темпе, – происходит нечто и вовсе удивительное: «Сарабанда» возвращается к своей изначальной тональности, ля мажору (это, кстати, была и тональность интермеццо, которая теперь утверждается тем самым в качестве основной). И этот тональный сдвиг оказывается чем-то вроде напоминания о прошлом. Ибо внезапно возникает и второй раздел «Сарабанды» с ее орнаментальной мелизматической фигурой из тридцать вторых. И это обращение к еще не использованному материалу дает новый толчок мелодическому развитию, в итоге которого вся часть достигает эффектнейшей кульминации. Этот драматический момент в свою очередь подводит к перелому; мы ждем разрешения – и останавливаемся в сомнении, вынужденные гадать, каким же оно будет, какая из двух тоник возобладает: ля или до-диез. Это остается неясным до последнего момента, пока чаша весов не начинает постепенно склоняться к ля. И тут появляется чудесный оборот, который не оставляет ни малейших сомнений, что иначе, собственно, и быть не могло: «Сарабанда» нашла путь к своим прежним истокам:

Попутно стоит отметить, что ни один такт исходного оригинала не остался неиспользованным. Правда, в данном случае слово «использовать» может ввести в заблуждение. Мотив, из которого вырастает целая часть произведения, – это не кирпичик в стене здания; скорее он подобен ростку, способному в своем развитии одарить нас чем-то непредсказуемо новым, превратиться в листья, цветы и плоды. Вдохновение – это длительное состояние; произведение – живой, дышащий организм.
«Форма есть нечто такое, что создано тысячелетними усилиями замечательнейших мастеров и что никому из новопришельцев не дано освоить второпях. Бредовой мечтой о дурно понятой оригинальности будет, если кому-то вздумается, спотыкаясь и падая, самостоятельно отыскивать то, что уже существует как воплощенное совершенство». Эту доморощенную премудрость (изречение заимствовано из «Сочинений о поэзии» Эккермана[111]111
Эккерман Иоганн Петер (1792–1854) – немецкий писатель, личный секретарь И. В. Гёте. После смерти поэта издал свои «Разговоры с Гёте…».
[Закрыть]) Брамс собственноручно вписал в ту философско-поэтическую антологию, которую он составлял для себя, озаглавив ее «Шкатулка с драгоценностями молодого Крейслера» («Крейслер jun.» – младший, по имени героя романа Э. Т. А. Гофмана о Коте Мурре, – выбранное самим Брамсом прозвище, которым он именовал себя в кругу друзей). Брамс с благоговением относился к музыкальным формам, унаследованным от прошлого, и извлек свои выводы из их изучения. Он стремился овладеть формой, поскольку в произведениях представителей противоположного лагеря находил лишь первозданный хаос. «Музыканты будущего» полагали, что форма исчерпала себя. Однако это возможно лишь в случае, когда композитор не понимает по-настоящему, что такое форма. Если он использует ее как клише, то она действительно ничего не стоит. Если же он сумеет наполнить ее своей живой фантазией, она становится неисчерпаемой. Для Брамса форма у классиков есть естественный принцип музыкального воплощения. Главное, что он находит в их произведениях, – будь то фуга Баха или квартет Гайдна, инструментальный концерт Моцарта или симфония Бетховена – это бесконечная мелодия, непрерывный поток четко очерченных музыкальных событий, к формированию которых в равной мере причастны и соотношение тональностей, и гармонические построения, и техника тематического развития, и приемы контрапункта. Для овладения техникой композиторского письма существуют учебники, у которых могут быть свои недостатки, но которые по меньшей мере точны в изложении хотя бы какой-то части фактического материала. Технику формы как высочайшее искусство, каким она становилась у великих мастеров, можно постичь лишь через их произведения. В отношении столь сложных проблем ни один учебник не идет дальше примитивного скольжения по поверхности.
Брамс со свойственной ему основательностью глубоко задумывался над этими проблемами. В результате в его творческом арсенале без труда можно выделить три основных принципа музыкального воплощения: малую форму, построенную, подобно упоминавшейся выше двухчастной песенной форме, на одной четко сформулированной музыкальной идее; вариационную форму, в которой такая идея преобразуется, видоизменяется с помощью всех доступных композитору средств мелодического, гармонического и ритмического развития; наконец, крупную, всеобъемлющую и самодовлеющую симфоническую форму, к разрешению проблем которой, вне зависимости от того, в какой из своих разновидностей – сонатного аллегро или рондо – она представлена, можно подойти, лишь добившись совершенства в названных малых формах и строжайшей дисциплины в технике письма. Главное, впрочем, состоит в том, что форма остается продуктивной для композитора до тех пор, пока он верит в нее и пока она стимулирует его творческую изобретательность. Вместе с тем, как уже говорилось выше (см. с. 120), разрешение формальных проблем может зайти, что называется, в тупик в силу различных трудностей практического порядка – например, отсутствия должных навыков в использовании исполнительского аппарата в соответствии с характером материала.
Брамс, сознавая свою ответственность, предельно осторожен в данном вопросе, и это резко отличает его от композиторов того типа, что исповедуют беззаботное в своей наивности творчество. Поэтому в камерно-ансамблевой музыке он поначалу обращается в основном к различным комбинациям фортепиано с другими инструментами. Именно в этой области он и создает первые зрелые камерные произведения – оба написанных в Гамбурге фортепианных квартета, соль минор и ля мажор. Жажда исполнительского творчества, естественная для него как для пианиста; своеобразие его фортепианного стиля; техника формы, в которой он достиг уже достаточно высокого мастерства, – все это в совокупности дало здесь тот виртуозный блеск и богатство звучания, какого до той поры еще не знало ни одно произведение этого жанра. Однако даже там, где Брамс стремится именно к виртуозности, он упорно – чтобы не сказать упрямо – остается в рамках возможностей, предоставляемых классикой. Даже финал квартета соль минор, «Rondo alia Zingarese» [ «Цыганское рондо». – Пер.], предрекающий стиль «Венгерских танцев» (они будут написаны вскоре после этого), опирается на классический прецедент – одно из трио Гайдна[112]112
Рондо из так называемого «Венгерского трио» Гайдна. – Прим. перев.
[Закрыть].
После такой подготовки успешной оказалась и первая попытка в области камерного ансамбля без фортепиано – струнный секстет си мажор, Ор. 18, получивший полное и единодушное признание. На струнный квартет, ставший синонимом строгости и экономности композиторского письма, он тогда еще не отважился. Понятно, что фантазия пианиста, ориентированная на достаточно широкий диапазон звучаний, охотнее обратилась к богатейшим возможностям шестиголосного струнного ансамбля, нежели к тем, что предоставлял квартет. Показательно, что через несколько лет он предпринимает попытку создать еще один смычковый ансамбль – струнный квинтет. Попытка, однако, не удалась, и лишь в форме фортепианного квинтета музыка обрела адекватное замыслу звучание. Брамсу исполнилось сорок, когда он, после долгих сомнений, представил на суд публики два своих струнных квартета. Оба они – в своем роде шедевры, хотя с точки зрения стройности и чистоты подлинно квартетного стиля и уступают третьему его произведению этого жанра – квартету си-бемоль мажор, Ор. 67, написанному три года спустя.
Этот квартет дает возможность обратиться к проблемам еще одной формы, чрезвычайно важной для Брамса, а именно к проблемам вариационной формы. В молодые годы композитор усиленно изучал эту разновидность музыкального творчества. Наиболее зрелым результатом данных штудий в области фортепианной музыки стали его Генделевские вариации и Вариации на тему Паганини. В обоих произведениях решается проблема малой песенной формы, которая, выступая в качестве темы, превращается затем в длинную цепь последовательно сменяющих друг друга небольших эпизодов. Бетховен в своих Вариациях, Ор. 35 (до минор и ля-бемоль мажор), показал, что эту проблему можно решить, объединяя две-три соседние вариации общей технической идеей и добиваясь, таким образом, естественного распределения множества отдельных вариаций по каким-то группам. Брамс в вариациях на темы Гайдна и Паганини также использует этот прием. В данном случае вариационная форма предоставляет весьма заманчивую и наиболее целесообразную возможность объединить отдельные небольшие эпизоды во взаимосвязанное целое. В оркестровых Вариациях на тему Гайдна[113]113
Я считаю необходимым придерживаться прежнего названия этого сочинения, несмотря на то что в последнее время возникли сомнения относительно автора использованной в нем темы (заимствованной, кстати, из некоей военной сюиты для духовых инструментов, где она носит заглавие «Хорал св. Антония»). До тех пор пока эти сомнения не подкреплены более убедительными аргументами, нежели нынешние, я не вижу оснований отрицать принадлежность данной темы Гайдну. – Прим. автора.
[Закрыть] Брамс обращается уже к иной идее формы – той, что применена, в частности, в «Гольдберговских вариациях» Баха, которые Брамс, подобно Бетховену, очень любил и к тому же тщательно изучал. Суть ее состоит в следующем: если тема представляет собой более или менее масштабный образ, то каждая вариация превращается в отдельную, со своим собственным лицом, характерную пьесу, а вся последовательность вариаций создает впечатление своего рода сюиты. В соответствии с этим в построении такой последовательности доминирующим становится принцип контраста, опирающийся на смену темпов и размеров.








