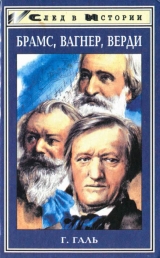
Текст книги "Брамс. Вагнер. Верди"
Автор книги: Ганс Галь
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
Здесь стоит заметить следующее. Даже среди великих композиторов Брамс занимает исключительное положение в том смысле, что его инструментальная музыка – камерная, оркестровая, фортепианная – почти в полном объеме живет в современной исполнительской практике. На этом основании легко сделать вывод, будто его вокальные произведения оказались менее жизнеспособными. Потому что нельзя не признать, что сегодня его вокальная музыка звучит гораздо реже, чем можно было бы ожидать, учитывая популярность его инструментальных произведений. Однако подобное умозаключение было бы неверным. Причина данного явления – то направление, какое приняло все развитие музыкальной жизни в нынешнем столетии. Параллельно невиданному взлету виртуозности и – соответственно – столь же невиданному росту исполнительских возможностей, а также небывалому прежде музыкальному предложению – в виде концертов, радиопередач, граммофонных записей – развивается нарастающий и, видимо, непреодолимый кризис музыкального любительства. В результате некоторые сферы музыки практически утратили свою функциональную значимость, и на музыке Брамса это сказалось в той же мере, что и на музыке других мастеров, чье творчество было так или иначе связано с этими формами, то есть с музыкой, предполагавшей соучастие исполнителей-дилетантов. Все, что Брамс написал, например, для фортепиано в четыре руки, пострадало от этого ничуть не меньше, чем его вокальные квартеты, его хоры без сопровождения, его вокальные дуэты. В свою очередь то обстоятельство, что сегодня песня отдана на откуп исключительно певцам-профессионалам, объясняет, почему две трети песенного творчества Брамса сделались сейчас столь благодатным полем для «открытий»: эта часть его наследия ныне уже почти никому не известна, ибо те несколько дюжин его песен, что по каким-то причинам не утратили популярности и в силу этого обязательно входят в репертуар каждого певца, исключили из обращения все остальные.
Зло, которое отсюда проистекает, неприятно вдвойне. Исчезает, утрачивается не только вся та замечательная музыка прошедших эпох, что не укладывается в рамки нашей стандартизированной концертной практики, – та, которую Бах называл музыкой «для знатоков и ценителей», – исчезают и сами эти знатоки и ценители; как действенный фактор они уже фактически не существуют. Если Брамс еще при жизни приобрел репутацию достойного продолжателя классиков, равного им во всем, то случилось это лишь благодаря сотням тысяч любителей-хористов, не устававших исполнять его произведения, и бесчисленным дилетантам-солистам, чья подготовка позволяла им отважиться на исполнение его музыки и тем самым по-настоящему освоить ее, проникаясь к ней все большей любовью и восхищением. Впрочем, Вагнер, как и Брамс, никогда не приобрел бы такой популярности без распространявшихся в сотнях тысяч экземпляров клавираусцугов его произведений, которые только и сделали его музыку подлинным достоянием широкой публики. Без деятельного сотрудничества этой лучшей, активной, способной к самостоятельным суждениям части музыкальной аудитории музыка все больше и все неотвратимее беднеет, и возместить это сотрудничество не в силах ни радио, ни граммофонная запись: тот, кому хоть в самой малой степени довелось пережить наслаждение, приносимое самостоятельным музицированием, тот легко поймет меня. Лишь пережив музыку в процессе собственного активного сотворчества, можно сделать ее своей в подлинном смысле этого слова.
Брамс, сам страстный музыкант-исполнитель, писал музыку именно для музицирующей аудитории, и это составляет одно из существеннейших ее свойств. Именно это укрепляет ее мелодическую структуру, делая ее столь притягательной для исполнителей. В свою очередь исполнители всегда были для Брамса самыми авторитетными критиками. Кроме того, он неизменно признавал и правомерность того суда, который составляет публика, сообщество слушателей, сколь ни пестро оно по составу. Сама мысль о том, чтобы отвернувшись от бессильного понять его настоящего, апеллировать к воображаемому будущему, показалась бы ему абсурдной.
При неудачах Брамс немедленно берет себя в руки (а он знавал неудачи, всерьез задевавшие его). С неудачей его первого крупного симфонического произведения, фортепианного концерта ре минор, которую он долго не мог пережить, сопоставима неудача и последнего из них – двойного концерта для скрипки и виолончели. Мандычевский был убежден, что Брамс в то время думал написать еще один концерт для двух или даже трех инструментов, возможно, отчасти набросал его – в соответствии со своей излюбленной манерой создавать два сходных по жанру произведения подряд. Прохладный прием, оказанный концерту на первых порах в Вене и других городах, а также вполне корректная и все же недвусмысленно сдержанная реакция друзей и даже самих исполнителей глубоко расстроили его и лишили мужества. Именно с этого момента он заговорил о том, что его путь завершен и что он, в сущности, уже не имеет права писать что-нибудь еще. И не исключено, что тот стремительный спад жизненной активности и творческой энергии, который наблюдается у него на пороге шестидесятилетия, обусловлен именно этим обстоятельством. Брамс нередко сам говорил, как обескураживает иной раз расстояние, отделяющее произведение в его живом виде от пригрезившегося идеала. По каким-то причинам в двойном концерте синтез отдельных частей в единое целое не удовлетворил ожиданий композитора. Случилось то, что зачастую бывало с ним и в его ранних произведениях. Но тогда он мог позволить себе роскошь объяснять эти огорчительные неудачи недостатками своей техники, отсутствием должного опыта и готов был учиться, чтобы исправить ошибки.
Глубокое сознание своей ответственности приводило к тому, что любая новая область музыкального искусства, к которой он обращался, ставила перед ним множество взаимосвязанных проблем, и подойти к их решению он стремился поначалу через практику. В Детмольде, когда ему было двадцать пять, он приобрел свой первый опыт в управлении оркестром и хором, причем расширению его познаний как хормейстера немало способствовал и Гамбургский женский хор. В Вене он обогатил свои дирижерские познания опытом исполнения ораторий. И тогда же нашлась великая тема, оплодотворившая его фантазию и давшая толчок к возникновению замысла, который впервые предоставил ему возможность раскрыть во всей силе свой, теперь уже вполне сформировавшийся талант, способный одолеть любую задачу. Так возник «Немецкий реквием» – произведение, открывающее период зрелого мастерства, обретенного ценой упорных пятнадцатилетних трудов, произведение, где вся щедрость молодости и энтузиазм жаждущей самовыражения души претворены в уникальнейшее свершение. И неважно, что в нем еще можно обнаружить признаки, указывающие на его переходный характер (например, несоответствие между оркестровкой и тем звучанием, к какому стремился композитор). Подобные упущения вполне искупает безошибочное чувство монументальной формы, острота поэтического чутья, мастерское владение хоровым письмом. Впрочем, самое важное, чего достиг здесь композитор, не поддается анализу: это та глубина воплощения пережитого, которая сразу же поражает душу слушателя, безвозвратно пленяя его, – то есть то, что таинственным образом свойственно любому великому произведению, шагнувшему за пределы своего времени.
Далось это Брамсу не просто. Уже после премьеры первых трех частей в Вене под управлением Гербека (декабрь 1867 года), закончившейся – вероятно, вследствие недостаточной подготовки – чувствительной неудачей, он еще раз, как пишет Рейн-талеру, «основательно прошелся пером по партитуре». А после решительной победы реквиема при исполнении в Бременском соборе добавляет к нему еще одну великолепную часть с солирующим сопрано.
Вообще-то впоследствии, учтя обретенный опыт, он всегда оставался верен привычке тщательно проверять каждое новое сочинение в репетиционной практике, прежде чем сделать его достоянием публики. Реквием остался его последним произведением, с которым он еще мог позволить себе экспериментировать публично.
Ибо отныне он стал – Маэстро.
Антиподы и борьба мнений
Одно ему все же тогда не удалось: стать тем самым маэстро. Этот титул был уже присвоен другому, этот трон был уже занят. Культ Вагнера сам по себе навязывал Брамсу соперничество с ним, которое, словно остинатная фигура, постоянно сопровождало его восхождение к славе. При всей природной скромности Брамса это не могло не сердить и не раздражать его. Соперничество единомышленников, художников, исповедующих сходные идеалы, – благородный стимул. Но когда в непримиримом противоречии сталкиваются два диаметрально противоположных символа веры, оно может превратиться в источник недобрых чувств, практически уже не подвластных контролю.
Брамс при каждом удобном случае – и устно, и в переписке – высказывал свое уважение к Вагнеру, отмечал масштабность его художественного дарования, глубину творчества и нередко говорил о себе как о «лучшем из вагнерианцев», справедливо полагая, что именно он, как никто другой, сумеет оценить достоинства вагнеровской музыки. И действительно, музыкант с подобной проницательностью, едва заглянув в любую из вагнеровских партитур, обречен на восхищение, сразу же обнаружив в ней уверенную руку мастера. Однако теории Вагнера он находил абсурдными, его методы рекламы и пропаганды – демагогическими, а едва ли не маниакальную страсть к роскоши – плебейской (с этим последним обстоятельством связано замечание Брамса в цитированном на с. 115 письме к Зимроку).
В ту пору, когда двадцати летний Брамс приехал к Листу в Веймар, он ни об одном из этих вопросов еще и не ведал, а с музыкой Вагнера был, пожалуй, вовсе не знаком. Но натурам столь сильным, как он, свойственна инстинктивная точность реакций – как негативных, так и позитивных. И ситуация, с которой он столкнулся тогда в Веймаре, навсегда осталась для него воплощением тех порочных принципов, компромисс с которыми для него был безусловно исключен. Правда, чтобы стать убежденным приверженцем строгой формы, Брамсу вряд ли требовался противостоящий ей «контрдовод» в виде «музыки будущего» – эта приверженность была изначально заложена в нем. Музыку Листа и его программу он со спокойной совестью отвергал как «бред». Но рядом с Листом стояла другая фигура, тень от которой, по мере того, как «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Летучий голландец» завоевали оперные театры, все более заполняла авансцену немецкой музыки.
Встречи Брамса и Вагнера напоминают спектакли, словно по заказу срежиссированные судьбой. Сразу по приезде Брамса в Вену осенью 1862 года там объявился и Вагнер, чтобы продвинуть дела с постановкой «Тристана» в придворной опере (позднее, после долгих, растянувшихся на месяцы репетиций, этот спектакль был все же отложен на неопределенный срок из-за неразрешимых трудностей с составом исполнителей). Ближайшие друзья Вагнера в Вене – Корнелиус и Таузиг – были дружны и с Брамсом. Через них он установил контакт и с самим Вагнером, не погнушавшись при этом предоставить великому композитору свои услуги в качестве переписчика нот. Вагнер, который привык вести дела с размахом, не жалея затрат, решил дать в Вене три симфонических концерта. В программу были включены фрагменты из «Золота Рейна», «Валькирии» и «Мейстерзингеров», для чего потребовалось переписать из партитуры оркестровые голоса, поскольку все эти оперы еще не были изданы.
О том, что произошло дальше, можно узнать из воспоминаний Вагнера: «Корнелиус и Таузиг вместе с несколькими помощниками засели за работу по переписке голосов, которая – в целях достижения необходимой музыкальной точности – могла быть выполнена лишь теми, кто хорошо умел читать партитуры… Вместе с Таузигом вызвался помочь и Брамс, которого Таузиг рекомендовал мне как «славного малого». Брамс, и сам уже достаточно знаменитый, готов был взять на себя часть их работы и потому получил фрагмент из «Мейстерзингеров». Он и в самом деле вел себя скромно и прилично, только уж слишком тихо, так что во время наших встреч его, случалось, никто не замечал». Молчаливость гостя на этих встречах объясняется экспансивностью, бурным темпераментом самого Вагнера, а равно его страстью к бесконечным разглагольствованиям. Именно это и превратило сдержанного от природы уроженца немецкого севера в молчальника. Но прежде всего дело было в непреодолимой противоположности их характеров. Страстной, беспокойной, неугомонной натуре Вагнера с его ненасытной потребностью высказаться противостояли рассудительность и редкостное в столь молодом возрасте самообладание Брамса, предпочитавшего сначала трезво разобраться, что к чему, а потом уже делать выводы.
Ситуация эта во многом напоминает другую, возникшую пятнадцатью годами раньше. О ней поведал Ганслик, познакомившийся в Дрездене с Шуманом и Вагнером как раз тогда, когда последний, будучи капельмейстером придворной оперы, подготовил премьеру своего «Тангейзера». Вагнер отзывался о Шумане с уважением, но без симпатии: «Внешне мы с Шуманом относимся друг к другу хорошо. Но разговаривать с ним нельзя. Это же невозможный человек, из него слова не вытянешь!» Далее Ганслик поясняет: «Речь Вагнера – распевно-монотонный саксонский диалект – была невероятно быстра и многословна. Он говорил не умолкая, и притом только о себе, о своих произведениях, своих реформах и планах. И если и упоминал при этом кого-нибудь из других композиторов, то, разумеется, в пренебрежительном тоне». Но вот в разговоре с Шуманом заходит речь о Вагнере, и Ганслик спрашивает, удается ли Шуману разговаривать с ним. «Нет, – ответил Шуман. – Для меня Вагнер просто невыносим. Конечно, он интересный человек, но слишком уж много говорит. Нельзя же говорить без умолку!»
Оставаясь скупым на слова, Брамс все же играл Вагнеру на фортепиано. Достоверно известно, что он показал ему свои Генделевские вариации, и Вагнер признал, что с помощью старых форм – если только уметь с ними обращаться – можно еще многого добиться. Факт этот подтверждает сам Вагнер в работе «О дирижировании», где он в целом не слишком благожелателен к Брамсу. О случае с вариациями он рассказывает со своей обычной, порой неподражаемо ядовитой иронией: «К самим композиторам этого сорта нельзя предъявить особых претензий; большинство из них сочиняет совсем неплохую музыку. Г-н Иоганнес Брамс однажды был настолько любезен, что согласился сыграть мне одну из своих пьес с серьезными вариациями, из которой я понял, что он шутить не любит, и которая показалась мне вполне замечательной».
Понятно, что отношения между обоими так и не вышли за рамки холодной вежливости; для дальнейшего сближения не было поводов. Однако в тот раз у Брамса появилась возможность основательно проштудировать партитуры Вагнера. И кроме того, он присутствовал на вагнеровских концертах в Вене, прошедших с сенсационным успехом, но принесших также и ощутимые убытки, покрыть которые Вагнер с обычной для него беззаботностью предоставил своим венским друзьям.
Брамсу, хоть он и был на двадцать лет моложе, нечему было учиться у Вагнера. Их воззрения в главном были противоположны, причем эта противоположность проистекала отнюдь не из естественного противоречия между симфонистом и музыкальным драматургом; оно проступало уже в том пренебрежении, с каким Вагнер отзывался о «старых формах». И он, и Лист не раз доказывали, что эти формы уже не имеют права на существование, причем так настойчиво и безапелляционно, что уже признание того факта, что эти формы все еще существуют, прозвучало бы в их устах по меньшей мере странно. Для Брамса же они были величайшим и плодотворнейшим наследием, той квинтэссенцией мудрости прошедших поколений, освоить которую было первой и самой необходимой обязанностью музыканта, ставящего перед собой серьезные цели. Все, что он уже умел, все, чего он когда-нибудь сможет достичь, было и будет, как он считал, результатом проникновения в самую суть достижений его духовных предшественников, тех, кто стоял у истоков этой мудрости, кому была дарована возможность черпать непосредственно из этих истоков. Он видел себя малой частицей некоего вечного макрокосма. «Страсти по Матфею» и «Хорошо темперированный клавир», «Дон Жуан» и «Фиделио», струнные квартеты Гайдна и песни Шуберта стали для него тем же, чем дарохранительница для верующего: символом вечной истины.
В сравнении с этим художественные взгляды Вагнера во всем, что касается прошлого, легкомысленно-непочтительны. Музыкальное прошлое для него, при всей его гениальной неповторимости, есть категория чисто историческая, продукт эмбриональной стадии того развития, конечной целью которого представляется ему он сам, тот, кому суждено претворить в жизнь единственно достойный, подлинный, непреходящий идеал: всеобъемлющее художественное произведение. В этой одержимости самим собой есть все же нечто замечательное: именно она привела к созданию «Кольца», «Тристана», «Мейстерзингеров», «Парсифаля», к превращению Байрейта в храм, привлекающий толпы паломников. Для того чтобы в полной мере выявить свою способность к продуктивному творчеству, Вагнер явно нуждался в эйфорической мании величия. Есть некая обезоруживающая наивность в том, как он сообщает о замысле собственной «Поэмы о Кольце» своему дрезденскому другу Теодору Улиту: «Все это будет – а, к черту! я не стыжусь об этом сказать – величайшим из всего, созданного до сих пор в поэзии!» Неудивительно, что среди его современников не было ни одного поэта, ни одного композитора, за которым он готов был признать хоть какие-то достоинства.
Возможно, то обстоятельство, что Ганслик, стойкий антивагнерианец в критике, не упускал возможности прославить Брамса в ущерб Вагнеру, дало повод последнему заподозрить за нападками Ганслика происки самого Брамса. Разумеется, такое подозрение было бы несправедливым. У Брамса нет ни одного достоверно засвидетельствованного антивагнеровскогс высказывания. Ганслик сам заверяет: «Нередко мне приходилось слышать, как горячо он вступался за Вагнера, когда сталкивался с презрительными высказываниями в его адрес, порожденными невежеством и заносчивой наглостью. Он видел и полностью признавал все блистательные стороны таланта Вагнера». Но для Вагнера достаточно было уже того, что всерьез принимали еще кого-то, кроме него самого. И уж совершенно непростительным в Брамсе была в глазах Вагнера его (Брамса) слава, неудержимо разраставшаяся после появления «Немецкого реквиема».
В 1879 году университет в Бреслау сделал Брамса своим почетным доктором. Когда сообщения об этом появились в печати, да еще с цитатами из диплома, где Брамс был поименован как «Первый среди ныне живущих мастеров серьезной музыки в Германии» (Artis musicae severioris in Gemania nunc princeps. – лат.), и когда это к тому же совпало с теми особыми почестями, которых он был удостоен на торжествах по поводу 50-летия Гамбургской филармонии, – у байрейтского маэстро лопнуло терпение, и он опубликовал статью «О поэтическом и композиторском творчестве» («Байрейтер блеттер», 1879 год), где самым скандальным образом обрушился на Брамса (не называя, впрочем, его по имени):
«Будьте композитором, будьте им, даже если у вас нет ни единой мысли в голове! Зачем вообще называть эту деятельность «композиторской» – то есть составительской, – коль для нее еще требуется и сочинительский дар? Но чем вы скучнее, тем пикантней должна быть ваша маска – это ведь так забавно! Я знаю знаменитых композиторов, которые на нынешних маскарадах, именуемых концертами, могут явиться публике сегодня под личиной уличного певца [ «Песни любви – вальсы». – Авт.], завтра – в ханжеском парике какого-нибудь Генделя [ «Триумфальная песнь». – Авт.], в другой раз – под видом еврея, пиликающего свой чардаш [ «Венгерские танцы». – Авт.], а затем снова в качестве почтенного симфониста, закутанного в свою Десятую [слова Бюлова, см. с. 79. – Авт.]. Смешно? Легко вам смеяться, остроумные слушатели! Но ведь они-то при этом по-прежнему строги и серьезны – настолько, что одному из них пришлось даже пожаловать титул принца серьезной музыки – дабы отбить у вас охоту смеяться. Впрочем, может, теперь-то как раз и можно посмеяться? Этот серьезный музыкальный принц вообще-то с самого начала должен был нагнать на вас смертельную скуку, если бы вы, хитрецы, не прознали, что под маской скрывается не некто достойный, а субъект, вполне вам подобный, с которым в свою очередь можно затеять игру в маски, притворившись, будто он восхищает вас, а затем еще больше позабавиться, обнаружив, что и он притворяется, будто верит вам… Покойный Готлиб Рейсигер, мой коллега-капельмейстер в Дрездене, автор сочинения «Последние мысли Вебера» [вальс Рейсигера, ставший популярным. – Авт.], однажды горько жаловался, что та же самая мелодия, которая так нравилась публике в «Ромео и Джульетте» Беллини, в его, Рейсигера, «Адели де Фуа» не производила никакого впечатления. Мы опасаемся, как бы композитору, выразившему вслух последние мысли Роберта Шумана [ «Немецкий реквием». – Авт.], не пришлось жаловаться на те же самые капризы судьбы. Замечательные слова Мендельсона: «Каждый сочиняет не лучше, чем может» [сказано о Берлиозе. – Авт.] – мудрая норма, которую никому не дано нарушить. Грехопадение начинается именно в тот момент, когда у кого-то возникает желание сочинять лучше, чем он может. Поскольку ничего путного из этого не выходит, остается лишь одно: сделать вид, будто все вышло как надо. Это и есть маска. Впрочем, и от этого вреда еще немного; хуже, когда маска начинает обманывать множество людей: всякое начальство и т. п. Тогда-то и сталкиваемся мы с такими фактами, как торжественный банкет в Гамбурге и бреслауский диплом. Ибо подобный обман возможен лишь в том случае, если удалось внушить людям, будто некий субъект и впрямь сочиняет лучше других, тех, кто действительно хорошо сочиняет».
Брамс никак не реагировал на эту вспышку гнева. Возможно, он проводил различие между художником, которого уважал, и злобным полемистом, наносившим подобными выпадами куда больший ущерб собственной репутации, нежели репутации тех, на кого он обрушивался. Однако от Брамса-человека – с характером, будто вырубленным из крепчайших древесных пород, от Брамса-художника, сознающего свою значимость, но вынужденного десятилетиями доказывать эту свою значимость, преодолевая сопротивление противной партии, – от этого Брамса вряд ли следовало ждать выражения дружеских чувств, когда речь шла о вагнеризме как таковом, о его претензиях на безраздельную эстетическую диктатуру, условия которой для него были абсолютно неприемлемы. Он шел своей собственной дорогой, не смущаясь нападками ни слева, ни справа. Консерваторы были ему не по душе не меньше, чем прогрессисты. С недоверием, которое слышалось в одобрительном, в целом, отзыве Ганслика на первый концерт Брамса в Вене (см., с. 90), композитору приходилось сталкиваться и раньше, в Гамбурге и Лейпциге. Там его тоже упрекали в недостатке запоминающихся мелодий, в ненужной сложности, в гипертрофии гармоническо-контрапунктического начала. Чем больше он закреплялся в сознании общественности как вполне определенное явление, тем энергичней нападали на него публицисты вагнеровской партии. То, что пишет, например, о «Немецком реквиеме» Корнелиус – ценитель, в общем-то, объективный и благожелательный, – являет собой характерный образец суждений, основанных на эстетике, ни в чем не соприкасающейся с эстетикой Брамса (а ведь Корнелиус представлял умеренное крыло в партии). «В сотый раз услышать, – говорится в одном из его писем сестре, – как, используя все богатейшие, замечательнейшие возможности искусства, публике поют про то, как мыслилась людям смерть в эпоху средневековья, – нет, такое меня нисколько не волнует».
Суждения современников интересны даже в том случае, если они неверны. Из них мы узнаем, как формируется непосредственное впечатление от музыки в момент, когда еще не существует каких-то предвзятых мнений о ней, – причем формируется вне зависимости от всех различий в способностях к восприятию и предпосылках этого восприятия – и позитивного, и негативного плана. О Вагнере менее всего можно сказать, что он был объективным критиком. И однако его убежденность в том, что музыка Брамса небогата на озарения и скучна, имела свои реальные причины. Композитор-драматург ждет от озарения выхода к элементарно-конкретному. С темами Брамса Вагнер просто не знал бы, что делать. И если вспомнить, например, о Первой симфонии Брамса – вероятно, единственной, которую Вагнер слышал, – то нетрудно себе представить, с каким нетерпением ему уже в первой части пришлось ждать хоть какой-нибудь идеи, какой-нибудь мелодии, величественной и пластичной, неукротимо заполняющей зал. Великолепие этой первой части возникает из музыкальных качеств, чуждых композитору-драматургу из разработанных до мельчайших деталей и основанных на точных полифонических соотношениях тематических сцеплений, из тончайшего, выверенного и выдержанного от начала до конца тонального равновесия, из структуры формы, грандиозность которой осознается лишь тогда, когда вся часть воспринимается как огромный целостный континуум.
Здесь уместно вспомнить, что автор этой Первой симфонии в пору ее создания был еще поглощен борьбой за овладение бетховенским принципом монументальной формы. Проблемы, мучившие молодого Иоганнеса, кипение страстей, определявшее его внутреннее состояние, хаотический мир бетховенской Девятой, который по-прежнему не отпускал его и который он по-своему пытался обуздать с помощью формы – что в течение столь долгих лет ставило его перед непреодолимыми трудностями, – все это объясняет известную странность Первой симфонии, позволяя видеть в ней вопреки времени ее создания (Брамсу исполнилось сорок четыре, когда он ее опубликовал) переходное произведение. Нельзя не отметить разительное сходство гимнической темы финала с мелодией гимна «К радости» в бетховенской Девятой (которое «даже ослу заметно», как говорил сам Брамс, маскируя грубоватой шуткой свою нечистую совесть). Но еще больше бросается в глаза общее развитие мысли в этом произведении, которое, по необходимости несколько упрощая, можно охарактеризовать словами «От мрака к свету» или «Борьба и Победа» и которое недвусмысленно следует образцу Пятой и Девятой Бетховена. Это немедленно уловил Бильрот, когда Брамс познакомил его с партитурой: «Изучая партитуру, я все отчетливей видел, что в основе симфонии лежит движение настроений, в своем итоге сходное с итогом Девятой Бетховена». При всей обычности подобного развития музыкальной мысли, возражать против него не приходится. Оно заложено в самой сути бетховенского симфонизма, к которому непосредственно примыкает симфонизм Брамса. Однако нельзя при этом упускать из виду одно важное различие между обоими композиторами. Бетховен – это идеалист, убежденный оптимист, в котором, как и в Шиллере, был жив оптимистический философский рационализм, нашедший свое выражение в Лейбницевой вере в «лучший из возможных миров»[102]102
Имеется в виду постулат великого немецкого математика, физика, языковеда и философа-идеалиста Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716), гласящий, что существующий мир создан Богом как «наилучший из всех возможных миров» («Теодицея», 1710).
[Закрыть]. Но Брамс! Скептик-пессимист второй половины XIX столетия, он был бесконечно далек от подобных рационалистических воззрений. Гимническому размаху в финале его симфонии недостает некоего завершающего элемента, только и способного создать эффект искренней, убежденной и убеждающей радости. Ликующая нота, на которой оканчивается финал, есть результат самообмана. В финале более ощутима воля к радости, нежели подлинная радость.
Финалу, бесспорно, принадлежит решающая роль в формировании того впечатления, которое производит симфония. Он покоряет великолепием гимнической темы и пластической красотой той мелодии валторны, которая возникает при переходе от мрачного вступления к финальному Allegro — возникает подобно первому лучу света, падающему, наконец, на сцену. Судьба этой части, и тем самым, видимо, всей симфонии, была решена именно этой замечательной темой, которую Брамс приводит в письме Кларе Шуман от 12 сентября 1868 года – за восемь лет до завершения симфонии, сопроводив ее словами, мыслившимися, впрочем, как знак нежности и не имевшими отношения к ситуации финала:

С гор и дол, где мрак и свет,
Шлю стократ тебе привет.
Однако можно с уверенностью сказать, что для восприимчивого слушателя в ней есть один сомнительный момент: она театральна, а не симфонична. Со своим тремоло в сопровождении, со своим движением в квартсекстаккорде она чужда последующей хоральной мелодии и вообще занимает особое место в симфоническом творчестве Брамса. Несколько вымученно и не вполне убедительно и ликование, звучащее в коде. Клара, обладавшая редкостной остротой восприятия, бросает по этому поводу одно вроде бы попутное замечание, попадая, однако, в самую точку: «Теперь, если позволишь, еще о последней части, точнее, ее концовке (Presto). В музыкальном отношении оно, как мне показалось, не согласуется с огромным воодушевлением в предшествующих эпизодах. В Presto, по-моему, подъем воспринимается более как внешнее, нежели как внутреннее движение, и мне кажется, что Presto не вырастает из всего предыдущего, но выглядит как добавочная блестящая концовка. Извини, дорогой Иоганнес, но с тобой я не могу быть неоткровенной».
Брамс вообще по натуре был не слишком предрасположен к ликованию. В финале Второй симфонии, где он ближе всего подходит к этому настроению, оно все же приглушено стилизацией под классику. За исключением пышных бород и поднятых пивных кружек в коде «Академической торжественной увертюры», которую можно не принимать в расчет как произведение на определенный случай, он в своей музыке нигде не предается такому вот беззаботному, до-мажорному ликованию. И когда Вагнер находил какие-то слабости у Брамса-симфониста, то – став на его точку зрения – его можно понять. Да и критика, верная Вагнеру, никогда не уставала попрекать Брамса тем, что его симфоническим произведениям недостает искренности, непосредственности и ярких мелодических находок.
Брамсу в свою очередь недоставало в музыке Вагнера той глубинности крупной формы, которая как раз для композитора-драматурга не имеет особого значения. Лучше всего и благожелательнее всего о своем великом противнике Брамс высказался в одном из писем Видману (1888): «Если бы Байрейтский театр находился во Франции, то, чтобы стать для Вас, для Вендта [философ и эстетик. – Авт.] и вообще для всего мира местом паломничества, восхищающим народ идеальными по замыслу и воплощению спектаклями, ему вполне бы хватило творений и не столь великих, как вагнеровские».








