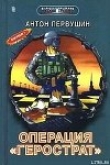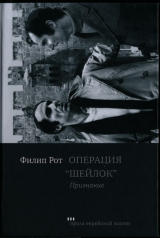
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Второй за два дня еврейский суд в моей жизни. Судьи-евреи. Еврейские законы. Еврейские флаги. И ответчики – неевреи. Суды, о которых грезили евреи много столетий, ответ на страстное желание получить то, что казалось даже менее осуществимым, чем собственная армия или свое государство. Наступит день, когда правосудие будем вершить мы!
Что ж, этот день, как ни поразительно, наступил, и вот мы здесь, вершим правосудие. Осуществление еще одной свойственной человеку мечты, на которую возлагалось столько надежд, – в совсем не идеальной форме.
Джордж и Камиль лишь ненадолго сосредоточились на перекрестном допросе; скоро Джордж взял блокнот и начал делать заметки, а Камиль снова зашептал, почти уткнувшись в мою щеку:
– Брату сделали инъекцию.
Мне сначала показалось, что он сказал «имитацию».
– А что это? – спросил я.
– Инъекция, – он показал наглядно, нажав большим пальцем на мое предплечье.
– От чего?
– Ни от чего. Чтобы ослабить организм. Теперь у него все тело ноет. Посмотрите на него. Еле держит голову. Ему шестнадцать лет, – сказал он, умоляюще расставив ладони прямо перед своей грудью, – а они вкололи ему что-то, чтобы он заболел. – Руки показывали жестами, что для них это обычный поступок, их ничем не остановишь. – Они используют медперсонал. Завтра я пойду жаловаться в Медицинское общество Израиля. И они обвинят меня в клевете.
– А может, медики сделали ему инъекцию, – шепнул я в ответ, – потому что он уже заболел.
Камиль улыбнулся, точно ребенку, который играет со своими игрушками, пока его мать или отец умирает в больнице. Потом прижался губами к уху и прошипел:
– Это они больные. Вот так они подавляют восстание упорных националистов. Пытками, которые не оставляют отметин. – Он указал на полицейского на свидетельской трибуне. – Тоже симуляция. Дело тянется и тянется только для того, чтобы мы дольше мучались. Это длится уже четвертый день. Они думают, если донимать нас достаточно долго, мы сбежим жить на Луну.
Повернувшись ко мне в следующий раз, Камиль стиснул мою руку:
– Я везде встречаю людей из ЮАР, – прошептал он. – Разговариваю с ними. Задаю им вопросы. Потому что каждый день сходство все сильнее.
Шепот Камиля начинал меня нервировать, как и та роль, которую я уготовил себе по необъяснимой причине – по своей блажи. «Чем можем помочь тебе мы?» То ли он старался завербовать меня в союзники по борьбе с евреями, то ли прощупывал меня, выясняя, такой ли уж я ценный человек, как считает Джордж из-за моего визита к Леху Валенсе. Я подумал, что всю жизнь сам себя втягиваю в такие вот запутанные коллизии, но до сих пор это происходило по большей части в моих книгах. Ну и как мне теперь выпутаться?
И снова плечо Камиля надавливает на мое, и его теплое дыхание обдувает мою кожу:
– Разве я неправ? Не будь Израиль еврейским…
Резкий стук молотка по столу – так судья дал понять Камилю, что, пожалуй, пора заткнуться. Камиль невозмутимо перевел дух и, в ответ на замечание судьи, сложил руки на коленях и минуты две провел в состоянии медитации. А затем снова зашептал мне в ухо:
– Не будь Израиль еврейским государством, разве те же самые американские евреи-либералы, которые так переживают за его благоденствие, разве они не осудили бы его обхождение с арабским населением так же сурово, как осуждают сейчас ЮАР?
Я снова обошелся без ответа, но его это обескуражило не больше, чем грохот судейского молотка.
– Конечно, теперь ЮАР – это уже пустой звук. Теперь, когда они ломают руки и делают заключенным инъекции, теперь думаешь не о ЮАР, а о нацистской Германии.
Тут я повернулся к нему лицом, совершенно инстинктивно – так я нажал бы на тормоз, если бы наперерез моей машине на дорогу выскочило животное. А на меня без малейшей агрессии уставились влажные глаза, наделенные неисчерпаемым, совершенно непостижимым для меня красноречием. Мне было бы достаточно просто сочувственно кивнуть, кивнуть и состроить глубокомысленную мину, чтобы продолжить маскарад, – но к чему это лицедейство? Если у него когда-либо и существовала цель, то теперь я слишком раскипятился из-за безрассудных речей этого господина, вздумавшего меня дразнить; я позабыл, зачем надел на себя маску, мне расхотелось продолжать лицедейство. Хватит, я уже наслушался.
– Видите ли, – заговорил я, вначале тихо и негромко, но, вот что удивительно, моментально перестал себя контролировать, едва слова сорвались с языка, – нацисты не ломали рук. Они занимались промышленной ликвидацией людей. Превратили смерть в производственный процесс. Пожалуйста, не надо метафор там, где есть исторические документы!
С этими словами я вскочил, но, пока я перебирался через ноги Джорджа, судья взмахнул молотком, на сей раз дважды, и в заднем ряду проворно встали четверо солдат, а я заметил, что вооруженный охранник у двери, к которой я направлялся, загораживает мне дорогу. Затем проницательный судья, заговорив по-английски, звучно объявил на весь зал:
– Нравственное чувство мистера Рота оскорблено нашим неоколониализмом. Дорогу. Ему нужно на воздух.
Затем он перешел на иврит, и охранник, который загораживал дверь, подвинулся, а я распахнул дверь и вышел во двор. Но у меня не нашлось и минуты на размышления о том, как мне самостоятельно добраться до Иерусалима: вслед за мной из дверей высыпали все, кого я оставил в зале. Все, кроме Джорджа и Камиля. Неужели их арестовали? Заглянув в распахнутую дверь, я увидел, что подсудимых увели, зал пуст, люди есть только на помосте. Именно там, за спиной судьи-офицера – вероятно, тот объявил перерыв, чтобы обратиться к ним с глазу на глаз, – стояли два моих запропавших собеседника. В данный момент судья слушал, а не говорил. Говорил Джордж. С пеной у рта. Камиль тихо стоял рядом с ним, долговязый, заложив руки в карманы – атакующий, ловко маскирующий свой натиск под терпеливость.
Адвокат, тот здоровенный бородач в кипе, усердно пыхтел сигаретой в нескольких метрах от меня. А когда я обернулся к нему, улыбнулся – улыбкой, в которой таилось ядовитое жало.
– Итак, – сказал он с таким видом, словно, еще не успев обменяться и парой слов, мы уже поставили друг другу пат. Прикурил от окурка вторую сигарету и после нескольких неистовых, глубоких затяжек заговорил снова: – Итак, вы – тот самый, о котором все говорят.
Поскольку он видел мой тет-а-тет в зале суда с местной знаменитостью, братом подсудимого араба, и должен был предположить, пусть даже ошибочно, что моя предвзятость, если она мне вообще свойственна, не может быть полярной противоположностью его предвзятости, откровенное презрение в его словах меня огорошило. Еще один антагонист. Но мой или Пипика? Как оказалось, в некотором роде обоих.
– Да, вы открываете рот, – сказал он, – и, что бы ни слетело с вашего языка, весь мир обращает на это внимание. Евреи начинают раздирать свои одежды: «Почему он против нас? Почему он не за нас?» Упоительное, должно быть, чувство, когда людям настолько важно, за что вы и против чего.
– Уверяю, это приятнее, чем быть адвокатом, который защищает мелких воришек где-то в захолустье.
– Ортодоксальным евреем-адвокатом весом в сто тринадцать килограммов. Не преуменьшайте мою незначительность.
– Да бросьте вы, – сказал я.
– А знаете, когда эти шмоки[23] начинают долбить меня за то, что я защищаю арабов, мне обычно лень даже слушать. «Так я зарабатываю, – говорю им. – Чего еще ждать от такого проходимца, как я?» Говорю им, что арабы уважают толстяков, что толстяк может их обчистить, как липку. Но когда Джордж Зиад приводит сюда своих знаменитостей-леваков, мне кажется, что я почти такой же гнусный тип, как они. У вас есть хотя бы одно оправдание – карьеризм. Разве вы пробьетесь в Стокгольм, не заработав очков в «третьем мире»?
– Ну да, ну конечно. Чтобы хапнуть премию, все средства хороши.
– Тот щеголь, их певец судебных процессов… Он вам еще не говорил про горящий дом? «Если вы выпрыгнете из горящего дома, можете свалиться на закорки человеку, который просто случайно шел мимо по улице. Это уже страшный несчастный случай. И вы не должны вдобавок лупить этого человека палкой по голове. Но именно это происходит на Западном берегу. Сначала они свалились кому-то на закорки, чтобы спастись, а теперь лупят их по головам». Бездна народной мудрости. Как подлинно. А за руку он вас пока не брал? Еще возьмет, задушевно так, когда вы соберетесь уезжать. Камилю за это положен «Оскар». «Вы уедете отсюда и забудете, и она уедет отсюда и забудет, и Джордж уедет отсюда и – почем я знаю! – возможно, даже Джордж забудет. Но тот, кто получает удары, приобретает иной опыт, чем тот, кто эти удары отсчитывает». Да, мистер Рот, вы для них – крупная добыча. Вы – еврейский Джесси Джексон, вы стоите тысячи Хомских. А, вот и они, – сказал он, покосившись на Джорджа и Камиля, вышедших во двор, – любимые жертвы всего мира. О чем они мечтают? О Палестине или о Палестине и Израиле? Попросите их при случае, чтобы они попытались рассказать вам правду.
Присоединившись к нам, Джордж и Камиль первым делом пожали руку здоровяку-адвокату; он, в свою очередь, угостил обоих сигаретами, а когда я отказался взять сигарету, закурил сам и расхохотался: резко, яростно, с кавернозными обертонами, не пророчившими ничего хорошего его бронхам; еще тысяча пачек, и ему, возможно, никогда уже не придется терпеть сентиментальную наивность таких знаменитостей-леваков, как мы с Джесси Джексоном. «Выдающийся писатель, – объяснил он Джорджу с Камилем, – не знает, как понимать наше добросердечие». А потом сообщил мне по секрету:
– Это Ближний Восток. Мы все умеем лгать с улыбкой. Искренность чужда этому миру в принципе, но у этих ребят, местных уроженцев, своя особая специальность, свой профиль – фабриковать искренность вполсилы. Вы еще узнаете, что таково свойство арабов: они абсолютно естественны в обеих ролях одновременно. Ведут одну линию убедительно – совсем как вы, когда пишете, – а в следующую же секунду, едва кто-то покинет зал, развернутся на сто восемьдесят градусов и полностью переродятся.
– И как вы это объясняете? – спросил я у него.
– Ради личных интересов дозволено все. Это заложено в подсознании. Пустыней навеяло. Эта травинка – моя, и либо моя скотина ее съест, либо моя скотина подохнет. Либо моя скотина подохнет, либо твоя. Так возникают личные интересы, оправдывающие любое двуличие. В исламе есть понятие «такия». По-английски это обычно называют «утаивание». Оно особенно развито в шиитском исламе, но вообще-то встречается во всей исламской культуре. На уровне доктрин утаивание – часть исламской культуры, позволение лицемерить распространено широко. В рамках этой культуры от тебя не ждут слов, которые для тебя опасны; тем паче от тебя не ждут ни откровенности, ни искренности. Иначе тебя посчитают дураком. Люди говорят одно, в обществе занимают определенную позицию, а внутренне они совсем другие, в частной жизни ведут себя совсем иначе. У них есть специальное выражение: «движущиеся пески» – «рамаль мутахарика». Один пример. Сколько они ни бравируют своим противодействием сионизму, а во времена британского мандата, с первых до последних дней, продавали землю евреям. Продавали не только мелкие ловкачи, но и их главное руководство. Однако у них есть отличная поговорка, которая и это оправдывает. «Ад-дарури лих ахкаам». «Необходимость диктует свои правила». Утаивание, двуличие, скрытность – все эти ценности весьма дороги вашим друзьям, – продолжал он. – Они полагают, что окружающих не следует посвящать в свои истинные мысли. Вот видите, на евреев ничуть не похоже: те без запинки вываливают всем все, что у них на уме. Раньше я думал, что Бог послал арабов евреям, чтобы выматывать им всю душу и сохранять их еврейский характер. Но познакомившись с Джорджем и певцом судебных процессов, разобрался получше. Бог послал нам арабов, чтобы мы могли поучиться у них изворотливости.
– А зачем, – спросил у него Джордж, – Бог дал евреев арабам?
– В наказание, – ответил адвокат. – Вы это знаете лучше всех. Чтобы наказать, конечно, за то, что араб отпал от Аллаха. Джордж – великий грешник, – сообщил он мне. – Он вам нарасскажет занимательных историй про то, как отпал от Бога.
– А Шмуэль° – великий актер, его актерский талант затмевает все мои грехи, – сказал Джордж. – В наших общинах он играет роль святого – еврей, защищающий гражданские права араба. Если тебя представляет адвокат-еврей, у тебя есть хоть какой-то шанс в суде. Так думает даже Демьянюк. Демьянюк уволил своего мистера О’Брайена и нанял Шефтеля – тоже тешится иллюзией, будто это поможет. На днях я слышал, как Демьянюк сказал Шефтелю: «Если бы моим адвокатом с самого начала был еврей, я не знал бы теперешних бед». Шмуэль, надо признать, – это вам не Шефтель. Шефтель – звезда антиистеблишмента: с этих украинцев сдерет все, что у них только есть. На этом охраннике Треблинки он заработает полмиллиона. Смирению Святого Шмуэля такое чуждо. Святого Шмуэля не волнует, что нищие подзащитные платят ему жалкие гроши. И чего ему волноваться? Он получает зарплату в другом месте. Им мало, что «Шин-Бет» разъедает нашу жизнь, покупая себе стукача в каждой семье. Им мало изображать змея-искусителя перед людьми, которые и так порабощены, перед людьми, которые, казалось бы, и так достаточно унижены. Нет, даже адвокат по делам о защите гражданских прав должен быть шпионом, даже таких людей им нужно развратить.
– Джордж несправедлив к своим стукачам, – сказал мне адвокат. – Да, их полным-полно, но почему бы им не быть? Для нашего региона профессия традиционная, и те, кто ее выбрал, поднаторели что надо. Здесь у доносительства долгая и замечательная история. Доносительство восходит не только к британцам, не только к туркам – оно уходит в глубь веков, к Иуде. Джордж, не выходи за рамки культурного релятивизма: здесь доносительство – образ жизни, заслуживающий вашего уважения не в меньшей мере, чем исконный образ жизни любого общества. Ты столько лет прожил за границей, предаваясь интеллектуальному плейбойству, ты так надолго разлучился со своим народом, что судишь его – если мне позволены подобные выражения – чуть ли не свысока, с точки зрения израильских псов империализма. Ты говоришь о доносительстве, но доносительство дает маленькую отдушину от всех унижений. Доносительство наделяет человека определенным статусом, доносительство сулит привилегии. Ей-богу, ты не должен срочно резать глотки своим коллаборационистам, если сотрудничество с оккупантами – одно из самых почитаемых достижений вашего общества. Собственно, жечь им руки и забивать их камнями до смерти – нечто, равносильное преступлению против антропологии, а для человека в твоем положении – еще и глупость. Поскольку в Рамалле и так всякий подозревает всех остальных в доносительстве, какой-нибудь пылкий дурень однажды, запутавшись, сочтет коллаборационистом тебя и перережет твою глотку. А что, если бы я сам распустил такой слух? Пожалуй, я мог бы сделать это, не испытывая сильного омерзения.
– Шмуэль, – ответил Джордж, – делай что делаешь, распускай лживые слухи, если хочешь…
Пока они подтрунивали друг над другом, Камиль стоял в стороне и молча курил. Казалось, он даже не слушает, да и стоило ли ему слушать, поскольку этот маленький невеселый водевиль явно разыгрывали, чтобы раскрыть глаза мне, а не ему.
Солдаты, курившие в другом конце двора, потянулись к дверям, адвокат Шмуэль прикрыл рот ладонью, сплюнул на пыльную землю и внезапно ретировался, не сказав никому из нас на прощанье ничего оскорбительного.
Теперь, когда Шмуэль ушел, Камиль обратился ко мне:
– Я принял вас за другого.
Это за кого же на сей раз? – задумался я. Стал ждать, что еще он мне скажет, но Камиль какое-то время молчал – похоже, думал о чем-то еще.
– Слишком много надо сделать, – пояснил он наконец, – на всё времени не хватает. Мы все слишком много работаем, переутомляемся. От недосыпа тупеешь. – Сдержанно извинился – а меня его сдержанность нервировала, как и все прочее в нем. Поскольку его ярость не вспыхивала ежеминутно прямо перед моим носом, то, подумал я, находиться близ такой ярости опаснее, чем близ ярости Джорджа. Это как приблизиться к бомбе, которую откопали в городе во время строительных работ, – здоровенной неразорвавшейся бомбе, лежащей тут со Второй мировой. В отличие от Джорджа, подумал я, Камиль способен нанести колоссальный ущерб, когда – и если – взорвется.
– И с кем вы меня спутали? – спросил я.
Его реакция удивила меня. Он заулыбался:
– С вами самим.
Мне не понравилась эта улыбка на устах человека, который, как я догадывался, никогда не ерничает. Говорит ли он со знанием дела или показывает, что ему больше нечего сказать? Все это актерство не означало, будто спектакль имеет продолжение, – совсем наоборот.
– Да, – сказал я с притворным дружелюбием, – я представляю себе, как вас могли ввести в заблуждение. Но, уверяю вас, я являюсь самим собой не больше, чем все другие вокруг.
То, что Камиль почуял в моем ответе, заставило его насупиться еще сильнее, чем до его сомнительного подарка – улыбки. Я никак не мог сообразить, что он умышляет. Казалось, Камиль говорил со мной шифром, известным ему одному, – а может, просто пытался меня припугнуть.
– Судья, – сказал Джордж, – согласился отправить его брата в больницу. Камиль останется тут, чтобы проследить за этим.
– Надеюсь, у вашего брата нет ничего серьезного, – сказал я, но Камиль по-прежнему смотрел на меня так, будто это я сделал мальчику инъекцию. Извинившись за то, что принял меня за другого, он, похоже, пришел к выводу, что я еще больше достоин презрения, чем этот другой.
– Да, – ответил Камиль. – Вы сочувствуете. Вас переполняет сочувствие. Трудно не сочувствовать, когда видишь собственными глазами, что здесь творят. Но позвольте, я расскажу вам, что будет дальше с вашим сочувствием. Вы уедете отсюда и через неделю, через две недели, максимум, через месяц, забудете. И мистер Шмуэль, адвокат, сегодня вернется домой и, еще не переступив порог, еще до того, как поужинает и поиграет с детьми, все забудет. И Джордж уедет отсюда, и, возможно, даже Джордж забудет. Если не сегодня, то завтра. Один раз Джордж уже забыл. – Он сердито указал рукой на тюрьму за своим плечом, но затем, очень нежно, произнес: – Тот, кто получает удары, приобретает иной опыт, чем тот, кто эти удары отсчитывает. – И с этими словами вернулся в узилище, где евреи держали в плену его брата.
Джордж решил позвонить жене – сообщить, что скоро будет дома и привезет гостя, так что мы прошли ко входу с фасадной стороны комплекса, где вообще не было часовых, и Джордж просто толкнул дверь и вошел, а я двинулся по пятам. Меня поразило, что палестинец, как Джордж, и абсолютный чужак типа меня смогли просто пройти по коридору, и никто нас не останавливал, и вдобавок, как я еще сообразил, никто не проверил, нет ли у нас оружия. В офисе на другом конце коридора проворно печатали на машинках три девушки-солдатки – израильтянки лет восемнадцати-девятнадцати, их радиоприемник был настроен на стандартную рок-волну, и нам, чтобы отомстить за брата Камиля, было бы достаточно просто закатить в открытую дверь гранату. Почему же никто не опасается, что такое возможно? Когда Джордж спросил на иврите, можно ли позвонить, одна из машинисток подняла глаза. Безразлично кивнула: «Шалом, Джордж», – а я в этот самый момент подумал: ну да, он коллаборационист.
Джордж рассказывал жене на английском, что случайно встретил в Иерусалиме меня, своего очень близкого друга, с которым не виделся с 1955 года, а я смотрел на плакаты на стенах грязной, скучной комнатки, которые, вероятно, повесили тут эти же машинистки, чтобы легче забыть, где именно они работают, – реклама путешествий в Колумбию, утята, умилительно бороздящие пруд с кувшинками, полевые цветы, буйно растущие на идиллическом лугу, – и все это время, притворяясь, будто меня занимают только плакаты, думал: он израильский шпион – и шпионит за мной. Вот только что ж это за шпион, который не в курсе, что я – вовсе не тот «я»? И зачем Шмуэлю было его разоблачать, если Шмуэль сам работает на «Шин-Бет»? Нет, он шпион ООП. Нет, он вообще не шпион. Тут нет ни одного шпиона. А кто шпион, так это я!
Вам могло бы показаться, что в сферах, где все состоит из слов, я владею кое-какими навыками и могу сориентироваться; но здесь, где столько кипящей ненависти, где каждый человек – словесная расстрельная команда, где подозрениям несть числа, где язвительные негодующие речи затопляют все вокруг, где вся жизнь – ожесточенный спор, где не существует запретов на слова, которые говорят друг другу… Определенно, в джунглях мне было бы проще, подумал я, там рык – это рык, и его смысл легко постижим. Здесь я крайне смутно понимал, что может таиться за борьбой и теневой борьбой; да и за собственным поведением наблюдал почти так же недоверчиво, как за поведением окружающих.
Пока мы вместе спускались с холма мимо проходных с охранниками, Джордж проклинал себя вслух за то, что навязал своим жене и сыну мучительную жизнь под оккупацией: не настолько они толстокожи, чтобы обитать прямо на переднем крае, хотя для Анны° есть кое-какая компенсация – возможность жить практически по соседству с овдовевшим отцом, в Америке она за отца сильно переживала, здоровье у него уже не то. Отец – состоятельный бизнесмен из Рамаллы, ему под восемьдесят, он старался устраивать Анну в самые лучшие школы с десятилетнего возраста: сначала, в середине пятидесятых, она училась в христианской школе для девочек в Бейруте, затем продолжила учебу в США, где познакомилась с Джорджем – он тоже христианин – и вышла за него замуж. Анна много лет была художником-макетчиком в бостонском рекламном агентстве, а здесь руководит цехом, где печатаются пропагандистские плакаты, листовки и пресс-релизы; подпольный характер этой деятельности действует на Анну негативно, выражается в ежедневных мучительных неладах со здоровьем, в еженедельных приступах мигрени. Она живет в страхе, что ночью в дом ворвутся израильтяне и вместо нее арестуют их пятнадцатилетнего сына Майкла°.
Но разве у самого Джорджа был выбор? В Бостоне он держал оборону против защитников Израиля на семинарах по Ближнему Востоку в Кулидж-Холле[24], упрямо противоречил своим друзьям-евреям, даже когда тем самым срывал посиделки у себя же дома, писал статьи в отдел мнений «Бостон глоб» и приходил на радио WGBH[25] всякий раз, когда Крису Лайдону требовался человек, который три минуты будет перечить в эфире некоему местному Нетаньяху; но идеалистическое сопротивление оккупантам в положении американского профессора, который находится в полной безопасности и занимает свою должность пожизненно, оказалось еще менее приемлемым для его совести, чем воспоминания о всех годах странствий, когда он категорически отмежевывался от борьбы. И все же здесь, в Рамалле, повинуясь долгу, он постоянно терзался из-за того, как повлияло их возвращение на Анну, а тем более на Майкла; Джордж не предугадал, что сын начнет бунтовать, хотя, когда он рассказал о происходящем, я подивился – как тут было не предугадать? Какой бы героической ни казалась борьба за свободу Майклу, пока он жил в бостонском пригороде Ньютон, где его комнату украшали патриотические граффити, теперь он чувствовал все то, что может чувствовать только подросток, считающий, что его самореализации мешают препятствия, нагроможденные незадачливым папашей, который принуждает сына жить на старый манер. Джордж скрепя сердце уже почти согласился принять финансовую помощь от тестя и, по настоянию Анны, отправить Майкла в интернат в Новой Англии, чтобы он закончил там среднее образование. Для Джорджа – он-то думал, что мальчик уже достаточно взрослый, чтобы остаться здесь и сформироваться в условиях суровой реальности, достаточно взрослый, чтобы разделить бедствия их неизбежной судьбы и смириться с последствиями того, что он приходится Джорджу сыном, – споры с Майклом стали двойным наказанием: повторялся бурный конфликт, который восстановил Джорджа против его собственного отца и ожесточил сердца их обоих.
Я в душе сочувствовал Майклу, хоть он и юнец, совершенно неискушенный в жизни. Ох уж этот постыдный национализм, который отцы взваливают на сыновей, как тяжкое бремя, думал я, каждое поколение навязывает следующему сражения, которые не довело до конца. Но такова великая драма их семьи, драма, которая лежит камнем на сердце Джорджа Зиада. Вот Майкл, чье неотъемлемое право, как подсказывают ему инстинкты американского подростка, – быть неблагодарным новым поколением, живущим вне истории, на свободе, а вот очередной отец из душераздирающей повести об отцах, уверенный, что слепой эгоизм неоперившегося сына капитулирует перед его потребностью, его стремлением зрелого мужчины задобрить призрак отца, когда-то уязвленного его эгоизмом. Да, Джорджем овладела тяга загладить вину перед отцом, а это тяжкий труд, как знает всякий, кто хоть раз сам пробовал: надо прорубать путь сквозь чащобу застарелых патологий, орудуя чувством вины так, словно это никакое не чувство, а мачете. Но Джордж вздумал решить проблему раздвоения личности раз и навсегда, и, как обычно, это означает, что он сильно перегнул палку. Такие люди не приемлют полумер, но, погодите-ка, ведь Джордж был таким всегда, разве нет? Он хотел вести жизнь, которая растворялась бы в жизни окружающих (вначале, когда он был «чикагским Зи», – в нашей жизни, а теперь, когда он начал с чистого листа, в жизни этих вот людей), хотел преодолеть свой внутренний разлад, прибегнув к некому акту беспощадного упрощения, но у него никогда ничего не получалось. В Бостоне он попробовал, как подсказывало благоразумие, усидеть на двух стульях – тоже не получилось. Такое ощущение, что его жизнь не может раствориться в чьей бы то ни было жизни, где бы то ни было и сколько бы он ни пытался проводить радикальные эксперименты с ее перекраиванием. Поразительно: человеческая личность – нечто, в сущности, совсем крошечное – непременно должна содержать в себе противоборствующие субличности, а эти субличности сами состоят из субличностей и так далее и тому подобное. Но еще поразительнее другое: взрослый мужчина, зрелый образованный человек, профессор на штатной должности, – и вдруг ищет самоинтеграции!
Тема множественных личностей занимала меня уже несколько месяцев: нервный срыв от хальциона натолкнул меня на нее, а появление Мойше Пипика подогрело интерес, так что, возможно, мои размышления о Джордже были чересчур субъективными; но я вознамерился хотя бы чуть-чуть разобраться в другом – почему мне кажется, будто в словах Джорджа что-то не сходится, о чем бы он ни говорил, даже когда, на манер какого-нибудь случайного посетителя в баре, делился страхом за самых близких – за жену и ребенка? Слушаю его – а в моих ушах все время звучит голос человека, который не только ничего не контролирует, но и рассуждает о том, чего не понимает, человека, истерзанного внутренними противоречиями, человека, которому никогда не суждено попасть туда, где он будет своим, а тем более «стать самим собой». Возможно, все проще: его склонность преподавать, заниматься наукой уступила безумной тяге творить историю, и именно несоответствие его темперамента этой тяге, а не уколы больной совести, объясняет то, что я наблюдаю – бессвязность, экзальтированность, маниакальную говорливость, интеллектуальное двуличие, недостаток здравого смысла, агитпроповскую риторику; вот почему приветливый, тонкий, милейший Джордж Зиад обернулся своей противоположностью. А возможно, все дело в несправедливости: разве колоссальная, затяжная несправедливость – это мало, чтобы довести приличного человека до умопомешательства?
Наше паломничество к окровавленной стене, куда израильские солдаты приволокли местных жителей, чтобы ломать им кости и вколачивать в них покорность, сорвалось из-за кольца непреодолимых блокпостов вокруг центральной площади; собственно, даже чтобы доехать до дома Джорджа на другом конце Рамаллы, нам пришлось сделать крюк через отдаленные холмы.
– Эти холмы мой отец тоже оплакивал ностальгическими слезами. Говорил, что даже весной чувствовал запах цветов миндаля. Это невозможно, – сказал мне Джордж, – в смысле, весной невозможно: они цветут в феврале. Я всегда тактично поправлял его гиперболы. Почему он не мог относиться к этим деревьям по-мужски, почему не мог унять слезы?
Пока мы петляли по боковым дорогам, чтобы вернуться в город, ехали то вверх, то кругами, то вниз, Джордж безостановочно, смиренно-покаянным тоном, нудно соединял все эти воспоминания в обвинительное заключение; похоже, моя первая догадка верна, и именно угрызения совести, пусть и не только они, предопределили масштабы мрачной метаморфозы, усугубили крайнее отчаяние, которое отравляло все и заставило самого Джорджа удариться в гиперболы. Вот и сынок доктора Зиада теперь расплачивается сполна, как положено в среднем возрасте, сполна и с лихвой расплачивается за то, что его злой язык подростка-придиры высмеивал сентиментальные причитания разоренного отца.
Конечно, если все это – не спектакль.
* * *
Джордж жил в одном из полудюжины каменных домов, разделенных просторными садами и разбросанных у живописной старой оливковой рощи, сбегающей к небольшой лощине; изначально, в раннем детстве Анны, то была семейная усадьба, населенная многочисленными двоюродными и родными братьями, но позднее почти все они эмигрировали. Уже смеркалось, и воздух обжигал холодом, а внутри, в крохотном камине в конце узкой гостиной, горело несколько деревяшек – зрелище красивое, но ничуть не спасавшее от всепроникающей студеной влажности, пробиравшей тебя до костей. Интерьер, однако, был жизнерадостный: яркие покрывала на креслах и софе, несколько ковров с модернистскими геометрическими узорами на неровном каменном полу. Меня удивило отсутствие книг – возможно, Джордж полагал, что их надежнее хранить в его кабинете в университете, – хотя на столе у софы громоздилась гора арабоязычных журналов и газет. Анна и Майкл надели толстые свитеры, когда мы уселись у огня пить горячий чай, и я грел руки о чашку, а сам думал: после Бостона – и такой подвал, пусть и выше уровня земли. Да еще это холодное дыхание застенка. И керосиновая вонь от слегка неисправного нагревателя – значит, нагреватель есть, но где-то в другой комнате. Из гостиной можно было попасть в сад через стеклянные, с тройными стеклами, двери, с потолка – арочного, высотой метра четыре с половиной – свисал на длиннющем шнуре четырехлопастный вентилятор, и, хотя я мог представить, что в теплую погоду тут очень мило, в данный момент дом как-то не располагал к приятной неге.