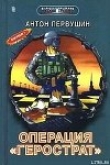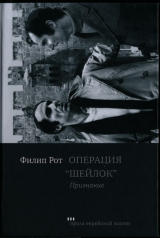
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
– Лимузин! – в дверях класса снова возник Ури, этот улыбчивый громила, по-шутовски дружелюбный, существо, явно не разделявшее моих рациональных представлений о жизни. Мне казалось, что я неспособен привыкнуть к присутствию этого коренастого коротышки: именно такие упорядочили, и даже чересчур, все то, что в нас, прочих людях, прилажено кое-как и ходит ходуном. Рядом с красноречием всей этой жилистой плоти, не испорченной интеллектом, я, хотя и превосходил его ростом, чувствовал себя крошечным, беспомощным ребенком. В прежние времена, когда все споры улаживались воинами, на Ури наверняка походила вся мужская половина человечества: хищные звери, замаскированные под людей, люди, которые выучились убивать без службы в армии, без специальной выучки.
– Езжайте, – сказал Смайлсбургер. – Езжайте к Аппельфельду. В Нью-Йорк. В Рамаллу. В американское посольство. Можете свободно наслаждаться своими добродетелями. Езжайте куда угодно, где сможете наслаждаться блаженнейшим чувством своей невиновности. Это сладостная роскошь – положение американского еврея, который полностью переродился. Наслаждайтесь. Вы – чудесный, редкостный, воистину великолепный феномен: по-настоящему эмансипированный еврей. Еврей, который ни перед кем не обязан держать ответ. Еврей, которому все на свете по душе. Еврей, который уютно устроился. Счастливый еврей. Езжайте. Выбирайте. Хватайте. Владейте. Вы – тот благословенный судьбой еврей, который не приговорен ни к чему, и уж точно не к участию в нашей многовековой борьбе.
– Нет, – сказал я, – это не вполне верно. Я – счастливый еврей, не приговоренный ни к чему, но все же приговоренный время от времени выслушивать высокомерных евреев-краснобаев, которые упиваются своей приговоренностью ко всем карам. Так что, спектакль все-таки закончился? Все стратегии красноречия исчерпаны? Все средства убеждения перепробованы? А может, вам пора спустить с цепи своего напарника, раз уж все прочие приемы не расшатали мне нервы? Пусть для начала перережет мне горло!
Эти слова я выкрикнул.
Тут старый калека вскочил, опершись на костыли, дотащился, отталкиваясь от пола, до классной доски и стер ладонью половину библейских увещеваний, которые написал на ней по-английски, а слова на иврите, написанные кем-то другим, оставил в неприкосновенности.
– Урок окончен, – известил он Ури, а затем, обернувшись ко мне, разочарованно сказал: – Вы что, до сих пор возмущаетесь, что вас «похитили»? – На миг он стал как две капли воды похож на того болезненного, обессилевшего старика, говорившего на куда более скудном и ограниченном английском, которого накануне изображал за обедом, внезапно показавшись мне сломленным, как будто жизнь давным-давно положила его на лопатки. Но я-то не клал его на лопатки, это уж точно. Может, просто слишком длинным у него выдался день, наполненный размышлениями о том, как расставить ловушку богатым евреям, которые еще не жертвуют Объединенному еврейскому призыву[85]. – Мистер Рот Номер Один, пошевелите своими умными еврейскими мозгами. Как ловчее сбить со следа ваших палестинских поклонников, если не продемонстрировать им, как мы насильно похищаем их драгоценного еврея, их антисионистскую знаменитость?
В этот миг даже я счел, что наслушался достаточно, и после почти пяти часов в плену у Смайлсбургера наконец настолько осмелел, что решился выйти через дверь. Возможно, я рисковал жизнью, но просто больше не мог слышать, как славно вписывается в их фантасмагорию желание делать со мной все, что им заблагорассудится. Никто и никак не попытался меня остановить. Ури, беззаботный Ури, распахнул дверь настежь, а затем, шутовски встав по стойке «смирно», словно лакей, которым он отнюдь не был, прижался к стене, открывая мне самую широкую дорогу.
Я был на лестничной площадке, когда услышал оклик Смайлсбургера:
– Вы кое-что забыли.
– Да нет, ничего, – ответил я, но рядом уже стоял Ури, держа в руке красную записную книжку, которую я недавно читал, пытаясь мобилизовать свои силы.
– На полу у стула, – ответил Смайлсбургер, – вы оставили один из дневников Клингхоффера.
Я взял дневник из рук Ури, и в этот же миг Смайлсбургер появился в дверях класса:
– Нашей маленькой стране, осаждаемой врагами, все-таки повезло. В нашей разбросанной по свету диаспоре много талантливых евреев. Мне лично выпала честь завербовать одного вашего выдающегося коллегу, который написал для нас эти дневники. Выполняя задание, он постепенно вошел во вкус. Вначале он отказался – спросил: «А почему не Рот? Это по его части». Но я ему сказал: «Для мистера Рота у нас есть другая задумка».
Эпилог
Обычно слова всё только портят
Я предпочел вычеркнуть из своей книги последнюю главу – двенадцать тысяч слов, описание людей, с которыми я держал совет в Афинах, обстоятельств, которые свели нас вместе, и последующей вылазки в столицу другой европейской страны – вылазки, в которую вылился тот весьма познавательный афинский уик-энд. Изо всей этой книги, готовую рукопись которой Смайлсбургер запросил для проверки, только в одиннадцатой главе («Операция „Шейлок“») он обнаружил информацию, которая в случае публикации на английском, а уж тем паче на полутора десятках других языков, слишком повредила бы интересам его ведомства и израильского правительства. Разумеется, у меня не было обязательств цензурировать эти сорок с лишним страниц – ни перед Смайлсбургером, ни перед его ведомством, ни перед Государством Израиль, точно так же, как я не был обязан предоставлять рукопись, ни целиком, ни частично, для ознакомления перед ее выходом в свет. Я не давал загодя никаких письменных обещаний испрашивать разрешение на публикацию или вообще ничего не публиковать о своем задании; об этом даже не упоминалось на инструктаже, который проводили со мной в Тель-Авиве на протяжении двух дней после моего похищения. Обеим сторонам – как минимум временно – не хотелось касаться этой потенциально спорной темы: мои кураторы, видимо, считали, что во мне говорил не хороший еврей, а амбициозный писатель, когда я в конце концов согласился собирать для них разведданные о «еврейских антисионистских элементах, угрожающих безопасности Израиля», я же рассудил, что лучший способ удовлетворить мое профессиональное любопытство – поступать исключительно как хороший еврей, который стал агентом Израиля по велению долга.
Но почему же я все-таки согласился, невзирая на все угрозы и неопределенности, перед которыми казался пустяком весь профессиональный риск писательства – соприкосновения с неведомым, почему я шагнул в ту реальность, где сшиблись беспощадные силы и на кон ставилось что-то нешуточное? Что же, околдованный чарами этих маняще искрометных персонажей, всемирным потопом их опасных речей, подхваченный водоворотом их противоречивых воззрений – и не имея ни малейшей власти над пинг-понгом повествования, в котором сам я предстал в облике белого шарика, – я оказался как никогда падок на новый всплеск эмоционального возбуждения? Может быть, моя захватывающая прогулка по диким дебрям земного мира, которая началась с хальциона, этой Топи Уныния[86], а после битвы с Пипиком, Царем Бездны[87], завершилась в темнице Великана «Моссада», сформировала новую логику моего еврейского паломничества? Либо я не столько изменил своей прежней натуре, сколько наконец-то подчинился одному из основных законов своего существования – тому инстинкту лицедейства, которому дотоле предавался, лелея свои внутренние противоречия, только в сфере художественного вымысла? Я искренне не понимал, что стоит за моими поступками, и это непонимание, пожалуй, тоже как-то объясняло причины этих поступков: меня воодушевляла нелепица этих действий, – может статься, за ними не стоит ровно ничего. Совершать что-то, не имея ясности, совершать необъяснимые действия, непостижимые даже для самого себя, выйти за рамки ответственности и дать полную волю безмерному любопытству, без малейшего сопротивления отдаться странности, путанице непредвиденного… Нет, я не мог даже для внутреннего употребления подобрать имя тому, что заманило меня на этот путь, не мог понять, что же воздействует на мое решение – абсолютно всё или абсолютно ничего, и однако, не располагая – в отличие от профессионалов – идеологией, которая распаляла бы мой фанатизм (либо, возможно, подпитываясь идеологией своей профессии – то есть идеологией отказа от всех идеологий), я согласился разыграть самый экстремальный в своей жизни спектакль и всерьез заморочить окружающим головы в рамках более серьезного и далеко идущего проекта, чем просто книга.
Неофициальная просьба Смайлсбургера дать ему возможность еще до публикации прочесть текст о тех аспектах операции, которые я мог бы «счесть пригодными для использования в каком-нибудь бестселлере», прозвучала примерно за два с половиной года до того, как я вообще решил выбрать документалистский подход вместо того, чтобы поместить этот замысел в контекст, скажем, продолжения «Другой жизни» с Цукерманом в центре повествования. После того как задание Смайлсбургера было выполнено, он не давал о себе знать, и потому, когда спустя почти пять лет я дописал одиннадцатую главу «Операции „Шейлок“», мне было бы несложно притвориться, будто я позабыл о его просьбе (которую он, когда мы прощались, изложил со своей коронной язвительной игривостью), либо просто пренебречь ею и – была не была – выпустить книгу без купюр, как я выпускал все предыдущие, поступить как ничем не скованный писатель, не зависящий от какого-либо диктата напуганных персон, которые охотно вмешались бы в мои тексты.
Но, доведя рукописный вариант до завершения, я обнаружил: для меня самого по определенным причинам было бы полезно, чтобы Смайлсбургер его просмотрел. Во-первых, спустя годы со времен, когда я оказал ему услугу, он, возможно, слегка разоткровенничается о нескольких ключевых факторах, которые меня все еще озадачивали, особенно о личности Пипика и его роли во всей этой истории, – о том, что, по моему убеждению, в досье Смайлсбургера было задокументировано пространнее, чем в моем. Во-вторых, он при желании мог бы исправить ошибки, которые, возможно, вкрались в описание операции, а если бы мне удалось его уломать, то и поведать кое-что из своей биографии до момента, когда ради меня он сделался Смайлсбургером. Но в основном мне хотелось, чтобы он подтвердил: события, описанные мной как реальные, таковыми и были. О подлинности изложенных фактов свидетельствуют длинные записи, которые я заносил в дневник по ходу событий, а также оставшиеся у меня поистине неизгладимые воспоминания, и все же – возможно, это удивит тех, кто не посвятил всю жизнь сочинительству, – когда я закончил одиннадцатую главу и взялся перечитывать рукопись целиком, я обнаружил, что странным образом не уверен в правдоподобии книги. Не подумайте, будто постфактум мне не верилось, что нечто маловероятное случилось со мной так же запросто, как случается со всеми остальными; нет, просто за три десятилетия писательства я слишком привык выдумывать всевозможные препятствия на пути моих многострадальных главных героев (даже когда черпал вдохновение из суровой реальности) и почти уверовал, что, даже если я не вполне выдумал «Операцию „Шейлок“», мои писательские инстинкты вдохнули в нее чрезмерный драматизм. Мне хотелось, чтобы Смайлсбургер развеял мои смутные сомнения, подтвердив, что, вспоминая, я не переврал события и не позволил себе вольности, искажающие реальность. За этим подтверждением я мог обратиться только к Смайлсбургеру. Аарон присутствовал на обеде, когда частично переряженный Смайлсбургер принес мне чек, но не наблюдал своими глазами всех прочих событий. Я пересказал Аарону, несколько цветисто, подробности своих первых встреч с Пипиком и Бедой в Иерусалиме, но ничего не говорил ему о дальнейшем, а, когда все закончилось, попросил о дружеской услуге – держать в секрете то, что я ему доверил, и ни с кем этими историями не делиться. Я даже предполагал: когда Аарон прочтет «Операцию „Шейлок“», его посетит соблазнительная догадка, будто взаправду произошло только то, что он видел лично, а остальное – только байка, тщательно продуманный, цельный сценарий, сочиненный мной как обрамление для заманчиво-многозначительного происшествия, которое в действительности оказалось пшиком – или, по крайней мере, чем-то бессвязным. Мне было несложно вообразить, что Аарон поверит в такую версию – ведь даже я сам, как уже говорил, при первом прочтении законченной рукописи дивился: мог ли даже Пипик в Иерусалиме проявить большую изворотливость, чем я в этой книжке про него? Подобная мысль, приди она в голову не писателю, показалась бы странной, сбивающей с панталыку – именно такие мысли, если развить их достаточно далеко, делают твое нравственное существование крайне унылым и даже мучительным.
Вскоре я поймал себя на размышлениях, что эту книгу, наверно, лучше подать не как автобиографическое признание (таковое оспорят многочисленные читатели – и враждебные, и сочувствующие, – усомнившись в его достоверности), не как историю, вся суть которой – в ее неправдоподобной правдивости, а – уверяя, будто я сам навоображал то, что щедро, безвозмездно подарила мне сверхизобретательная действительность – подать ее как вымысел, как прием с осознанным сновидением, латентное содержание которого автор выстроил так же умышленно, как и то, что показано в нем в открытую. Я даже мог отчетливо представить, что кучка умников сочтет «Операцию „Шейлок“», подаваемую как якобы роман, документальной хроникой галлюцинаций на хальционе (собственно, я и сам так думал во время одного из самых удивительных иерусалимских эпизодов – правда, недолго).
Почему бы не выкинуть этого Смайлсбургера из головы? Поскольку, сказал я себе, теперь, согласно указу моего королевского величества, его существование не более реально, чем все прочее, основательно подтвержденное на этих страницах, он все равно больше не сможет подтвердить факты, на которых основана книга. Опубликуй рукопись без купюр, без цензуры, опубликуй как есть, просто поместив в начале стандартный отказ от юридической ответственности, – и ты, скорее всего, обезоружишь все возражения, которые Смайлсбургер пожелал бы выдвинуть, получи он доступ к рукописи. Вдобавок ты избежишь встречи с «Моссадом», которая, возможно, не доставит тебе удовольствия. И – самое лучшее – ты спонтанно совершишь над телом своей книги священную шалость – литературное пресуществление, и подмененные элементы сохранят внешнее сходство с автобиографией, одновременно обретая потенциальные возможности романа. Максимум полсотни привычных слов – и все твои проблемы решены.
Эта книга – художественное произведение. Названия, персонажи, места и события либо рождены воображением автора, либо подчинены задачам литературного вымысла. Любое сходство с реальными событиями и местами, а также с живыми либо покойными людьми, – просто случайное совпадение.
Да, достаточно предпослать книге эти три стереотипные фразы, и я не только удовлетворю требования Смайлсбургера, но также раз и навсегда покажу Пипику, где раки зимуют. Не могу дождаться, когда этот вор раскроет книгу и обнаружит, что я стибрил его эстрадный номер! Самая уместная в своем садизме месть! Но, конечно, для этого нужно, чтобы Пипик дожил до этого момента и смог во всей полноте страдания ощутить, как я его съел с потрохами.
Я понятия не имел, что сталось с Пипиком: после тех нескольких дней в Иерусалиме он и сам не подавал вестей, и про него ничего не было слышно; я даже подумал, уж не умер ли он. Иногда я пытался себе внушить – не имея никаких доказательств, кроме его отсутствия, – что Пипика и вправду прикончила опухоль. Даже сочинил сценарий об обстоятельствах его ухода из жизни – под стать тому откровенно патологическому сценарию, согласно которому, по моим предположениям, эта жизнь катилась. Специально велел себе доработать те скрытые кровожадные фантазии, которые часто обуревают нас в приступе ярости, но обычно изобилуют беспочвенными надеждами, не гарантирующими вожделенную уверенность. Мне требовалось, чтобы его кончина была не более, но и не менее невероятной, чем все прочее вранье, которое он олицетворял, – только так, навеки освободившись от его вмешательства, я смог бы жить дальше и описать произошедшее правдиво, не опасаясь, что издание книги станет приглашением к визиту, еще более ужасному для меня, чем преждевременно прерванный дебют Пипика в Иерусалиме.
И вот что мне пришло в голову. Я вообразил, что в моем почтовом ящике обнаруживается письмо от Беды, написанное таким бисерным почерком, что я могу прочесть его только в лупу, которую купил в комплекте с двухтомным Оксфордским толковым словарем. Письмо, примерно на семи страницах, было похоже на послание, тайно переданное на волю из тюрьмы, а каллиграфия напоминала искусство кружевниц или микрохирургов. Поначалу мне показалось, что этот почерк никак не может принадлежать женщине столь крепкого сложения и чувственной гибкости, какой была Пипикова грудастая Ванда Джейн – а ведь она вдобавок уверяла, что не в ладах с алфавитом. Как могла она создать эту тончайшую вышивку? И только когда я припомнил заблудшую хиппушку, которая пришла к Иисусу, раболепную верующую, утешавшую себя словами: «Я никчемная, я пустое место, Бог – всё», – мне удалось слегка преодолеть изначальное недоверие и задаться вопросом: «А так ли уж вероятна история, показанная здесь словно бы сквозь замочную скважину?»
Собственно, в этом письме, при всей его гипертрофированности, я не прочел о Пипике ничего такого, во что не смог бы заставить себя поверить. Но обескураживающее признание о самой себе, которое Ванда Джейн сделала в середине письма, породило у меня еще больше подозрений, чем почерк. Слишком сильный шок – поверить, будто женщина, которую Смайлсбургер за ее прирожденную сдобность нарек «Фаллика», совершила акт некрофилии, о котором сообщила почти так же бодро, как вспоминала бы свой первый французский поцелуй в тринадцать лет. Быть того не может, чтобы его маниакальная власть над ней приобрела столь гротесковую форму. Ну конечно же, я читаю описание не того, что она реально сделала, а того, во что бы он хотел, чтобы я поверил, эта фантазия состряпана нарочно, чтоб его вечный соперник знал, в каких несокрушимых тисках Пипик держал ее жизнь… Более того, эта фантазия должна настолько отравить мои воспоминания о Ванде Беде, чтобы эта женщина навеки стала для меня табу. Это просто злокозненная порнография, ничего подобного не могло случиться. То, что она начертала здесь как бы кончиком булавки, удостоверяя его власть над ней и свое благоговейно-омерзительное преклонение перед ним, – слова, которые надиктовал ей ее диктатор, надеясь удержать ее и меня от новых совокуплений не только после его смерти, но и при его жизни, которая – как я поневоле заключил из этой типично пипиковской уловки – вовсе не пришла к своему печальному концу.
Итак, он жив – он вернулся. Это письмо ничуть не убедило меня в том, что Пипика не стало и он никогда уже не вернется мне досаждать, – отнюдь, письмо (и скорее всего только я могу его так истолковать) с характерной для Пипика садистской находчивостью декларировало, что силы в нем восстановились и он снова взял на себя роль моего суккуба. Не кто иной, как он написал это письмо, чтобы снова вытолкнуть меня на ту параноидальную нейтральную полосу, где невероятное и достоверное никак не разграничены, где реальность нависшей над тобой угрозы удручает еще сильнее ввиду ее невычислимости и неопределенности. В этом письме он вообразил свою женщину такой, какой желал бы ее видеть: инструментом ангельского милосердия, который служил ему на его смертном одре, а после его смерти поклонялся его мужскому достоинству самым невообразимым способом. Я мог объяснить даже то, почему он представил здесь свой автопортрет без прикрас – обрисовал умирающего, балансирующего на грани полного безумия: это же самое убедительное доказательство, которое он только мог выдумать, доказательство, что, как бы мерзко он себя ни вел, ему удавалось заслужить ее фантастическую преданность. Нет, меня ничуть не удивило, что он вовсе не пытался скрыть весь масштаб своей лживости и как-то отретушировать или смягчить натуру вульгарного, отвратительного шарлатана, рабыней которого она была. Наоборот, почему бы ему не преувеличить свою кошмарность, почему бы не приврать, изобразив себя еще противнее, чем он есть на самом деле, если он намеревался напугать меня так, чтобы я от нее навсегда отшатнулся?
И действительно, напугал. Я успел подзабыть, как легко может меня подкосить бесстыдная дерзость его лжи, пока не пришло это письмо, якобы письмо Ванды Джейн, попытка внушить мне, что мой неистребимый, даже чересчур неистребимый недруг ушел из жизни. Мой страх перед его возвращением лучше всего проявился в мазохистском упрямстве, которое повелело мне сразу же расценить долгожданную весть о его кончине как знак, что он по-прежнему жив. Почему вместо этого я не уцепился за иерусалимские происшествия и не увидел за всеми преувеличениями абсолютно красноречивые признаки подлинности письма? Ну конечно же она написала все, как есть – ничто в письме не диссонирует с тем, что тебе про них уже известно, особенно самые мерзкие подробности. И зачем вообще вся эта возня с придумыванием письма, если ты не ободряешь себя вестью, что пережил Пипика, не укрепляешь свой дух осознанием победы над ним, а вместо этого самоубийственно вставляешь в письмо очевидные двусмысленности и используешь их, чтобы расшатать спокойствие, которое намеревался обрести?
А вот зачем: то, что я пережил в их обществе – а также Джорджа, Смайлсбургера, Суппосника, в обществе всех них, – научило меня, что любое письмо, которое было бы не столь удручающе двусмысленным (или чуть более понятным), которое не включало бы даже мелких внутренних противоречий, любое письмо, содержание которого укрепило бы мою горячую уверенность в чем-то и, пусть на время, избавило бы от самого мучительного – от чувства неопределенности, – такое письмо убедило бы меня лишь в одном: что моим воображением управляет свойственное человеку желание убеждать себя ложью.
Итак, изложу суть письма, до которого я додумался, чтобы заставить себя рассказать эту историю без купюр, так, как я ее и рассказал, не страшась помех в виде ответных ударов с его стороны. Другой человек мог бы найти более действенный способ заглушить свою тревогу. Но, хотя Мойше Пипик не разделит этого мнения, я – это я, а не другой человек.
Когда стало ясно, что Филипу осталось жить меньше года, они распрощались с Мексикой, куда он, отчаявшись, безрассудно отправился, поверив в крайнее средство – курс неразрешенных в США лекарств, – и сняли меблированный домик в Хакенсаке, штат Нью-Джерси (чуть севернее моего родного города Ньюарк, тридцать минут езды). Это решение тоже обернулось сплошной катастрофой, и спустя полгода они перебрались в Беркширские горы, поселились в каких-то сорока милях севернее фермы, на которой я живу уже двадцать лет. В арендованном ими фермерском домике, который стоял в лесу на горном склоне близ глухой грунтовой дороги, он взялся из последних сил надиктовывать на магнитофон то, что должно было стать великим трактатом о диаспоризме, а Ванда Джейн устроилась медсестрой в отделение экстренной помощи ближайшей больницы. Там им наконец-то выдалась хоть какая-то передышка в мелодраме, выковавшей их неразрывный союз. Жизнь вошла в спокойное русло. Согласие восстановилось. Любовь воспылала с новыми силами. Чудо.
Через четыре месяца внезапно наступила смерть – в четверг, 17 января 1991 года, спустя всего несколько часов после того, как в жилых кварталах Тель-Авива взорвались первые иракские ракеты «Скад». Едва он начал работать с магнитофоном, признаки его физического угасания стали практически незаметны и Ванде показалось, что рак снова перешел в стадию ремиссии – возможно, это случилось и благодаря тому, что день ото дня работа над книгой успешно продвигалась и каждый вечер, когда Ванда, вернувшись из больницы, купала его и готовила ужин, он говорил об этом с такой надеждой. Но когда Си-эн-эн начала показывать, как раненых спешно выносят на носилках из полуразрушенных многоквартирных домов, он сделался безутешен. Ракетные обстрелы его потрясли, он расплакался, как ребенок. Время упущено, сказал он ей, диаспоризм уже не спасет евреев. Филип не выдержал бы ни зрелища гибели тель-авивских евреев, ни мыслей о последствиях ответного ядерного удара, который, как он был уверен, израильтяне нанесут, не дожидаясь рассвета, и в ту же ночь умер с ощущением, что его сердце разбито.
Двое суток Ванда оставалась на кровати подле тела: сидела в ночной рубашке и смотрела Си-эн-эн. Утешала его, сообщая вести, что Израиль не нанесет никаких ответных ударов; рассказывала ему о ракетных комплексах «Пэтриот» с американскими расчетами, которые защищали израильтян от новых обстрелов; описывала предосторожности, к которым прибегли израильтяне на случай, если Ирак развяжет биологическую войну: «Евреев не убивают, – уверяла она его, – у них все будет в порядке!» Но ничто из того, чем она могла его подбодрить, не смогло вернуть его к жизни. Она занималась любовью с его имплантом пениса в надежде, что после этого все остальное в нем воскреснет. Очень странно, но это была единственная часть его тела, написала мне Ванда Джейн, «которая на вид казалась живой и на ощупь была такой, каким был он». Без малейшего стеснения она призналась, что эрекция, пережившая его, два дня и две ночи умеряла ее скорбь. «Мы трахались, разговаривали и смотрели телик. Совсем как в старые добрые времена». А потом добавила: «Всякий, кто думает, что так делать нехорошо, не знает, что такое настоящая любовь. Когда я была малолетней католичкой и причащалась, я была гораздо шизанутее, чем когда занималась сексом со своим мертвым евреем».
Она сожалела лишь о том, что не отдала его евреям для погребения по-еврейски – в первые же сутки после смерти. В этом смысле она поступила нехорошо, грешно, тем более в его случае. Но, заботясь о Филипе, точно о своей кровиночке, точно о маленьком сыночке в полной изоляции, в этом тихом домике в горах, она полюбила его как никогда сильно, вот и не могла отпустить от себя, не разыграв заново в этот посмертный медовый месяц страсть и близость из «старых добрых времен». В свое оправдание Ванда могла сказать лишь одно: едва она уяснила (а в ее состоянии такие вещи доходили до нее страшно медленно), что никакое сексуальное возбуждение никоим образом не воскресит его тело, то немедля похоронила его по традиционному еврейскому обряду на местном кладбище, возникшем в Массачусетсе еще до Американской революции[88]. Место на кладбище он выбрал сам. После смерти оказаться в окружении всех этих старинных семейств янки, носивших типичные для янки фамилии, – это, счел он, самое подходящее место для человека, на чьем надгробии должно значиться, чуть ниже имени, справедливое, хоть и печальное пояснение «Отец диаспоризма».
Его антипатия ко мне – а может, к моему призраку – по-видимому, достигла маниакального крещендо за несколько месяцев до смерти, когда они жили в Нью-Джерси. После Мексики, написала она, он решил поселиться там и взялся готовить скандальную разоблачительную статью «Его путь» – статью обо мне, о том человеке, чья проза вселилась в него, как призрак, причем публикация статьи в формате полноценной книги должна была открыть обществу, что я обманщик и шарлатан. Они без толку колесили по захиревшему Ньюарку, где он вознамерился раскопать «документальные доказательства», которые сделают очевидным, что я вовсе не тот, кем притворяюсь. Сидя рядом с ним в машине напротив больницы, в которой я родился и в двух минутах ходьбы от которой теперь собирались наркоторговцы, она рыдала, умоляя его опомниться, а он часами без перерыва возмущался моей лживостью. Как-то утром, когда они завтракали на кухне домика в Хакенсаке, он возвестил, что долго держал себя в узде, но в схватке с таким противником, каким я оказался в Иерусалиме, больше не может сковывать себя правилами честной игры. И тогда он решил в тот же день вывалить моему престарелому отцу «правду про его мошенника-сына». «Какую еще правду?» – вскрикнула она. «Ту самую! Что в нем все – сплошная ложь! Что его жизненный успех держится на лжи! Что роль, которую он играет в жизни, – ложь! Что у этого жалкого засранца есть только один талант – врать всем напропалую о том, что он собой представляет! Это он подложный, вот в чем ирония: он-то и есть задрипанный двойник, бессовестный самозванец, лицемерный аферист, и я собираюсь сказать об этом миру, а начну сегодня, с его старого дурака – папаши!» А когда она отказалась везти его в Элизабет к моему отцу (по адресу, записанному на листочке, который он хранил в бумажнике после возвращения из Мексики), он замахнулся на нее вилкой и проткнул ладонь, которую она, защищая свои глаза, еле успела подставить.
После переезда в Нью-Джерси не проходило ни дня – а в некоторые дни ни часа, – когда бы она не замышляла побег. Но даже увидев на своей ладони дыры, пробитые зубьями вилки, увидев кровь, которая сочилась из этих ран, даже тогда она не нашла в себе ни сил, ни малодушия, чтобы оставить его один на один с болезнью и сбежать, спасая свою жизнь. Вместо этого она начала орать, что он злится, потому что мексиканское лечение ничего не дало, и что настоящий шарлатан – тот жуликоватый врач из Мексики, потому что все его заверения – грязная ложь. Рак – вот в чем коренная причина его гнева. И тогда-то он сказал ей, что это писатель накликал на него рак: именно тридцатилетняя борьба с коварными происками писателя привела его в какие-то пятьдесят восемь лет на порог смерти. С этим заявлением даже самоотверженная преданность медсестры Поссесски дала трещину, и она объявила, что больше не может жить с человеком, который окончательно сбрендил, – она уйдет!
«К нему! – воскликнул он торжествующе, словно она принесла ему долгожданную весть про лекарство от опухоли. – Бросаешь любящего тебя человека ради этого лживого сукина сына, который трахнул тебя во все дырки и исчез!»
«Нет, – сказала она, но, конечно, на самом деле так и было: в мечте о спасении ее спасал именно я; именно эту мечту она воплощала на практике той ночью в арабской части Иерусалима, когда пропихнула под дверь моего номера шестиконечную звезду, полученную от Валенсы, и умоляла, чтобы ее приютил оригинал, чье существование вызывало такую ярость у дубликата. – Я ухожу! Я должна выбраться отсюда, Филип, пока не случилось что-нибудь похуже! Не могу жить с одичавшим ребенком!»