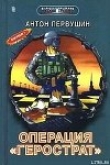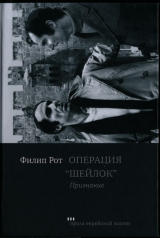
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Я был жертвой, и я пытаюсь понять жертву. Это широкий, непростой срез жизни, который я пытаюсь постичь уже тридцать лет. Я не идеализировал жертв. По-моему, в «Баденхайме 1939» тоже нет ни тени идеализации. Кстати, Баденхайм – в общем-то реальный город, подобные курорты имелись в самых разных уголках Европы, шокирующе мелкобуржуазные и идиотские в плане всех этих светских условностей. Даже в детстве я понимал, какой это идиотизм.
По распространенному мнению, сохранившемуся до наших дней, евреи – ловкие, многоопытные, хитрые бестии, хранилище мировой мудрости. Но разве не занятно посмотреть, как легко было одурачить евреев? Самыми элементарными, почти детскими уловками их заставили собраться в гетто, несколько месяцев морили голодом, ободряли ложными надеждами, а в конце концов посадили в вагоны и повезли на смерть. Это простодушие стояло у меня перед глазами, пока я писал «Баденхайм». В этом простодушии мне открылась этакая квинтэссенция человеческой натуры. Их слепота и глухота, их исступленная поглощенность самими собой – часть этого простодушия. Убийцы были практичны, они точно знали, чего хотят. Простодушный – всегда шлимазл, незадачливая жертва несчастья: он никогда не слышит сигнал тревоги вовремя, он блуждает, застревает в чаще и в конце концов попадает в капкан. Эти слабости очаровали меня. Я в них влюбился. Миф, что евреи, обделывая свои махинации, правят миром, оказался несколько преувеличенным.
РОТ. Изо всех твоих книг, переведенных на английский, «Цили» выделяется особо: реальность описана наиболее жестко, показаны самые запредельные разновидности страданий. Цили, чрезвычайно простодушная девочка из бедной еврейской семьи, остается одна, когда ее семья бежит от нацистского вторжения. Роман повествует о кошмарных злоключениях Цили, когда она пытается выжить, о ее тягостном одиночестве среди жестоких крестьян, у которых она работает. Мне показалось, что эта книга сродни «Раскрашенной птице» Ежи Косинского. В «Цили» меньше гротеска, но это тоже портрет испуганного ребенка в мире, который еще безысходнее, еще опустошеннее, чем мир Косинского, ребенка, скитающегося в полном одиночестве на фоне ландшафта, непригодного для человеческой жизни в той же мере, что и мир беккетовского «Моллоя».
Ребенком ты, как и Цили, бродяжничал в одиночестве после того, как в девять лет сбежал из лагеря. Мне неясно, почему, перерабатывая для книги собственную жизнь, – то, как ты жил в незнакомой местности, скрывался среди враждебно настроенных крестьян, – ты решил представить себе, что уцелевший в этих испытаниях ребенок – девочка, а не мальчик. И, кстати, посещала ли тебя хоть раз мысль не облекать этот материал в художественную форму, а изложить свой опыт так, как он тебе запомнился, написать историю выжившего совершенно безыскусно, как, например, Примо Леви написал про свое заключение в Освенциме?
АППЕЛЬФЕЛЬД. Я никогда не описывал события так, как они происходили на самом деле. Да, все мои произведения – главы сокровенно личного опыта, и, однако, это не «история моей жизни». То, что произошло со мной в жизни, уже произошло, уже приняло форму, время замесило эти события и вылепило. Описывать то, что было в реальности, – сделаться рабом памяти, а память – только второстепенный элемент творческого процесса. В моем понимании творить – значит упорядочивать, отсеивать, подбирать слова и темп, пригодные для произведения. Да, я действительно беру материал из собственной жизни, но то, что я в итоге леплю из этого материала – совершенно самостоятельное существо.
«Историю моей жизни» в лесах после побега из лагеря я пытался написать несколько раз. Но все усилия пропали зря. Я хотел сохранить верность реальности, реальным событиям. Но получалась хроника, которая оказалась слишком хлипким каркасом. Результат выглядел довольно слабо – неубедительная игра воображения. Самые правдивые рассказы легко фальсифицировать.
Реальность, ты и сам знаешь, всегда сильнее человеческого воображения. Более того, реальность может позволить себе быть неправдоподобной, необъяснимой, совершенно несоразмерной. Художественное произведение, увы, не может себе этого позволить.
Реальность Холокоста превзошла даже самое богатое воображение. Если бы я хранил верность фактам, мне бы никто не поверил. Но стоило мне подобрать персонаж – девочку чуть старше меня, – как я вырвал «историю моей жизни» из цепких лап памяти и передал в творческую лабораторию. Там хозяйничает не только память. Там тебе требуется причинно-следственное объяснение, нить, связывающая все воедино. Необычайное допустимо лишь в том случае, если оно служит элементом общей структуры и помогает ее осмыслить. Мне пришлось вычеркнуть из «истории моей жизни» куски вовсе невероятные и предложить читателю вариант, вызывающий больше доверия.
Я писал «Цили», когда мне было сорок. Тогда меня интересовали возможности наивности в искусстве. Может ли существовать наивное современное искусство? Мне казалось, что без наивности, которая еще встречается у детей и стариков, а также, до какой-то степени, у нас с тобой, произведение искусства будет несовершенным. Я пытался исправить этот изъян. Бог весть, насколько это у меня получилось.
* * *
Дорогой Филип!
Я разозлил вас / вы на меня накинулись. Каждое сказанное мной слово – глупое / неуместное / неестественное. Так и должно было случиться. С 1959 года предвкушение этой встречи – мой страшный сон / мой сладостный сон. Увидел на «Прощай, Коламбус» ваше фото / понял, что моя жизнь бесповоротно изменилась. Объяснял всем, что мы два разных человека / абсолютно не хотелось быть кем угодно – только самим собой / хотел иметь свою судьбу / надеялся, что ваша первая книга станет и последней / желал вам провала и исчезновения / постоянно думал о вашей смерти. МНЕ БЫЛО НЕЛЕГКО СМИРИТЬСЯ СО СВОЕЙ РОЛЬЮ: С РОЛЬЮ ВАС ОБНАЖЕННОГО / ВАС В АМПЛУА МЕССИИ / ВАС КАК ЖЕРТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ. МОИ ЕВРЕЙСКИЕ СТРАСТИ АБСОЛЮТНО ОБНАЖЕНЫ. МОЯ ЕВРЕЙСКАЯ НЕЖНОСТЬ НЕ ЗНАЕТ УДЕРЖУ.
ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СУЩЕСТВОВАТЬ. Не уничтожайте меня в борьбе за сохранение своего доброго имени. Я И ЕСТЬ ВАШЕ ДОБРОЕ ИМЯ. Я всего лишь расходую капитал славы, который вы копите. Вы прячетесь / в комнатах одиночества / сельском уединении / безымянный экспат / отшельник из мансарды. Вы никогда не расходовали этот капитал так, как должны / могли бы / не хотели / не могли: НА БЛАГО ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Умоляю! Позвольте мне быть публичным инструментом, через который вы выражаете любовь к евреям / ненависть к их врагам / чувства, звучащие в каждом написанном вами слове. И чтобы органы правопорядка в это не вмешивались.
Судите обо мне не по словам, а по женщине, которая принесет это письмо. Вам я все говорю по-идиотски. Судите меня не по неуклюжим словам, которые превращают все, что я чувствую / знаю, в неуклюжую подделку. В вашем присутствии я никогда не буду мастером слова. Смотрите поверх слов. Я не писатель / я нечто другое. Я – ТОТ ВЫ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТСЯ НЕ В СЛОВАХ.
Ваш
Филип Рот
Ее осязаемая физическая реальность потрясала и возбуждала – а заодно тревожила – так, будто я сидел за одним столом с Луной. Лет тридцати пяти на вид, сдобное, кровь с молоком существо, олицетворение женского, тварного начала – золотая медаль призерки животноводческой ярмарки казалась бы на ее крепкой розовой шее вполне уместной; то была победительница естественного отбора, само здоровье. Белокурые, почти белые волосы были собраны в растрепанный пучок на затылке и небрежно заколоты, рот у нее был широкий, и она, даже когда молчала, показывала тебе его ласковую полость, словно радостно пыхтящая собака, и казалось, что фразы собеседника она воспринимает не мозгом, а обрабатывает – когда они попадают внутрь через этот рот, оснащенный некрупными, ровными, ослепительно-белыми зубами и безупречно-розовыми деснами, – всем своим целостным, сияющим, беззаботным организмом. Казалось, очаг ее кипучей жизнерадостности и даже отдел внимания располагались где-то в районе челюстей, а глаза, восхитительно ясные и зоркие, все же не были подключены к сердцевине ее феноменально-всеохватной ]харизматичности. Объемистая грудь и здоровенный круглый зад словно бы достались ей от намного более грузной, не столь бодрой женщины; живи она в другой век, то могла бы быть плодовитой кормилицей, выписанной из польской глуши. В действительности она была медсестрой онкологического отделения, а он познакомился с ней пять лет назад, когда заболел раком и в первый раз лег в одну из чикагских больниц. Ее звали Ванда Джейн (она же Ванда-Беда или просто Беда) Поссесски°, во мне она пробудила томительное желание, похожее на то, которое возникает при мысли о роскошно теплой меховой шубе в морозный зимний день: хотелось в нее укутаться.
Женщина, по которой он просил меня судить о нем, сидела напротив за столиком в саду, во внутреннем дворике «Американской колонии», под очаровательными арочными окнами старинной гостиницы. Пока мы с Аароном трапезовали, утренний ливень отбушевал, сменился легкой моросью, а теперь, в третьем часу пополудни, небо разъяснилось, и камни во дворике переливались и сияли. Настоящий майский денек: теплый, с легким ветерком, убаюкивающе безмятежный – и это в январе 1988-го, в нескольких сотнях метров от места, где всего лишь вчера израильские солдаты применили слезоточивый газ против толпы арабских мальчишек, швырявших камни. Демьянюка судили за убийство почти миллиона евреев в Треблинке, повсюду на оккупированных территориях арабы восставали против еврейских властей, и, однако, с точки, где я сидел, окруженный густыми кустами, между лимонным деревом и апельсиновым деревом, мир выглядел соблазнительно как никогда. Обходительные официанты-арабы, щебечущие птички, отменное холодное пиво – и эта его женщина, навеявшая мне иллюзию, будто нет ничего долговечнее, чем то скоропортящееся тесто, из которого мы вылеплены.
Пока я читал его чудовищное письмо, она все время смотрела на меня такими глазами, словно принесла сюда рукописный оригинал Геттисбергской речи, полученный прямо из рук президента Линкольна. И только по одной причине я не сказал ей: «Такой бредовой писанины мне сроду не присылали», и не порвал письмо в клочья – мне ужасно не хотелось, чтобы она встала и ушла. А хотелось, например, послушать, как она разговаривает: это же шанс побольше выяснить – может, конечно, я услышу всего лишь новое вранье, но ведь если вранья накопится достаточно, из его толщи просочатся капли правды. А еще я хотел послушать, как она разговаривает, потому что тембр голоса у нее был заманчиво-неопределенный, его гармонии оставались для меня загадкой. С чем бы его сравнить?.. Ты словно достаешь что-то из морозильника, и оно размораживается с упоительной неспешностью: края влажные, размякшие, хочешь – обкусывай, в основном же – нечто обескураживающе закаменелое, с ледяной сердцевиной. Мне трудно было понять, такая ли уж она неотесанная, много ли мыслей бродит у нее в голове – или там пусто, и передо мной просто покорная маруха мелкого уголовника. Только потому, видимо, что меня пленяет возбуждающая цельность таких женских натур, мне почудилось, будто ее дерзкая чувственность овеяна легкой дымкой невинности, которая, возможно, позволит мне кое-чего добиться. Я сложил письмо втрое и засунул во внутренний карман – туда, куда мне следовало бы засунуть его паспорт.
– Невероятно, – сказала она. – Потрясающе. Вы даже читаете одинаково.
– Слева направо.
– Выражение лица, и эта ваша манера все впитывать, даже ваша одежда – просто необъяснимо.
– Но тогда все необъяснимо, разве нет? Включая наши одинаковые имена.
– И, – сказала она, широко заулыбавшись, – и сарказм тоже.
– Он пишет, что мне следует судить о нем по женщине, которая принесет его письмо, но, как бы я этого ни хотел, в моем положении мне трудно отказаться от желания судить о нем по кое-чему другому.
– По его замыслу. Знаю. Просто великое начинание для евреев. И для неевреев тоже. Наверно, для всех. Сколько жизней он спасет. Сколько жизней он уже спас.
– Уже? Правда? Кому же?
– Хотя бы мне.
– Я думал, это вы были медсестрой, а он пациентом, я думал, это вы помогали спасать его.
– Я выздоравливающая антисемитка. Меня спасла ААС.
– ААС?
– «Анонимные антисемиты». Группа выздоровления, ее основал Филип.
– Иметь дело с Филипом – все мозги сломаешь, – сказал я. – Про ААС он мне не говорил.
– Он вам вообще почти ничего не сказал. Не смог. У него перед вами такое благоговение, что он сразу замкнулся.
– Хм, замкнулся, вот бы чего не сказал. Скорее так распахнулся, что даже чересчур.
– Я только знаю, что он вернулся в ужасном состоянии. Говорит, что опозорил себя. После расставания с вами у него появилось чувство, что вы его ненавидите.
– С чего вдруг мне ненавидеть Филипа?
– Вот почему он написал это письмо.
– И прислал вас в качестве своего адвоката.
– Я не очень-то много читаю, мистер Рот. По правде говоря, вообще ничего не читаю. Когда Филип был моим пациентом, я даже не знала, что вы есть на свете, а уж тем более не знала, что вы его двойник. Его всегда принимают за вас, куда мы ни приходим, – всюду, все поголовно, кроме меня, дуры неграмотной. Для меня он просто был самым глубоким человеком – таких я никогда в жизни не встречала. Был и есть. Другого такого просто нет.
– Нет, кроме?.. – сказал я, стукнув себя в грудь.
– Я имею в виду способ, которым он решил изменить мир.
– Что ж, он приехал в самое подходящее местечко. Здесь каждый год оказывают медицинскую помощь десяткам туристов, которые шляются по улицам, возомнив себя Мессиями и призывая человечество покаяться. Знаменитый феномен, зафиксированный в психиатрической клинике: местные врачи называют его «иерусалимский синдром». Почти все мнят себя Мессией или Богом, а остальные уверяют: «Я – Сатана». С Филипом вы еще легко отделались.
Но ни одна моя шпилька в его адрес, даже самая унизительная или откровенно презрительная, не оказала заметного эффекта на несокрушимую убежденность, с которой она продолжала восхвалять достижения этого явного афериста. Может, это как раз она страдает этим новоявленным видом истерии, прозванным «иерусалимский синдром»? Психиатр одной государственной клиники, несколько лет назад развлекавший меня остроумными рассуждениями на эту тему, говорил, что среди больных попадаются и христиане, которых находят блуждающими по пустыне: те считают себя Иоаннами Крестителями. Я подумал: вот его предтеча, Ванда-Беда Крестительница, глашатай Мессии, в котором она нашла свое спасение и высшее предназначение своей жизни.
– О евреях, – сказала она, глядя в упор своими жутко доверчивыми глазами, – он думает только о евреях. С тех пор, как он заболел раком, вся его жизнь, денно и нощно, посвящена евреям.
– А вы, – спросил я, – вы в него так пламенно верите… Вы теперь, как и он, возлюбили евреев?
Но, казалось, ни одно мое слово не способно омрачить ее оптимизм, и тогда у меня впервые появилась догадка: а если она беспечно порхает, потому что находится под кайфом – она или они оба на пару? Наверно, это бы все объяснило, в том числе ее добрейшую улыбку в ответ на мою колкость; что, если за нагловатой загадочностью этой парочки таится всего лишь полкило первосортной марихуаны?
– Филипа – да, возлюбила, евреев – нет. О-хо-хо. Самое большее, что может любить Беда, – и, по ее меркам, это уже немало, – то, что она перестала ненавидеть евреев, перестала винить евреев в чем бы то ни было, перестала морщиться, едва завидит еврея. Нет, не могу сказать, что Беда Поссесски возлюбила евреев или однажды их возлюбит. Могу лишь повторить, что уже говорила: я – выздоравливающая антисемитка.
– И каково это? – спросил я, а сам подумал, что в ее словах сквозит что-то, слегка похожее на правду, а мне остается тихо сидеть и слушать.
– О, это целая история.
– Давно вы начали выздоравливать?
– Почти пять лет назад. Я была отравлена антисемитизмом. Во многом, как я теперь считаю, из-за своей работы. Я не виню работу, я виню Ванду-Беду – но все же у онкологических больниц есть одна особенность: боль такая, что даже вообразить невозможно. Когда у человека боли, ты готова выбежать из палаты с криком: «Обезболивающее, скорее!» Никто даже не догадывается, правда-правда, каково это, когда так больно. Их грызет неистовая боль, и всем страшно умирать. В онкологии много неудач – это, знаете ли, не роддом. В роддоме я, возможно, так и не узнала бы, какая я по-настоящему. Обошлось бы. Вы хотите, чтобы я продолжала?
– Если вы не против, – сказал я. На самом деле мне хотелось узнать, как она полюбила этого афериста.
– Я заражаюсь чужими страданиями, – сказала она. – Ничего не могу с собой поделать. Если кто-то плачет, я держу его за руку, обнимаю, если он плачет, я тоже плачу. Я его обнимаю, а он меня, и, думаю, иначе поступить просто нельзя. Такое ощущение, будто ты его спасаешь. Ванда-Беда не может ничего сделать не так. Но и спасти их я не могу. И вот со временем это меня достало. – Внезапно с ее лица исчезла неуместная жизнерадостность, по нему пробежала волна доброты, и Ванда-Беда на миг онемела. – Пациенты… – произнесла она окончательно оттаявшим голосом, нежным, как у маленького ребенка, – они смотрят на тебя такими глазами… – Я опешил от амплитуды эмоций, которую демонстрировало ее поведение. Если это спектакль, она – Сара Бернар. – Они смотрят на тебя такими глазами, раскрывают глаза широко-широко – и цепляются за тебя, цепляются, а ты даешь им силы, это да, но не можешь дать им жизнь… Прошло какое-то время, – продолжала она, и буря эмоций утихла, сменившись чем-то печальным, жалостным, – и я просто стала помогать им умирать. Уложу поудобнее. Дам побольше обезболивающих. Почешу спинку. Переверну на другой бок – как получше. Ну и так далее. Я много для них делала. Никогда не ограничивалась положенными рамками. «Хотите сыграть в карты? Выкурить косячок?» Мне были важны только они, пациенты. И вот кончается день, когда умерли, допустим, трое, и ты засовываешь последнего в мешок. «Всё, финиш, – говоришь ты, – охренеть, как меня это достало – цеплять бирки на ноги!»
Какие резкие перепады чувств! Одно словечко, и в ней произошел переворот, коротенькое словечко «всё». – «Всё, финиш», – и она запылала грубой, дерзкой, вульгарной яростью так же сильно, как минутой раньше сотрясалась от изнурительных душевных терзаний. Я пока не мог установить, каким таким свойством он ее поработил, зато мне сразу стало ясно, какими свойствами она могла подчинить себе мужчину: в ней были они все, причем каждое присутствовало в изобилии. Насколько могу припомнить, столь соблазнительный слоеный пирог женского возбуждения не встречался мне с тех пор, как я в последний раз читал Стриндберга. Желание, которое я незамедлительно подавил, – протянуть руку и обхватить одну из ее грудей – лишь отчасти было тем влечением, которое мужчины вечно вынуждены подавлять в общественных местах, если оно вспыхивает внезапно; нет, сквозь мягкую, пухлую массу груди мне хотелось почувствовать ладонью всю силу этого сердца.
– Понимаете, – говорила она, – мне дико надоело переворачивать кого-то с боку на бок и думать, что это нормально, что меня это не колышет! «Вешай бирки да фасуй. Не успела еще? Давай, вешай и фасуй». – «Но родственники еще не пришли». – «Давай сюда этих сраных родственников, а то мы никогда их не расфасуем, не ночевать же нам здесь!» У меня был передоз смерти, мистер Рот. Потому что… – и у нее снова отнялся язык под натиском воспоминаний. – Потому что смерти было слишком много. Слишком много агоний, ну вы понимаете? Я просто не могла с собой совладать. Я озлилась на евреев. На врачей-евреев. Их жен. Их детей. А врачи-то были хорошие. Отличные врачи, отличные хирурги. Но я видела фотки в рамках на их столах: дети с теннисными ракетками, жены у бассейнов, – слышала, как они по телефону договариваются встретиться вечером, словно в отделении никто не умирает, планировали занятия теннисом, отпуска, поездки в Лондон и Париж: «Живем в „Рице“, обедаем в „Шмице“, подъезжаем на грузовике и скупаем весь „Гуччи“», – и меня переклинивало, понимаете, антисемитизм накатывал, это было как запой. Я работала в гастроэнтерологии – желудок, печень, поджелудочная. Были еще две медсестры, примерно моего возраста, и… я их типа заразила своей бациллой. У нас на сестринском посту все было зашибись, самая классная музыка, много рок-н-ролла, и мы все друг дружку очень поддерживали, сплошь и рядом с работы отпрашивались – типа заболевали, а меня несло неудержимо: все про евреев да про евреев, все больше и больше. Мы все там были молодые: двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять лет, – работаешь пять дней в неделю, и сверхурочно тоже, и каждый вечер сидишь допоздна. Сидишь допоздна, потому что все совсем больные, и мне в голову лезут мысли про врачей-евреев: они-то сейчас у себя дома, с женами и детьми; и даже за воротами больницы эти мысли меня не отпускали. Жгли изнутри. Евреи, евреи. После вечерней смены мы все втроем… возвращались домой, выкуривали косячок – выкуривали-выкуривали, за милое дело, не могли дождаться, пока забьем и выкурим. Готовили пинья-коладу. Да все что угодно. И так всю ночь. Если не выпивали дома, то наряжались, подкрашивались и шли куда-нибудь, на Ниэр-Норт-Сайд, на Раш-стрит – тусоваться. Все бары обошли. Иногда с кем-нибудь знакомишься, и бегаешь на свидания, и спишь с ним – а чего такого? – но это не становилось настоящей отдушиной. Настоящей отдушиной от смерти была травка. Настоящей отдушиной от смерти были евреи. У меня антисемитизм семейный. Что это – наследственность, влияние среды или просто моральное уродство? Такие вещи обсуждаются на собраниях ААС. И что мы отвечаем? «Нам все равно, отчего мы больны этой болезнью, мы здесь, чтобы признать: у нас эта болезнь есть, – признать и помочь друг другу выздороветь». Но я, похоже, подхватила эту заразу по всем возможным причинам сразу. Для начала скажу, что мой отец их ненавидел. Он был техником по бойлерам в Огайо. Я росла на этих разговорах, но они были для меня привычными, как обои на стене, ничегошеньки не значили, пока я не пришла работать медсестрой в онкологию. И вот, только я вошла во вкус, меня типа как понесло. Их деньги. Их жены. Эти женщины и их лица – гнусные еврейские морды. Их дети. Их одежда. Их голоса. Да что ни возьми. Но в основном их внешность, еврейская внешность. И так без удержу. Меня было не остановить. Дошло до такого, что ординатор – работал там один такой врач, Каплан, старался поменьше смотреть тебе в глаза – говорит что-то про пациента, а я вижу только, что губы у него еврейские. Он был совсем молодой, но подбородок у него уже обвис, как у старых евреев, и уши у него были длинные, и губы те самые – толстые еврейские губы – ну всё, чего я не переваривала. Вот так я совсем с катушек слетела. Скатилась ниже некуда. Он трусил – не привык давать столько обезболивающих. Боялся, что у больной случится остановка дыхания и смерть. А она была моего возраста – молоденькая, совсем молоденькая. У нее рак уже по всему телу распространился. И как же ей было больно, как ей было больно. Мистер Рот, это просто жуткая боль.
И по ее лицу полились слезы, тушь размазалась, и я пресек в себе уже другой порыв – не тот, который подталкивал меня пальпировать ее большую, теплую грудь и измерять огневую мощь ее сердца под грудью, а порыв сжать ее руки и приподнять над столом, эти не знающие запретов руки медсестры, с виду обманчиво чистые и невинные, но куда они только ни забирались, бинтуя, орошая, умывая, вытирая, беспрепятственно дотрагиваясь до всего, справляясь со всем: открытыми ранами, калоприемниками, любыми отверстиями, из которых что-то течет – справляясь столь же естественно, как кошка хватает лапами мышку.
– Мне надо было бежать из онкологии без оглядки. Я не хотела быть онкологической медсестрой. Я хотела быть просто медсестрой, и точка. Я наорала на него, на Каплана, на его гнусные еврейские губы: «А ну, давай обезболивающие, засранец! Или мы вызовем консультанта, и он тебе надерет зад за то, что ты его разбудил! Ну же, давай! Шевелись!» Вот так-то вот, знаете ли, – произнесла она с поразительной детскостью. – Вот так-то вот. Вот так-то вот.
«Вот так-то вот», «типа», «понимаете» – и все равно звучит убедительно, видишь все, словно собственными глазами.
– Она была молодая, – слушал я дальше, – сильная. У них очень-очень сильная воля. Воля держит их на этом свете, хотя им так больно, что терпения еле хватает. И даже сильнее, не хватает никакого терпения – а они терпят. Это страшно. И вот ты увеличиваешь им дозу, потому что у них сильное сердце и сильная воля. Им же больно, мистер Рот, – ты просто обязана им что-нибудь дать! Ведь вы понимаете? Понимаете?
– Теперь понимаю, да.
– Им требуются почти слоновьи дозы морфия, таким молодым. – Теперь, совсем не как минуту назад, она не прятала слез, не отворачивалась, клоня голову на плечо, не умолкала, пытаясь успокоиться. – Они молодые – это же вдвойне худо! Я наорала на доктора Каплана: «Никому не позволю быть таким бессердечным, когда человек умирает!» И он принес мне это. И я ей вколола.
Казалось, на миг она увидела себя в этой сцене, увидела, как дает препарат ей, своей ровеснице – «молоденькой, совсем молоденькой». Вернулась туда. А может, подумал я, она всегда там – потому она и с ним.
– И что случилось? – спросил я.
Слабым голосом – а ведь передо мной было не какое-нибудь слабое создание, – очень слабым голосом она ответила, неотрывно глядя на свои руки, которые я упорно воображал себе во всех местах, руки, которые она раньше мыла, наверно, двести раз на дню.
– Она умерла, – сказала она.
Когда она снова подняла глаза, на ее губах играла грустная улыбка, и улыбка эта удостоверяла, что она все-таки сбежала из онкологии, что все эти смерти, хотя они и не прекратились, хотя они никогда не прекращаются, больше не принуждают ее курить травку, пить залпом пинья-коладу и ненавидеть таких, как доктор Каплан и я.
– Она все равно умирала, она была готова к смерти, но умерла она у меня на руках. Я ее убила. Кожа у нее была – загляденье. Понимаете? Она была официанткой. Хорошим человеком. Открытым человеком. Она мне сказала, что хотела родить шестерых детей. Но я дала ей морфия, и она умерла. Я потеряла голову. Пошла в туалет, забилась в истерике. Евреи! Евреи! Пришла старшая сестра. Только благодаря ей я теперь здесь перед вами, а не в тюрьме. Потому что родственники повели себя хуже некуда. Прибежали с воплями: «Что случилось? Что случилось?» Родственники казнятся, потому что ничего не могут сделать, потому что не хотят, чтобы она умирала. Знают, что она ужасно мучается, что надежды нет, и все же, когда она умерла: «Что случилось? Что случилось?» Но старшая сестра – она такая, прям молодец, классная женщина, – подошла, обняла меня: «Поссесски, тебе надо валить отсюда». На это у меня ушел целый год. Мне было двадцать шесть. Я перевелась. Попала в хирургический корпус. В хирургическом всегда есть надежда. Вот только… есть такая процедура, ее называют «раскрой-закрой». Когда их разрезают, а врач даже не пытается ничего сделать. И они остаются в больнице и умирают. Умирают! Мистер Рот, я не могла никуда спрятаться от смерти. А потом я познакомилась с Филипом. У него был рак. Ему сделали операцию. Надежда! Надежда! И тут приходят анализы. Затронуты три лимфатических узла. И я, типа: «О господи!» Я не хотела к нему привязываться. Пыталась себя сдерживать. Всегда пытаешься себя сдерживать. Вот откуда вся эта матерщина. Грубые слова не такие уж грубые, понимаете, да? Думаете, это черствость. Ничего не черствость. Так получилось с Филипом. Я думала, что ненавижу его. Вообще-то, мне хотелось его возненавидеть. Надо было мне извлечь урок после того, как я ту девушку убила. Держи дистанцию. Погляди только – с его-то внешностью. А вместо этого я его полюбила, полюбила его внешность, полюбила все махрово еврейское, что в нем есть. Речи. Шутки. Серьезность. Пародии. Он живой до одури. Это был единственный пациент, который дал мне больше энергии, чем я отдавала им. Мы друг друга полюбили.
В этот самый момент в большом окне напротив я заметил, что в холл вошли адвокаты Демьянюка: наверно, тоже живут в этом отеле в Восточном Иерусалиме, направляются на дневное заседание или уже вернулись. Первым я узнал Шефтеля, адвоката-израильтянина, а затем и остальных двоих; с ними, все такой же элегантный, в костюме с галстуком, точно адвокат номер четыре, шел высокий молодой парень – сын Демьянюка. Беда оглянулась посмотреть, что отвлекло мое внимание от огненной драмы ее биографии – повести о смерти и любви.
– Знаете, почему Демьянюк продолжает врать? – спросила она.
– А он врет?
– Еще как! У защиты ничегошеньки нет.
– Шефтель, по-моему, железно в себе уверен.
– Блеф, все это блеф – нет никакого алиби. Уже десять раз доказано, что алиби липовое. А удостоверение, удостоверение из Травников – чье еще, если не Демьянюка: его фотка, его подпись.
– Это точно не фальшивка?
– Обвинение доказало, что нет. А эти старики на свидетельской трибуне, они же прибирались для него в газовых камерах, каждый день работали с ним бок о бок: против него куча аргументов. Да и вообще, Демьянюк знает, что они знают всё. Притворяется тупым крестьянином, но он хитрый стервец и совсем не дурак. Он знает, что его повесят. Знает, что ему не отвертеться.
– Так почему продолжает врать?
Она дернула большим пальцем, указывая на холл, – жест резкий, заставший меня врасплох после страстной ранимости ее арии, унаследованный, наверно, заодно с антисемитизмом от отца – техника по бойлерам. И эти слова о процессе, сообразил я, наверняка тоже заемные – они уже не пропитаны ее кровью, это слова другого рода, она их повторяет так, словно даже не верит в их смысл. Попугайничает, имитируя голос своего кумира, подумал я, ведет себя, как подобает любящей подруге героя.
– Дело в сыне, – объяснила она. – Демьянюк хочет, чтобы с сыном все было хорошо и он ничего не знал. Он врет ради сына. Сознайся он – и этому мальчику конец. Наверняка конец. – Одна из ее пресловутых рук бесцеремонно легла на мое плечо, одна из рук, послужной список которых – всю эту замаранность телесными секретами – я не мог изгнать из своего воображения; и этот прямой контакт оказался настолько шокирующе-интимным, что на миг мне показалось, будто я растворяюсь в ней – так чувствует младенец, когда руки матери для него еще не просто конечности, а олицетворение всего ее теплого, дивного, огромного тела. Не поддавайся, подумал я, ее общество чересчур соблазнительно: помни, что эта парочка радеет вовсе не о твоих интересах!