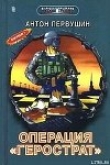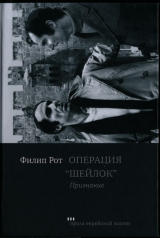
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Розенберг сказал, что подпись его, и, без малейших возражений со стороны обвинения, воспоминания от 1945 года были приобщены к делу в качестве доказательства «для использования, – сказал судья Левин, – при допросе свидетеля, поскольку в таковых говорится о событиях, имевших место во время восстания в Треблинке 2 августа 1943 года. И в особенности, – продолжал Левин, – в связи с сообщением о смерти Ивана, содержащимся в этих воспоминаниях».
О смерти Ивана? Когда эти три слова прозвучали из наушников в английском переводе, Демьянюк-младший, сидевший прямо передо мной, энергично закивал, но весь остальной зал словно бы остолбенел, и воцарилась мертвая тишина, а Чумак, на заседании говоривший по-английски с канадским выговором, начал, со свойственными ему уверенностью и невозмутимостью, рассматривать вместе с Розенбергом относящиеся к делу страницы воспоминаний, то, что Розенберг – по-видимому, спустя несколько месяцев после окончания войны в Европе – написал о смерти того самого человека, в чьи «кровожадные глаза» заглянул с таким ужасом и отвращением на седьмой день текущего судебного процесса (или, по крайней мере, показал так под присягой).
– Мне бы хотелось вместе с господином Розенбергом перейти прямо к той части, которая относится к делу и где вы написали: «Спустя несколько дней дата восстания была безоговорочно назначена на второй день восьмого месяца», – можете найти эту фразу на шестьдесят шестой странице документа?
Затем Чумак обратил внимание Розенберга на описание полуденного зноя 2 августа 1943 года, зноя такого жгучего, что «ребята», как Розенберг называл своих товарищей по похоронной команде, работавшие с четырех часов утра, выли от боли и падали на землю вместе с носилками, на которых таскали трупы к кострам. Восстание было назначено на четыре часа дня, но без четверти четыре разорвалась ручная граната и раздалось несколько выстрелов – то был сигнал к началу. Розенберг прочел вслух текст на идише, а затем перевел на иврит рассказ о том, как один из «ребят», Шмуэль, первым выбежал из барака, громко выкрикивая пароль: «В Берлине революция! Берлин восстал!» – и о том, как еще двое, Мендл и Хаим, набросились на украинского охранника и вырвали у него винтовку.
– Итак, господин свидетель, вы написали эти строки, и они правдивы, – сказал Чумак. – Все так и было, верно?
– Если суду будет угодно, – сказал Розенберг, – я, наверно, должен кое-что объяснить. Потому что то, о чем я здесь пишу, я слышал. Я этого не видел. Разница большая.
– Но то, что вы только что прочитали нам вслух – что Шмуэль первым выбежал из барака. Вы видели, как он выбегал из барака?
Розенберг сказал, что нет, сам он этого не видел, а многое из им написанного – пересказ того, что видели другие и рассказали в кругу своих, когда преодолели все заграждения и благополучно скрылись в лесу.
– Итак, – сказал Чумак, и видно было, что так просто он от Розенберга не отвяжется, – в своем документе вы не пишете, что они, мол, рассказали нам об этом позднее, в лесу, – нет, в документе вы это описываете так, как оно происходило, а вы ведь признали, что в сорок пятом память у вас была лучше, чем нынче. И я предлагаю вам поразмыслить о предположении, что раз вы это написали, то, должно быть, и видели. – И снова Розенберг принялся разъяснять, что написанный им текст по необходимости основывался на том, что он смог увидеть сам в качестве участника восстания, и на том, что позднее, в лесу, рассказали ему другие про свое участие, про то, что они видели и делали.
Цви Таль, бородатый судья в кипе, в очках, съехавших с переносицы, – оживший стереотип благоразумия – наконец-то прервал однообразный диалог Чумака с Розенбергом и спросил у свидетеля:
– Почему вы не указали: потом, в лесу, я увидел, я услышал то-то и то-то – почему вы написали это так, будто видели сами?
– Возможно, в этом я дал промашку, – ответил Розенберг. – Возможно, мне следовало указать все это, но главное, я правда все это слышал, и я всегда говорил, что во время восстания не видел, что там происходило со всех сторон вокруг меня, потому что вокруг нас со всех сторон свистели пули и мне только хотелось побыстрее вырваться из этого ада.
– Естественно, – сказал Чумак, – всякому захотелось бы побыстрее вырваться из этого ада, но, с вашего разрешения, я продолжу: видели ли вы, как все душили того охранника и потом бросили в колодец – это вы видели?
– Нет, – сказал Розенберг, – про это мне рассказали в лесу, и не одному мне, об этом все слышали, и версий было много, не только такая…
Судья Левин спросил у свидетеля:
– Вы были склонны верить тому, что рассказали вам люди, люди, которые, как и вы, сбежали из лагеря на волю?
– Да, ваша честь, – сказал Розенберг. – Это был символ нашего великого успеха – уже тот факт, что мы услышали, как обошлись с этими вахманами[66], сбылась наша мечта. Конечно, я поверил, что их убили, задушили – это был успех. Вы только представьте себе, ваша честь, какой это успех, какая великая мечта воплотилась в жизнь: нам удалось убить своих палачей, своих убийц? Мог ли я в этом сомневаться? Я всей душой поверил. Я надеялся, что все так и было.
После этого очередного разъяснения Чумак, тем не менее, возобновил допрос Розенберга в том же духе:
– Разве вы, господин свидетель, не видели все эти события, описание которых только что прозвучало? – Тут, наконец, поднялся с места главный обвинитель.
– Полагаю, – сказал он, – свидетель уже несколько раз ответил на этот вопрос.
Однако суд разрешил Чумаку продолжать, и даже судья Таль снова вмешался в ход процесса, вернувшись к тому, о чем уже спрашивал Розенберга несколько минут назад:
– Согласитесь ли вы, – обратился он к свидетелю, – что из написанного вами… если человек просто прочтет написанное вами, сложится картина… человек просто не сможет отличить то, что вы действительно видели собственными глазами, от того, что вы услышали позже? Иначе говоря, всякий, кто это читает, скорее всего подумает, что вы видели все сами. Вы согласны?
Пока в ходе допроса суд пытался выяснить, какими приемами пользовался Розенберг, когда писал свои воспоминания, я думал: чего такого непонятного в его приемах? Он вовсе не мастер слова, никогда не был историком, журналистом или писателем, а в 1945 году не был даже студентом, назубок изучившим по предисловиям к книгам Генри Джеймса, как следует нагнетать драматичность конфликтующих точек зрения и с иронией представлять противоречивые свидетельства очевидцев. Воспоминания писал малообразованный польский еврей двадцати трех лет, прошедший через нацистский лагерь смерти, человек, которому дали ручку и бумагу и усадили за стол в краковском пансионе часов на пятнадцать-двадцать в совокупности, и за этим столом он написал, собственно, не историю своих уникальных переживаний в Треблинке, а скорее то, что его попросили написать: воспоминания о жизни в лагере, коллективные воспоминания, в которых он попросту и, скорее всего, не задумываясь ни на секунду, подытожил опыт других людей и превратился в хор, говорящий голосом их всех, переходя – иногда в одной и той же фразе – с рассказа от первого лица множественного числа на рассказ от третьего лица множественного числа. Я лично не удивился, что в рукописных воспоминаниях, которые такой человек накатал сразу набело, в два присеста, отсутствовали вдумчивые расстановки нюансов, свойственные спланированному повествованию.
– А вот, – продолжал Чумак, – а вот самое существенное для нашего процесса, господин Розенберг, – следующая строка текста, написанного вами в декабре тысяча девятьсот сорок пятого года. – Он попросил Розенберга прочитать следующую строку вслух.
– «Потом мы пошли в машинный зал, к Ивану, который там спал, – медленно зычным голосом переводил Розенберг с идиша, – и Густав ударил его по голове лопатой. И он остался там лежать насовсем».
– Иначе говоря, он умер? – спросил Чумак.
– Да, верно.
– Господин свидетель, двадцатого декабря тысяча девятьсот сорок пятого года, вашим почерком?
– Верно.
– Полагаю, это очень важная информация, которая содержится в вашем документе. Вы согласны, господин свидетель?
– Конечно, эта информация была бы очень важной, – ответил Розенберг, – если бы оказалась правдой.
– Что ж, когда я спрашивал вас обо всем документе, господин свидетель, о шестидесяти восьми страницах, – я задал вопрос, написали ли вы скрупулезно точную и правдивую версию или изложение того, что происходило в Треблинке. Вы сказали в самом начале моего перекрестного допроса…
– Я снова говорю: да. Но кое-какие вещи я слышал от других.
Сидя передо мной, Демьянюк-младший мотал головой, совершенно не веря аргументу Розенберга, будто свидетельство очевидца, написанное в 1945 году, могло основываться на ненадежных доказательствах. Розенберг лгал, причем лгал он (как казалось сыну обвиняемого) под бременем своего чувства неискупимой вины. Его мучила совесть за то, что он умудрился выжить, когда все остальные погибли. За то, что нацисты приказывали ему делать с телами его братьев-евреев, а он делал это покорно, превозмогая отвращение. За то, что ради выживания приходилось не только воровать – да, он воровал, и все они, конечно, воровали постоянно: у мертвецов, у умирающих, у живых, у больных, друг у друга и у всех сразу, – но приходилось и подкупать палачей, предавать друзей, лгать всем, терпеть любое унижение молча, словно побитое и сломленное животное. Он лгал, потому что он хуже животного, потому что он сделался чудовищем, которое сжигало крохотные тельца еврейских детей, тысячи и тысячи сожжены им в качестве растопки, и единственный для него способ оправдать свое превращение в чудовище – это переложить свои грехи на голову моего отца. Мой безвинный отец – козел отпущения не просто за миллионы погибших, но и за всех Розенбергов, которые совершали все эти чудовищные поступки, чтобы уцелеть, а теперь не могут жить под грузом своей чудовищной вины. Чудовище тот, другой, говорит Розенберг, чудовище – Демьянюк. А я – тот, кто выслеживает чудовище, опознает чудовище и добивается, чтобы чудовище прикончили. Вот он, во плоти, преступник и чудовище, Джон Демьянюк из Кливленда, штат Огайо, а я, Элиягу Розенберг из Треблинки, очистился.
Или у Демьянюка-младшего сейчас в голове совсем другие мысли? Почему Розенберг лжет? Потому что он еврей и ненавидит украинцев. Потому что евреи решили сжить украинцев со света. Потому что таковы происки, таков заговор всех этих евреев: они решили отдать всех украинцев под суд и очернить их перед всем миром.
Или Джон-младший думает вообще о другом? Почему этот Розенберг оболгал моего отца? Потому что жаждет саморекламы, потому что этот психованный честолюбец хочет увидеть свою фотку в газетах и стать великим еврейским героем. Розенберг думает: когда я расправлюсь с этим украинским придурком, мой портрет напечатают на почтовых марках.
Почему Розенберг оболгал моего отца? Потому что он лжец. Тот, кто на скамье подсудимых, – мой отец, так что он наверняка говорит правду, а тот, кто на свидетельской трибуне, – чужой отец, так что он наверняка лжет. Возможно, для сына все проще простого: Джон Демьянюк – мой отец, всякий, кто отец мне, невиновен, следовательно, Джон Демьянюк невиновен – может быть, следуя логике человека, воодушевленного сыновьей любовью, тут больше и думать не о чем.
А о чем думает сейчас Джордж Зиад, сидя где-то позади меня? Два слова – «паблик релейшенс». Для них Розенберг – пиарщик Холокоста. Дым печей Треблинки – за тьмой этой тьмы они до сих пор умудряются скрывать от мира свои тайные и злодейские деяния. Каков цинизм! С бесстыдной помпезностью эксплуатировать дым горящих тел своих же соплеменников, погибших мученической смертью!
Почему он лжет? Потому что в этом и состоит пиар, пиарщики – лжецы на зарплате. У них это называется «работа над имиджем»: годится все, лишь бы выстрелило, лишь бы отвечало потребностям клиента, лишь бы сгодилось для машины пропаганды. У «Мальборо» есть «Мальборо-мэн», у Израиля – «Холокост-мэн». Почему он говорит то, что говорит? Спросите, почему рекламные агентства говорят то, что говорят. «КУРИТЕ „ХОЛОКОСТ“: ЕГО ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ВСЕ СКРОЕТ».
Или Джордж думает обо мне, о пользе от меня, о том, как сделать меня своим пиарщиком? Возможно, когда меня рядом нет, когда нет необходимости стращать меня всем этим праведным гневом, Джордж взял тихую философскую паузу и сам себе мысленно говорит: да, это все битва за эфирное время и квадратные сантиметры на полосах газет. Кто владеет рейтингом Нильсена[67], тот владеет всем миром. Все это – реклама, вопрос в том, какая сторона состряпает более эффектную драму, чтобы донести свою версию до широкой аудитории. У них – Треблинка, у нас – восстание, пусть победит та машина пропаганды, которая сработает лучше.
А может быть – и это весьма правдоподобно – он во власти мрачной тоски: эх, нам бы те трупы. Может быть, подумал я, именно патологическая отчаянная жажда кровавой каши стоит за этим восстанием, их потребность в бойне, в горах трупов, которые на телеэкранах всей планеты послужат окончательным, драматичным доказательством – вот, мол, кто на сей раз настоящие жертвы. Уж не поэтому ли в первых рядах идут дети, уж не поэтому ли вместо того, чтобы бросить на врага взрослых мужчин, они отряжают детей, вооруженных только камнями, – пусть они вызывают на себя огонь израильской армии. Да, чтобы телеканалы забыли их Холокост, мы срежиссируем свой Холокост. Евреи сотворят его на трупах наших детей, и телезрители наконец-то поймут наше бедственное положение. Отрядите детей и зовите телевизионщиков: мы переиграем торговцев Холокостом на их собственном поле!
Ну а что думал я? Я думал: что сейчас думают они? Я думал о Мойше Пипике и о том, что же сейчас думает он. И ежесекундно гадал, где же он сейчас. Продолжая следить за ходом процесса, я озирался в поисках любого признака его присутствия. Вспомнил про галерку. Что, если он там, вместе с журналистами и телеоператорами, наблюдает за мной сверху?
Я обернулся, но со своего места не смог разглядеть ничего, кроме перил галерки. Если он там, подумал я, то думает: что сейчас думает Рот? Что делает Рот? Как нам похитить сына чудовища, если Рот путается у нас под ногами?
Во всех четырех углах зала дежурили полицейские в форме, а полицейские в штатском с рациями стояли в задней части зала и регулярно прохаживались взад-вперед между рядами – наверно, мне надо взять одного из них за пуговицу и повести на галерку, чтобы схватить Мойше Пипика? Но Пипик уехал, подумал я, все закончилось…
Вот что я думал, когда не думал что-то полярно противоположное, либо когда не думал обо всем остальном.
Ну а о том, что думал обвиняемый, пока Розенберг объяснял суду, почему воспоминания о Треблинке ошибочны, лучше всех знал сидевший за столом защиты адвокат-израильтянин Шефтель, которому Демьянюк передавал записку за запиской все то время, пока Чумак допрашивал Розенберга, – записки, которые ответчик, по моим предположениям, писал на своем кривом английском языке. Демьянюк лихорадочно писал, но после того, как он передавал каждую записку через плечо Шефтелю, тот, как мне казалось, лишь просматривал их по диагонали, а потом присоединял к россыпи других записок на столе[68]. В общине американцев украинского происхождения, думал я, эти заметки, если их когда-либо соберут вместе и опубликуют, окажут на земляков Демьянюка примерно такое же воздействие, как знаменитые письма из тюрьмы, написанные Сакко и Ванцетти на иммигрантском наречии. Или такое же воздействие на совесть цивилизованного мира, какое Суппосник без должных на то оснований ожидает от путевых дневников Клингхоффера, буде они когда-нибудь удостоятся моего предисловия.
Все это, написанное дилетантами, подумал я, все эти дневники, воспоминания и записки – такие неуклюжие, неумелые, использующие тысячную долю ресурсов письменного языка, но свидетельство, которое в них содержится, все равно не теряет в убедительности, а, наоборот, обжигает гораздо сильнее именно потому, что автором применены самые примитивные, самые незамысловатые выразительные средства.
Теперь Чумак спрашивал Розенберга:
– Как в таком случае вы вообще можете приходить в суд и указывать на этого господина пальцем, если в тысяча девятьсот сорок пятом году вы написали, что Иван был убит Густавом?
– Господин Чумак, – тут же ответил свидетель, – разве я сказал, что видел, как он его убил?
– Не отвечайте вопросом на вопрос, – предостерег Розенберга судья Левин.
– Он не восстал из мертвых, господин Розенберг, – продолжал Чумак.
– Я этого не говорил. Я этого не говорил. Я лично не говорил, что видел, как его убили, – сказал Розенберг. – Правда, господин Чумак, я хотел бы это видеть – но не видел, не видел этого. Это было мое самое заветное желание. Я в рай попал, когда услышал – мне не только Густав говорил, другие тоже – так мне хотелось, так хотелось верить, господин Чумак. Хотелось верить, что этого зверя больше нет. Что он больше не живет на свете. Но, к сожалению, к моей глубокой печали, мне бы хотелось увидеть, как его рвут на куски, совсем как он рвал на куски наших. И я всем сердцем верил, что его ликвидировали. Вы можете меня понять, господин Чумак? Это было их самое заветное желание. У нас была мечта – прикончить его, и остальных тоже. Но он сумел вырваться, удрать, выжить – вот ведь повезло!
– Господин свидетель, вы написали, своим почерком, на идише – не на немецком, не на польском, не на английском, но на вашем родном языке, – вы написали, что Густав ударил его по голове лопатой и он остался лежать там насовсем. Вы это написали. И вы сказали нам, что написали правду, когда в тысяча девятьсот сорок пятом году сделали эти заявления. Вы говорите, что ваши воспоминания – неправда?
– Нет, это правда, тут вся правда написана, – но то, что рассказали нам ребята, не было правдой. Они хотели похвастаться. Они так выражали свою мечту. Они этого жаждали, убить его было их самым заветным желанием – но они его не убили.
– Почему в таком случае вы не написали, – спросил его Чумак, – что, мол, самое заветное желание ребят состояло в том, чтобы убить этого человека, а потом, в лесу, я слышал, что его убили таким-то способом… или другим способом. Почему вы не написали про все это, про все версии?
– Я предпочел написать эту конкретную версию, – ответил Розенберг.
– Кто был рядом с вами, когда родилась эта версия – о том, что ребята хотели его убить, что каждый хотел быть героем и убить этого мерзавца?
– В лесу, когда они это рассказывали, было много народу, мы несколько часов посидели, а потом разошлись кто куда. Они сидели там, господин адвокат, и каждый рассказывал свою версию, и я поверил. Вот это я и помню: я в это поверил, и мне очень хотелось твердо верить, что так было на самом деле. Но этого не случилось.
Посмотрев на Демьянюка, я увидел, что он улыбается непосредственно мне – не мне, конечно, а своему сыну, сидящему передо мной. Демьянюка забавляла нелепость показаний, крайне забавляла, и в его глазах даже мелькнуло торжество, словно утверждение Розенберга, что в 1945 году он достоверно изложил то, что его источники сами изложили недостоверно, а он им поверил, – уже достаточное оправдание и он, считай, на свободе. Неужели он настолько туп, чтобы на это надеяться? Почему же он улыбается? Чтобы укрепить дух своего сына и своих сторонников? Чтобы прилюдно выказать презрение? Улыбка была странная, озадачивающая, а для Розенберга, как мог заметить всякий, – такая же неприятная, как попытка дружеского рукопожатия и теплое «Шалом», которое адресовал ему Демьянюк годом раньше. Будь ненависть Розенберга бензином, а у свидетельской трибуны кто-то чиркнул бы спичкой, пламя охватило бы весь зал суда. Пальцы Розенберга, эти пальцы докера, стиснули кафедру, он сжал зубы, словно подавляя рев.
– Итак, – продолжал Чумак, – если исходить из «версии», как вы теперь ее называете, версии про убийство Ивана, его ударили по голове лопатой. Как по-вашему, господин свидетель, должен у человека, которого ударили лопатой, остаться шрам, или трещина в черепе, или еще какая-то серьезная травма головы? Если именно это случилось с Иваном в машинном зале?
– Конечно, – ответил Розенберг, – если бы я был уверен, что его ударили и, как говорит версия, которую я записал, он после этого умер… Тогда – где же шрам? Но там Ивана не было. А не было его там, потому что его там не было. – Розенберг посмотрел мимо Чумака и, тыча в Демьянюка пальцем, обратился к нему напрямую. – А будь он там, то не сидел бы теперь напротив меня. Ишь, герой, лыбится! – с отвращением вскричал Розенберг.
Но Демьянюк уже не просто ухмылялся, а смеялся, громко смеялся над словами Розенберга, над яростью Розенберга, смеялся над судом, смеялся над процессом, смеялся над абсурдностью этих чудовищных обвинений, над возмутительным фактом, что семьянина из кливлендского предместья, рабочего завода «Форд», прихожанина, которого ценят друзья, которому доверяют соседи, которого обожают родственники, – такого человека перепутали с психопатом-упырем, который сорок пять лет назад рыскал в польских лесах в качестве Ивана Грозного, порочным садистом, убийцей безвинных евреев. Либо он смеялся, потому что человеку, абсолютно невиновному в подобных преступлениях, остается только смеяться после целого года этого кошмарного крючкотворства и всего того, чему подвергла его и его несчастную семью судебная система Государства Израиль, либо он смеялся, потому что виновен в этих преступлениях, потому что он действительно Иван Грозный, а Иван Грозный был не просто психопатом-упырем, но самим сатаной. Ведь если Демьянюк виновен, кто, кроме сатаны, мог бы так громко смеяться над Розенбергом?
Все еще смеясь, Демьянюк внезапно вскочил со стула, подавшись к включенному микрофону на столе защиты, крикнул Розенбергу: «Ата шакран!» – и захохотал еще громче.
Демьянюк заговорил на иврите: человек, обвиняемый в том, что был Иваном Грозным, во второй раз обратился на еврейском языке к еврею из Треблинки, называвшему себя его жертвой.
Следующим заговорил судья Левин, тоже на иврите. Я услышал в наушниках перевод. «Слова обвиняемого, – отметил судья Левин, – которые были занесены в протокол… это были слова „Ты лжец!“… они занесены в протокол».
* * *
Еще через несколько минут Чумак закончил допрос Розенберга, и судья Левин объявил перерыв до одиннадцати утра. Я поскорее покинул зал суда, чувствуя опустошенность, изнеможение и недоумение – с таким же ощущением омертвелости я возвращался бы с похорон человека, которого страстно любил. Я никогда не видал стычек, в которых было столько боли и жестокости, как в этом жутком поединке Демьянюка с Розенбергом: столкнулись две жизни, бесконечно враждебных одна другой – как только могут быть несовместимы два вещества на нашей планете, изъеденной расколами. То ли от ощущения мерзости только что увиденного, то ли просто от того, что я поневоле постился почти сутки, но пока я в фойе, в буфете, отстаивал свое место среди прорывавшихся к кофемашине зрителей, в моем сознании произошло нечто весьма настораживающее: слова и картинки слиплись в неопрятный, тревожащий коллаж, состоящий из того, что Розенбергу следовало бы сказать для полной ясности, из золотых зубов, выдираемых у умерщвленных евреев для германской казны, и из страниц учебника «Иврит для начинающих», по которому Демьянюк в камере прилежно, самоучкой, вызубрил, как правильно сказать «Ты лжец». С «Ты лжец» сливались слова «Три тысячи дукатов». Отчетливо слышалось, как достойный Маклин вкрадчиво выговаривает: «Три тысячи дукатов», когда я отсчитал свои шекели старику, принимавшему деньги за буфетной стойкой, который, к моему изумлению, оказался тем самым бывшим узником-калекой, Смайлсбургером, чей чек на миллион долларов я «украл» у Пипика, а потом потерял. Сзади так напирала толпа, что, едва я расплатился за кофе с булочкой, меня оттеснили, и я, чуть не уронив стаканчик, протолкался во внешнее фойе, откуда была видна улица.
Ну вот, мне и теперь что-то мерещится. За кассой в буфете, сидящий на табуретке – всего-то какой-то лысый старичок с чешуйчатым теменем, который никак не может быть нью-йоркским ювелиром, отошедшим от дел и разочаровавшимся в Израиле. У меня двоится в глазах, подумал я, у меня двойники в глазах, но в чем причина – недоедание, недосып или – второй раз за год – распад личности? Наверно, и впрямь распад личности – как иначе я мог внушить себе, будто единолично отвечаю за безопасность Демьянюка-сына? После этих показаний, после смеха Демьянюка и гнева Розенберга, как может дурацкое гаерство нелепого Пипика все еще претендовать на роль в моей жизни?
Но в эту самую минуту я услышал крики на улице, увидел сквозь стеклянные двери двух солдат с автоматами, бегущих во весь опор к парковке. Я устремился вслед – выскочил из фойе и направился туда, где человек двадцать-тридцать уже собралось, образуя кольцо вокруг того, что стало причиной нарушения спокойствия. И, когда я услышал долетавшие из этого кольца громкие выкрики по-английски, стало ясно: он, безусловно, здесь, и случилось худшее. Законченный параноик, в которого я успел превратиться, декларировал свою паническую уверенность в неудержимом нарастании бедствия; наше взаимное возмущение вылилось в настоящую катастрофу, накликанную тем осьминогом паранойи, в которого, переплетенные между собой, мы оба превратились.
Но кричавший мужчина был двухметрового роста, на две головы выше, чем даже Пипик или я, человек-дуб, рыжеволосый исполин с диковинным подбородком в форме боксерской перчатки. Гигантская чаша лба побагровела от ярости, а ладони рук, высоко воздетых, казались никак не меньше оркестровых тарелок: берегись, чтобы твои хлипкие уши не оказались между его ручищами, когда он вздумает их сдвинуть.
В обеих руках он сжимал какие-то белые брошюрки и неистово тряс ими над головами зевак. Кое-кто в толпе держал и перелистывал такие же книжечки, но в основном они валялись на тротуаре, под ногами. Английским этот еврей-исполин владел плохо, но его голос был словно бы самостоятельным существом, мощным нарастающим приливом, в котором исполин присутствовал в полный рост, и его речь производила тот же эффект, что игра на органе. Таких огромных и громогласных евреев я еще никогда не видал; он рычал, обращаясь сверху вниз к священнику, пожилому круглолицему христианскому священнику, который, несмотря на средний рост и довольно плотное телосложение, рядом с ним казался маленькой хрупкой статуэткой. Священник замер, как скала, не отступал, не позволял еврею-исполину себя запугать.
Я наклонился за брошюрой. Посередине белой обложки был изображен голубой трезубец с крестом вместо среднего зубца; брошюра на дюжину страниц с английским заголовком «Тысячелетие христианства в Украине». Должно быть, священник раздавал брошюры тем, кто выходил из зала суда проветриться. Я прочел первую фразу на первой странице: «1988-й – важный год для украинцев-христиан по всему миру: 1000-летие прихода христианства на землю, которая зовется Украиной».
Толпе, состоявшей в основном из израильтян, было, похоже, невдомек, о чем брошюра и о чем спор, а еврей-исполин так плохо говорил по-английски, что даже я лишь спустя пару минут разобрал смысл его выкриков: оказалось, он бомбардирует священника именами украинцев, которых называет подстрекателями к зверским погромам. Мне было знакомо только одно имя – Хмельницкий, я смутно припомнил, что это, кажется, некий национальный герой масштаба Яна Гуса или Гарибальди. В середине пятидесятых, впервые обосновавшись в Нью-Йорке, я жил среди рабочих-украинцев в Нижнем Ист-Сайде и сохранил туманные воспоминания о ежегодных праздниках, когда на улицах отплясывали десятки ребятишек в народных костюмах. С уличной трибуны произносились речи против коммунизма и Советского Союза, а имена Хмельницкого и Святого Владимира попадались на афишках, нарисованных цветными мелками и вывешенных в витринах магазинов и около украинской православной церкви в двух шагах от моего жилища в полуподвале.
– Где в книга убийца Хмельницкий?! – таковы были крики еврея-исполина, которые я наконец-то расшифровал. – Где в книга убийца Бандера?! Где убийца Петлюра, сукин сын?! Палач! Убийца! Все украинцы – антисемиты!
Дерзко вскинув голову, священник возразил:
– Да что вы вообще знаете? Петлюра сам был убит. Принял смерть мученика. В Париже. От руки советских агентов. – Оказалось, он американец, священник украинской православной церкви, наверняка – судя по выговору – нью-йоркец, который, видимо, специально приехал в Иерусалим из далекого Нью-Йорка, возможно даже с того самого угла Второй авеню и Восьмой улицы, приехал раздавать свои брошюрки, воспевающие тысячелетие крещения Украины, евреям, посещающим процесс Демьянюка. Не иначе как еще один дурачок полоумный.
И тут меня осенило, что это я дурачок, потому что принимаю его за священника, хотя на самом деле это новый маскарад, спектакль, устроенный, чтобы спровоцировать беспорядки, отвлечь полицейских и военных, оттянуть на себя внимание толпы… Я не мог прогнать мысль, что за всем этим стоит Пипик, совсем как Пипик не мог избавиться от мысли, что за его плечом постоянно стою я. Этот священник – подсадная утка Пипика, соучастник его интриги.
– Нет! – кричал еврей-исполин. – Петлюра убитый – да! Его убивал еврей! Убивал за убитые евреи! Храбрый еврей!
– Пожалуйста, – сказал священник, – вы сказали свое слово, вы высказались. Вас слышали все и тут, и даже в Канарси, позвольте мне, позвольте, пожалуйста, обратиться к этим добрым людям, может быть, они будут рады для разнообразия еще кого-нибудь послушать. – И, повернувшись спиной к великану, он возобновил лекцию, которую, вероятно, читал окружающим до начала заварушки. Он говорил, и толпа вокруг росла: на это-то и рассчитывал Пипик. – Примерно в восемьсот шестидесятом году, – рассказывал им священник, – два родных брата, Кирилл и Мефодий, покинули свой монастырь в Греции, чтобы проповедовать христианство среди славянских народов. Наши прародители не имели ни алфавита, ни письменности. Эти братья создали для нас алфавит, называемый кириллицей, в честь одного из них… – Но еврей-исполин, втиснувшись между зрителями и священником, снова заорал на него своим громовым голосом:
– Гитлер и украинец! Два брата! Одно то же! Убивать евреи! Я знаю! Мать! Сестра! Все! Украинец – убивать!
– Послушайте, приятель, – сказал священник, и его пальцы, вцепившиеся в толстую пачку брошюр, прижатую к груди, побелели. – Гитлер, к вашему сведению, вовсе не был другом украинского народа. Гитлер отдал половину моей страны нацифицированной Польше – вы, может, не слышали. Гитлер отдал Буковину фашистской Румынии. Гитлер отдал Бессарабию…