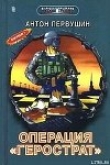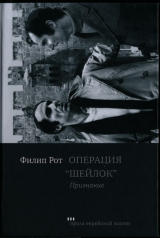
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– Тут все совершенно понятно, кроме вашего самомнения. С возрастом становишься циничнее, потому что все больше ахинеи заполняет мозги. Но какое отношение это имеет к нам с вами?
Я поймал себя на том, что вопрошаю вслух:
– Значит, я беседую с этим человеком, искренне пытаюсь вести с ним осмысленный разговор? Но почему?
– А почему нет?! Почему с Аароном Аппельфельдом вам стоит беседовать, – сказал он, приподняв книгу Аарона, потрясая ею, – а со мной вдруг – нет?
– Есть тысяча причин.
Он моментально впал в ревнивую ярость, потому что с Аароном я разговаривал серьезно, а с ним – нет.
– Назовите хоть одну! – вскричал он.
Одна из причин, подумал я, четкая, кардинальная дуальность[36] нас с Аароном – свойство, которое вам, похоже, совершенно неблизко; потому что мы с Аароном – что угодно, но не те дубликаты, которыми все якобы мнят меня и вас; потому что Аарон и я – два олицетворения личного опыта, и мой опыт – это его опыт наизнанку, и наоборот; потому что мы оба узнаем друг в друге того еврея, которым не являемся; потому что все эти почти несовместимые устремления предопределяют нашу совершенно разную жизнь и наши совершенно разные книги, а сами предопределены полярными крайностями еврейских биографий в XX веке; потому что мы сообща получили кардинально раздвоенное наследие – потому что есть сумма всех этих еврейских антиномий, да, нам действительно есть много о чем поговорить и мы – близкие друзья.
– Назовите хоть одну! – потребовал он во второй раз, но я просто не стал затрагивать эту тему и, для разнообразия проявив благоразумие, придержал свои мысли при себе.
– Аппельфельда вы признаете тем, кем он себя именует; а меня почему отказываетесь признать? Только и делаете, что сопротивляетесь мне. Сопротивляетесь, игнорируете меня, оскорбляете, клевещете, осыпаете какими-то бредовыми нападками – и обкрадываете меня. К чему такая враждебность? К чему вам видеть во мне соперника? Никак не могу понять. Почему вы так воинственно настроены? Почему наши отношения должны быть разрушительными, хотя мы так много можем сделать вместе? Мы можем образовать творческий союз, стать партнерами, взаимодополняющими личностями, и работать совместно, отринув эту дурацкую раздробленность!
– Послушайте, у меня и так столько личностей, что я не знаю, к чему их применить. Вы – просто еще одна, совершенно излишняя. Все, приехали, поезд дальше не идет. Я не хочу вступать с вами в партнерство. Я одного хочу – чтобы вы исчезли.
– По крайней мере, мы могли бы стать друзьями.
Голос у него был такой несчастный, что я невольно засмеялся:
– Никогда. Глубокие, непримиримые, несомненные различия, намного превосходящие поверхностное сходство – нет, дружба тоже невозможна. Все, точка.
К моему изумлению, он, казалось, был готов зарыдать от моих слов. А может, просто лекарства переставали действовать.
– Послушайте, вы так и не рассказали, что сталось с Донной, – сказал я. – Развлеките нас еще чуть-чуть, а потом – согласны? – давайте подведем черту под этой мелкой ошибкой. Что стало с пятнадцатилетней доминатрикс из школы Хайленд-Парк? Чем закончилась серия?
Но это, естественно, снова его взбесило.
– Серии! Вы правда думаете, что я смотрю сериалы про частных детективов? Ни в одном сериале нет правды, ни в одном. Будь у меня выбор – смотреть «Частный детектив Магнум» или «Шестьдесят минут», я всякий раз выберу «Шестьдесят минут». Рассказать вам кое-что? Донна оказалась еврейкой. А из дома она сбежала, как я выяснил позже, из-за своей матери. Не буду в это углубляться – вам же наплевать. Но я углублялся, активно занимался этими делами – пока я не заболел, они были моей жизнью. Я пытался выяснить, почему дети сбегали из дома, пытался что-то предпринять, чтобы они вернулись. Пытался им как-то помочь. У меня было чувство, что я живу не напрасно. К сожалению, тот доминиканец, с которым связалась Донна… его звали Эктор… Донна на нем зациклилась…
– Он имел над ней власть, – сказал я, – и она до сих пор пытается отыскать его снова.
– Так и было. Истинная правда. Ей предъявили обвинения в укрывательстве краденого, сопротивлении аресту, бегстве от полиции – теперь она в исправительной колонии.
– А когда ее выпустят из исправительной колонии, в тот же день она снова сбежит из дома, – сказал я. – Отличная история. Как говорится, найдет отзвук в каждом сердце. Начиная с вашего. Она больше не желает быть Донной доктора Еврея и миссис Еврейки, а желает быть доминиканкой Пеппер при Экторе. Все эти автобиографические домыслы – это, что же, общенациональный феномен? Или даже всемирный? Возможно, та мура, которую смотрят все, навеяла половине человечества мечту о массовом переселении душ, может быть, именно это в вас воплотилось – тоска по метемпсихозу, которую внушили человечеству все эти телесериалы.
– Идиот! – вскрикнул он. – То, что во мне воплотилось, – у тебя прямо перед носом!
Вот-вот, подумал я, и это пустота. Которая ничего не значит. И в этом – ее значение. Я могу на этом остановиться. А мог бы с этого начать. Со стороны она – самое многозначительное на свете нечто и самое незначительное одновременно.
– А что же в итоге сталось с Эктором? – спросил я в надежде, что если мне удастся довести его до финала хоть какой-то истории, то, возможно, представится случай поднять его с моей кровати и вытолкать из номера, не обращаясь за помощью к портье. В тот момент мне меньше чем когда-либо хотелось, чтобы этот бедный одержимый проходимец огреб неприятности. Он был не просто незначительным человеком; понаблюдав за ним неполный час, я почти перестал верить, что он агрессивен. В этом смысле мы не такие уж разные: агрессия была только вербальной. Строго говоря, мне пришлось одернуть себя, когда я обнаружил, что презираю его меньше, чем требует умопомрачительный тарарам, устроенный им в моей жизни, чем требуют последствия нашей встречи, которая, я был уверен, в будущем аукнется мне самым неприятным образом.
– Эктор? – спросил он. – Эктор внес залог, его освободили под залог. – И неожиданно засмеялся, но смех его был таким же безнадежным и усталым, как и все звуки из его уст. – Ты и Эктор. Я только теперь заметил параллели. Будто мало я видел от тебя обид, будто мне мало твоих гребаных издевательств, – так еще и Эктор ждет за углом. Он мне звонил, говорил со мной, угрожал – сказал, что меня убьет. Это было прямо перед тем, как я лег в больницу. Я много народу арестовал, намотай на ус, много народу из-за меня оказалось за решеткой. Они мне звонят, выслеживают, а я не прячусь. Если кто-то захочет со мной поквитаться, я ничего не смогу сделать. Но я не озираюсь затравленно по сторонам. Я и Эктору сказал то, что говорю им всем: «Парень, я есть в книге. Филип Рот. Приходи, попытайся».
Тут я вскинул руки над головой, взвыл от восторга, хлопнул в ладоши один раз, потом второй, пока не поймал себя на том, что аплодирую ему:
– Браво! Вы великолепны! Какая концовка! Какая виньетка! По телефону – самоотверженный спаситель евреев, еврейский государственный муж, Теодор Герцль наизнанку. Затем, лицом к лицу после судебного заседания, – сумасбродный фанат, зардевшийся от обожания. А теперь вот это, виртуозный ход – детектив, который не озирается затравленно. «Парень, я есть в книге. Филип Рот. Приходи, попытайся». В книге!!! – И я от души расхохотался, как должен был хохотать с того дня, как впервые услыхал, что этот нелепый говорун претендует на реальное существование.
Но он вдруг заорал с кровати:
– Отдай чек! Отдай мой чек! Ты украл миллион долларов!
– Я его потерял, Пипик. Потерял на шоссе, по дороге из Рамаллы. Чек пропал.
Пораженный ужасом, он уставился на меня – человека, который, как никто на всем свете, напоминал ему самого себя, человека, в котором он видел свою часть, довершение себя самого, того, кто сделался единственным смыслом его жизни, его зеркальным отражением, его средством заработка, его скрытым потенциалом, его публичным имиджем, его алиби, его будущим, тем, в ком он искал спасения от самого себя, тем другим, которого он называл собой, ради служения которому отрекся от собственной индивидуальности, прорывом в другую половину его жизни… А вместо этого он увидел злейшего врага, который, надев маску его собственного лица, безудержно потешался над ним, увидел того, с кем его не связывает ничто, кроме ненависти. Но как мог Пипик не понимать, что я поневоле возненавижу его не меньше, чем он меня? Неужели он искренне ожидал, что, когда мы встретимся, я втрескаюсь в него по уши, и вступлю с ним в партнерство, и мы образуем творческий союз – совсем как у Макбета с женой?
– Я его потерял. История отличная, как и ваша, почти сопоставима с вашей по неправдоподобию. Чек пропал, – повторил я. – Ветер несет миллион баксов по барханам в пустыне, он, наверно, уже на полпути к Мекке. А на этот миллион вы могли бы провести Первый диаспористский конгресс в Базеле. Могли бы отправить первых счастливчиков-евреев в Польшу. Могли бы учредить отделение ААС прямо в Ватикане. Собрания в полуподвале собора Святого Петра. Каждый вечер – битком. «Меня зовут Эудженио Пачелли[37]. Я выздоравливающий антисемит». Пипик, кто прислал мне тебя в час, когда я в тебе нуждался? Кто сделал мне этот чудесный подарок? Знаете, что говорил Гейне? Бог есть, и имя ему – Аристофан. Вот докажите-ка это. Им следовало бы поклоняться Аристофану у Стены Плача – будь он Богом Израиля, я ходил бы в синагогу три раза на дню!
Смеялся я так, как плачут на похоронах в тех странах, где люди дают себе волю и не знают удержу. Раздирают на себе одежду. Расцарапывают ногтями щеки. Завывают. Теряют голову. Падают в обморок. Цепляются скрюченными пальцами за гроб, бросаются с воплями в могилу. Что ж, вот так смеялся я, если вы можете это вообразить. Судя по лицу Пипика – нашему лицу! – на это стоило посмотреть. И почему только Бог – не Аристофан? Неужели в таком случае мы еще больше отдалились бы от истины?
– Уступите реальности, – вот что сказал я ему, когда язык снова начал мне повиноваться. – Я говорю по собственному опыту: капитулируйте перед реальностью, Пипик. С ней не сравнится ничто другое на всем белом свете.
Наверно, над тем, что произошло после этого, мне следовало бы посмеяться еще заливистее; в качестве новообращенного адепта античной комедии мне следовало бы вскочить на ноги, громко вскричать: «Аллилуйя!» – и воспеть хвалу Тому, Кто сотворил нас, Тому, Кто слепил нас из грязи, Единственному и Неповторимому Комическому Вседержителю, НАШЕМУ ВЛАДЫКЕ-ИСКУПИТЕЛЮ, АРИСТОФАНУ, но, по самым нечестивым причинам (ввиду абсолютного паралича сознания), я мог лишь тупо созерцать потрясающую аристофаническую эрекцию, когда Пипик извлек из своей ширинки, словно фокусник – кролика, исполинский столб, ну чисто со страниц «Лисистраты», и, изумив меня еще пуще, принялся – круговыми движениями, прикрыв ладонью узловатую головку размером с голову куклы, словно бы переключая напольный рычаг передач в автомобиле довоенного выпуска, – устанавливать его в требуемую позицию. А затем рванулся вместе со столбом вперед, соскочив с кровати.
– Вот это – реальность. Словно каменный!
Пипик оказался до нелепости легким, словно его кости разъела болезнь, словно внутри ничего не осталось, словно он полый, как Мортимер Снерд[38]. Едва он бухнулся на пол, я схватил его за руку и, стукнув между лопаток и еще раз, посильнее, по крестцу, круговым движением выволок из двери (кто только ее открыл?) и вышвырнул в коридор, задницей вперед. В следующую долю секунды он и я, разделенные порогом, остолбенели, и каждый из нас всмотрелся в отражение уродливой ошибки, которым был для него другой. Затем дверь будто снова ожила, чтобы меня выручить, – она оказалась закрыта и заперта, но впоследствии я мог бы поклясться, что участвовал в ее закрывании так же мало, как в открывании.
– Мои ботинки!
Он благим матом требовал ботинки, и в этот самый момент зазвонил мой телефон. Итак – мы не одни, этот арабский отель в арабском Восточном Иерусалиме не опустел, изрыгнув наружу сына Демьянюка и адвокатов Демьянюка, власти еврейского государства не эвакуировали всех постояльцев из здания, не оцепили его ради того, чтобы борьба Рота с «Ротом» за господство могла беспрепятственно бушевать вплоть до катастрофического финала, – нет, кто-то из внешнего мира наконец-то жалуется на непомерную театрализованность этой извечной грезы.
Его ботинки валялись у кровати: ботинки из кордована с ремешком поперек стопы, ботинки от «Брукс бразерс», те самые, что я сам ношу со времен, когда впервые залюбовался ими в Бакнелле, увидев на щеголе из Принстона, читавшего лекции о Шекспире. Наклонившись за ними, я увидел: сзади, по дуге, каблуки сильно стоптались, совсем как на ботинках, в которые обут я. Я посмотрел на свои ботинки, на его ботинки, а потом открыл и закрыл дверь так проворно, что, пока я вышвыривал его «бруксы» в коридор, успел увидеть только пробор в его волосах. Пробор я заметил, когда он метнулся к двери, а когда она вновь оказалась на запоре, осознал, что волосы у него зачесаны в обратном направлении по отношению к моим. Пощупал свои волосы, проверяя. Он создал себя по образцу моей фотографии! В таком случае, сказал я себе, он со стопроцентной определенностью не я, а кто-то другой, – сказал и, полностью выжатый, рухнул, раскинув руки, на смятую постель, с которой только что восстали он и его эрекция. Этот человек – не я! Я нахожусь здесь, я – единое целое, я зачесываю свои волосы, остатки волос, направо. И все же, вопреки этому и другим, еще более красноречивым отличиям – например, разнице между нашими центральными нервными системами, – он спустится в таком виде по лестнице и выйдет из отеля, продефилирует в таком виде через холл, пройдет пешком в таком виде через весь Иерусалим, а когда полиция наконец-то догонит его и попробует задержать за непристойное обнажение в общественном месте, он скажет то, что говорит всем: «Я есть в книге. Филип Рот. Приходите, попытайтесь».
– Мои очки!
Очки я нашел рядом с собой на кровати. Разломил их надвое, разбил об стену. Пусть ослепнет!
– Они разбились! Катитесь!
Телефон все еще звонил, а я больше не смеялся, как подобает доброму аристофанианину, а трясся от безбожной, непросвещенной ярости.
Поднял трубку. Не стал подавать голос.
– Филип Рот?
– Его здесь нет.
– Филип Рот, где был Бог с тридцать девятого по сорок пятый год? Он был при Сотворении мира, я в этом уверен. Он был на горе Синай с Моисеем, в этом я тоже уверен. Я другого не могу понять – где Он был с тридцать девятого по сорок пятый? Это же халатное отношение к своим обязанностям, совершенно непростительное даже для Него, особенно для Него.
Хриплый, грубый, эмфиземический голос с сильным акцентом выходца из Старого Света; казалось, что тело, которое издает эти звуки, крайне ослаблено.
Тем временем в мою дверь кто-то принялся стучать: тихо, ритмично, костяшками пальцев. Та-та… Та-та-та… та-та. «Побрить… и постричь… пятак»[39]. Может ли Пипик говорить по телефону, если Пипик в тот же самый момент стучится в дверь? В скольких экземплярах он здесь присутствует?
– Кто это? – спросил я в трубку.
– Я плюю на этого Бога, который с тридцать девятого по сорок пятый был в отпуске!
Я повесил трубку.
Та-та… Та-та-та… та-та. «Побрить… и постричь… пятак».
Я ждал, ждал, но стук не прекращался.
– Кто это? – прошептал я наконец, но тихонько – сам сомневался, что буду услышан. Почти поверил, что у меня хватило ума не спрашивать.
Ответный шепот, казалось, просочился через замочную скважину, принесенный тонкой, как проволока, струей холодного воздуха:
– Хотите, я у вас отсосу?
– Проваливайте!
– Я отсосу у вас обоих.
* * *
Я смотрю сверху то ли на больничную палату, то ли на врачебный кабинет под открытым небом, на гигантском футбольном поле, которое напоминает мне «Школьный стадион» на Блумфилд-авеню в Ньюарке, где, когда я сам был школьником, ньюаркские школы, которые вечно соперничали между собой – итальянская и ирландская, еврейская и негритянская, – проводили сдвоенные футбольные матчи. Но это поле в десять раз больше нашего стадиона, а толпа собралась огромная, как на матче за кубок, десятки и десятки тысяч возбужденных болельщиков, которые тепло укутались и греются изнутри, заливая в свои темные недра кофе из термосов, над которыми курится пар. Повсюду реют белые флажки, толпа начинает ритмично скандировать: «Это „М“! Это „Е“! Это „Т“! Это „Е“!» – а внизу, на поле, резво снуют врачи в белых одеждах, храня клиническое безмолвие – в бинокль я могу прекрасно рассмотреть их серьезные, самоотверженные лица, а также лица тех, кто лежит, как каменные истуканы, под капельницами, пока душа перетекает в тело на соседней каталке. И вот что ужасает: у каждого, даже если это женщина или маленький ребенок, – лицо Ивана из Треблинки. Ликующие болельщики не могут видеть с трибун ничего, кроме воздушного шарика – огромного, тупого, приветливого лица, которое, разбухая, выползает из каждого тела, привязанного ремнями к каталке, но я-то в бинокль вижу, что на этом лице, проступающем постепенно, выражено в сконцентрированной форме все, за что только можно ненавидеть человечество. И все же толпа, наэлектризованная оптимизмом, исполнена надежд. «Отныне все будет по-другому! Отныне все будут хорошими! Все будут ходить в церковь, как мистер Демьянюк! Все будут возделывать сады, как мистер Демьянюк! Все будут усердно трудиться, а вечером приходить домой, где ждет прекрасная семья, как мистер Демьянюк!» Только у меня есть бинокль, только я – очевидец назревающей катастрофы. «Это же Иван!» Но меня никто не расслышит за криками «ура» и бурными восторгами. «Это „О“! Это „3“!» Я продолжаю выкрикивать, что это Иван, Иван из Треблинки, и тут меня без труда поднимают с кресла и, перекатив по мягким кисточкам белых шерстяных колпаков, которые надеты на всех болельщиках, переносят мое тело (уже завернутое в белый флаг с большой голубой буквой «М») через низкую кирпичную стену, на которой написано: «Барьер памяти. Всем, кроме игроков, вход воспрещен», и передают в руки двух поджидающих докторов, а те туго прикрепляют меня ремнями к моей личной каталке и вывозят на середину поля, оркестр же тем временем принимается наяривать быстрый марш. Когда игла капельницы вонзается в мое запястье, я слышу громкий рев, предваряющий масштабные матчи. «Кто играет?» – спрашиваю я у медсестры в белом форменном платье, которая мной занимается. Это Беда, Беда Поссесски. Погладив меня по руке, она шепчет: «Университет Метемпсихоза». Я кричу: «Я не хочу играть!» – но Беда, с успокаивающей улыбкой, говорит: «Вы должны играть – вы хавбек начального состава».
* * *
«ХАВБЕК» – звенел в моем ухе будильник, когда я закопошился, привстал на кровати, недоумевая, что это за черная, лишенная физических измерений комната, в которой я проснулся. Вначале я рассудил, что все еще прошлое лето и мне надо зажечь свет, чтобы найти на тумбочке пилюльницу. Чтобы дотянуть до утра, требуется еще полтаблетки хальциона. Но зажигать свет я остерегаюсь, потому что боюсь обнаружить отпечатки лап, обнаружить не только на простынях и наволочках, но и на стенах – снизу вверх, и на потолке – от края до края. Тут снова начинает звонить телефон.
– В чем настоящая жизнь человека? – Этот вопрос задает мне старый еврей с эмфиземой, с усталым голосом, с сильным акцентом.
– Сдаюсь. И в чем для человека настоящая жизнь?
– Такой жизни нет. Есть только тяга зажить настоящей жизнью. Все ненастоящее – это и есть настоящая жизнь человека.
– Ну хорошо, у меня для вас тоже есть задачка. Скажите мне, в чем был смысл сегодняшнего дня.
– В ошибке. Ошибка ошибкой погоняет. Ошибка, укрывательство преступника, фальшь, фантазии, невежество, фальсификация и проделки, естественно, безудержные проделки. Обычный день из жизни любого человека.
– Где же эта ошибка? – «В своей постели», – думаю я и, продолжая видеть сон, оказываюсь в постели кого-то, только что умершего от чрезвычайно заразной болезни, а затем умираю сам. В наказание за то, что я заперся с ним в этой комнатке, высмеивал и отчитывал его, находясь на расстоянии вытянутой руки, сказал этому псевдосуществу, этому лишенному собственного «эго» мегаломану, что для меня он – всего лишь Мойше Пипик, не понял, что он – не шутка, – за все это Мойше Пипик убивает меня, и вот я, совершенно обескровленный, испускаю дух – но тут катапульта извергает меня, точно летчика из горящей кабины, наружу, и оказывается, что я впервые за последние двадцать пять лет кончил во сне.
Окончательно проснувшись, я наконец-то поднялся с кровати и в темноте прошел к арочному окну, у которого стоял письменный стол: проверю, удастся ли заметить, как он снизу, с улицы, ведет слежку за моим номером; а увидел я (не на узкой улочке, примыкающей к отелю с моей стороны, а двумя улицами дальше) вереницу автобусов, освещенных уличными фонарями, и несколько сотен солдат – каждый с автоматом через плечо, – ожидавших посадки. Я даже не расслышал топота ботинок по мостовой – так был легок шаг солдат, когда они, получив сигнал, гуськом направились к автобусам. С дальней стороны улицы, от края до края, тянулась высокая стена, а на ближней стороне целый квартал занимало каменное сооружение в форме буквы «L» с ржавой железной крышей, то ли гараж, то ли склад, которое превращало улицу в укромный тупик. Автобусов было шесть, и я стоял и смотрел, пока последний солдат с автоматом не влез в автобус и они не укатили, скорее всего, на Западный берег, свежие войска для подавления бунтов, вооруженные евреи – это из-за них, как уверяет Пипик, неизбежен второй Холокост, это их, как уверяет Пипик, он может сделать совершенно ненужными при благотворном посредничестве ААС…
И в этот миг – в два часа ночи с небольшим – я решил покинуть Иерусалим. Если безотлагательно засесть за работу, я успею придумать еще три-четыре вопроса для завершения интервью. Аарон живет западнее Иерусалима, в поселке-новостройке в двадцати минутах езды, почти по дороге в аэропорт. На рассвете я попрошу таксиста ненадолго остановиться, отдам Аарону эти последние вопросы, а затем – в аэропорт и – в Лондон.
Почему ты не мог попросту притвориться, что согласен стать его партнером? Насмешки – вот в чем была твоя ошибка. Ты дорого заплатишь за то, что разбил его очки.
К двум часам ночи я так измучился от невиданной неразберихи прошедшего дня, настолько разучился определять достоверность чего-либо среди этого тарарама, что мне показалось, будто эти две фразы, тихо сказанные мной самим, когда я начал готовиться к назначенному на раннее утро отъезду, произнес из-за двери Пипик. «Помешанный вернулся! Он вооружен!» И столь же потрясло меня – и, по-своему, еще больше напугало – открытие, сделанное в следующую же секунду, когда я уразумел, что слышал собственный голос и перепутал с его голосом, что я всего лишь разговаривал сам с собой, как любой одинокий путешественник, которому не спится вдали от дома поздней ночью в незнакомом отеле.
Внезапно я впал в жуткое состояние. Все, что я с такими усилиями вновь пытался обрести после срыва, случившегося прошлым летом, незамедлительно зашаталось под натиском всепобеждающего ужаса. Сразу же подступил страх, что мои силы вот-вот иссякнут, я не смогу держать себя в руках и меня затянет в новый кошмар распада личности, если только, собрав в кулак остатки воли, я не остановлю это саморазрушение.
Что я сделал, так это придвинул к двери комод – не столько потому, что думал, будто Пипик вернется и дерзнет открыть номер ключом, оставшимся в его кармане, сколько опасаясь, что я сам, по доброй воле, открою дверь, чтобы впустить его и выслушать какое-то последнее предложение дружеского союза. Опасаясь за спину – позвоночник у меня не в порядке, – я медленно сдвинул комод с прежнего места напротив кровати и, предварительно завернув восточный ковер, занимавший середину комнаты, стараясь не шуметь, стал толкать его по кафелю, пока не заблокировал им дверь. Теперь я уже никак не смогу его впустить, какими бы занимательными, пугающими или трогательными ни оказались его просьбы снова войти. Загородить дверь – вторая по эффективности предосторожность от собственного идиотизма, до которой я додумался; самой эффективной было бы бегство – отдалиться на тысячу миль от него и от моей уже доказанной неспособности в одиночку совладать с гипнотическим сумасбродством этой провокации. Но покамест, подумал я, надо отсидеться, забаррикадировавшись в номере. Пока не рассветет, пока отель не очнется от небытия, пока я не смогу покинуть номер в сопровождении коридорного и отбыть на такси, которое подъедет прямо к входу, я буду отсиживаться прямо здесь.
Следующие два часа я провел за письменным столом у окна, отлично сознавая, как хорошо меня видно всякому, кто затаился внизу, на улице. Я не потрудился задернуть шторы: кусок материи не защитит от меткого ружейного выстрела. Я мог бы отодвинуть стол от окна и переместить его к ближайшей стене, но тут мой рассудок заупрямился и просто отказался разрешать мне новые перестановки мебели. Я мог бы дописать вопросы для Аарона, присев на кровать, но вместо этого, стараясь сохранить остатки душевного равновесия, предпочел сесть так, как сижу всю жизнь: на стуле, за столом, под лампой, придавая реальность своему необычайному существованию самым надежным способом, который знаю, – нанизывая цепочки слов, чтобы на время усмирить буйную тиранию своей разбросанности.
В книге «В края рогоза» [написал я], еврейка и ее взрослый сын, отпрыск отца-нееврея, возвращаются в захолустное село в Рутении. Это происходит летом 1938 года. Чем ближе ее родной дом, тем острее опасность насильственных действий со стороны неевреев. Мать говорит сыну: «Их много, а нас мало». Затем вы пишете: «Из каких-то глубин ее сознания всплыло слово „гой“. Она улыбнулась, словно прислушавшись к давнему воспоминанию. Ее отец иногда – правда, лишь от случая к случаю – называл этим словом неисправимое тупоумие».
Неевреи, с которыми делят свой мир евреи в твоих книгах, – это обычно воплощение неисправимого тупоумия и опасного, примитивного поведения в обществе: гой как пьяница, как муж, избивающий жену, как грубый, жестокий полудикарь, который «сам себя не контролирует». Хотя, очевидно, о нееврейском мире в тех местностях, где происходит действие твоих книг, можно было бы сказать больше – как и о том, что евреи в своем собственном мире тоже могут быть тупыми и примитивными, однако даже европеец-нееврей был бы вынужден признать, что сила этого образа в еврейском воображении укоренена в реальном жизненном опыте. В иных случаях гой изображается как «дитя природы… здоровое, как бык». Завидное здоровье. Так в книге «В края рогоза» мать говорит о своем сыне – наполовину нееврее: «Он не такой нервный, как я. Другая, тихая кровь течет в его жилах».
Я бы сказал, что о еврейском воображении ничего не узнаешь, не исследовав место гоя в народной мифологии, которую в Америке эксплуатировали еврейские комики типа Ленни Брюса и Джеки Мейсона, а также, на совершенно ином уровне – еврейские прозаики. Самый откровенный портрет гоя содержится в «Помощнике» Бернарда Маламуда. Гой – это Фрэнк Элпайн, обнищавший вор, который совершает кражу в прогорающей бакалейной лавке еврея Бобера, позднее пытается изнасиловать трудолюбивую дочь Бобера, а в итоге, перейдя в боберовский извод мученического иудаизма, символически отрекается от своей гойской дикости. Герою второго романа Сола Беллоу «Жертва», нью-йоркскому еврею, досаждает неприкаянный нееврей, алкоголик Олби, такой же бродяга, такой же никчемный тип, как Элпайн, хотя его атаки на самообладание Левенталя, выкованное тяжкими усилиями, более изощренны в интеллектуальном плане. Но самый грандиозный нееврей в творчестве Беллоу – Хендерсон: «король дождя» в поисках себя, персонаж с притупленными инстинктами, который ради восстановления психического здоровья отправляется в Африку. Для Беллоу не меньше, чем для Аппельфельда, еврей – ни в коей мере не «истое дитя природы», да и стремление возродить в себе дикарскую энергию не изображается как поиски, свойственные еврею. Для Беллоу не меньше, чем для Аппельфельда, и – удивительное дело – для Мейлера не меньше, чем для Аппельфельда; нам всем известно, что у Мейлера если уж кто-то – сексуальный агрессор-садист, его зовут Серджиус О’Шонесси, если он прикончил собственную жену, его зовут Стивен Роджек, а если он – отпетый головорез, то он не Лепке Бухальтер или Гурра Шапиро, а Гэри Гилмор[40].
В этот момент, все же поддавшись нервозности, я выключил настольную лампу и остался сидеть в темноте. И вскоре мне стала видна улица внизу. И там действительно кто-то был! Фигура, мужская фигура, бежала по тускло освещенному тротуару, в восьми метрах от моего окна, никак не дальше. Бежал он, пригнувшись, но я его все равно узнал.
Я встал из-за стола.
– Пипик! – закричал я, распахивая окно настежь. – Эй ты, Мойше Пипик! Эй ты, сукин сын!
Он обернулся, посмотрел на открытое окно, и я увидел, что в обеих руках он держит большие камни. Он вскинул руки с камнями и крикнул мне что-то в ответ. Он был в маске. Кричал он по-арабски. Потом он побежал дальше. Затем мимо пробежала вторая фигура, и третья, и четвертая: все с камнями в обеих руках, у всех лица скрыты лыжными масками. Арсеналом им служила пирамидальная груда камней, наваленная, казалось, в качестве мемориала, на улочке напротив отеля. Четверка бегала туда-сюда с камнями, пока груда не исчезла. Улица снова опустела, а я закрыл окно и вернулся к работе.
В «Бессмертном Барфуссе» – твоем романе, недавно переведенном на английский, Барфусс непочтительно спрашивает у бывшего мужа своей умирающей любовницы: «Что сделали мы, уцелевшие в Холокосте? Изменил ли нас вообще наш экстраординарный опыт?» Твой роман так или иначе пытается разрешить этот вопрос практически на каждой странице. В одинокой тоске и горечи Барфусса, в его недоуменных попытках превозмочь свою отрешенность, в его жажде общения с людьми, в его безмолвных странствиях по израильскому побережью и загадочных встречах в грязных забегаловках мы чувствуем, что после большой катастрофы жизнь может превратиться в агонию. Ты пишешь об уцелевших евреях, которые в первые послевоенные годы занимаются в Италии контрабандой и торговлей на черном рынке: «Никто не знал, как распорядиться спасенными жизнями».
Мой последний вопрос, навеянный тем, что тебя в первую очередь занимает в «Бессмертном Барфуссе», может показаться чересчур всеобъемлющим, но, прошу тебя, подумай над ним и дай ответ в той форме, которую сам предпочтешь. Из того, что ты бездомным подростком наблюдал в своих послевоенных скитаниях по Европе, из того, что ты узнал за четыре десятилетия в Израиле, выделяешь ли ты какие-то характерные закономерности в опыте тех, кто сохранил жизнь? Что же сделали пережившие Холокост и в каком отношении они неизбежно изменились?