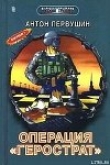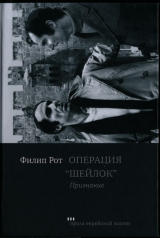
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Я убаюкал своего сыночка, моя история послужила для него наркозом. И остался сидеть в кресле у окна, мечтая, чтобы она свела его в могилу. Когда я был моложе, старейшины еврейских общин ругали меня за то, что мои рассказы опасны для жизни евреев, – ох, как бы мне хотелось уметь это взаправду! Сражать словом, как пулей!
Я рассмотрел его хорошенько – долго, жадно всматривался, как мне это не вполне удавалось, пока он отвечал взглядом на взгляд. Бедняга. Сходство и впрямь необычайное. Он заснул в такой позе, что у него задрались штанины, и я заметил, что даже голени у него мои – длинные и тонкие (или это у меня – его голени). Тихо текли минуты. Получилось. Я его измотал. Довел до отключки. Первый момент безмятежности за весь день. Так вот как я выгляжу, подумал я, когда сплю. Я и не догадывался, что на кровати кажусь таким дылдой – или просто эта кровать мне коротковата? В любом случае, именно эту картину видят женщины, проснувшись, чтобы поразмыслить, насколько умно поступили, занимаясь тем-то и тем-то с таким-то и таким-то. И именно так бы я выглядел, если бы сегодня ночью умер в этой постели. Это мой труп. Я сижу тут живой вопреки тому, что я мертв. Сижу тут после своей смерти. А может, до своего рождения. Сижу здесь и в действительности, совсем как Мойше Пипик Бабы Гичи, вообще не существую. Полчаса как ушел. Сижу здесь шиву[33] по самому себе.
Такая странная ситуация даже мне никогда не пришла бы в голову.
Но нет, все не так. Это просто-напросто другой человек, воплотившийся в похожем внешнем облике, материальный аналог того, что в поэзии было бы приблизительной рифмой. Вот и все откровения.
Я поднял трубку телефона, стоявшего рядом на тумбочке, и тихонько попросил телефонистку соединить меня с отелем «Царь Давид».
– Филипа Рота, пожалуйста, – сказал я, когда ответила телефонистка в «Царе Давиде».
В их номере к телефону подошла Беда.
Я шепотом произнес ее имя.
– Милый! Где ты? Я с ума схожу!
Я слабо ответил:
– Все еще здесь.
– Где?
– В его номере.
– Господи! Ты так и не нашел это?
– Нигде нет.
– Значит, ничего не поделать – уходи оттуда!
– Я жду его.
– Не надо! Уходи!
– Мой миллион, черт возьми!
– У тебя ужасный голос, по-моему, тебе хуже. Ты снова перебрал. Тебе нельзя столько принимать.
– Я принял сколько требуется.
– Но это слишком много. Тебе плохо? Очень плохо?
– Я отдыхаю.
– Голос у тебя ужасный! Тебе больно! Вернись сюда! Филип, вернись! Он все вывернет наизнанку! Получится, что это ты его обворуешь, а не наоборот! Он подлый, беспринципный эгоист, он скажет все что угодно, лишь бы взять верх!
Неплохой повод похихикать.
– Он-то? Неужто мне его бояться!
– Но я его боюсь! Приезжай!
– Его? Да он сам обделался, так меня боится. Думает, все это сон. Я ему покажу, какой это сон. Он и сообразить не успеет, что с ним стряслось, как я сделаю яичницу из его задрипанных мозгов.
– Милый, это самоубийство.
– Я тебя люблю, Беда.
– Правда? Я для тебя еще что-то значу?
– Ты сейчас в чем? – прошептал я, не спуская глаз с кровати.
– Что?
– Что на тебе надето?
– Только джинсы. И лифчик.
– Джинсы.
– Не сейчас.
– Джинсы.
– Это у тебя блажь. Если он вернется…
– Джинсы.
– Да. Да.
– Сняла?
– Снимаю.
– До лодыжек. Спусти их до лодыжек.
– Спустила.
– Трусы.
– Ты тоже давай.
– Да, – сказал я, – о да.
– Да? Вытащил?
– Я на его кровати.
– Сумасшедший.
– На его кровати. Вытащил. О-о какой.
– Большой?
– Большой.
– Очень большой?
– Очень большой.
– Соски у меня твердые, как камень. Сиськи набухают. О, милый, они так набухли…
– Все. Скажи все слова.
– Я твоя манда и только твоя, больше ничья…
– Навсегда?
– Больше ничья.
– Все слова.
– Твой твердый член – мой кумир.
– Все слова.
– Мои губы обхватывают твой твердый-твердый член…
Пипик на кровати приоткрыл глаза, и тогда я повесил трубку.
– Полегчало? – спросил я.
Он посмотрел на меня, словно больной в глубокой коме, словно бы ничего не видя перед собой, и снова закрыл глаза.
– Перебрал лекарств, – сказал я.
Я решил не перезванивать Беде, не доводить до развязки. Определенное представление я уже составил.
Когда он снова пришел в себя, его лоб и щеки покрылись испариной, как маской.
– Вызвать вам врача? – спросил я. – Хотите, я позвоню мисс Поссесски?
– Я одного хочу, чтобы вы… чтобы вы… – но слезы не дали ему договорить.
– Чего же вы хотите?
– То, что вы украли.
– Послушайте, вы нездоровы. У вас сильные боли, верно? Вы принимаете обезболивающие, от которых у вас мутится в голове. Пьете лекарства лошадиными дозами, и в этом вся штука, верно? Я знаю по опыту, каково это. Знаю, до каких выходок могут довести лекарства. Послушайте, я не очень-то хочу сажать в тюрьму человека, который сидит на демероле. Но если это единственный способ заставить вас от меня отвязаться, мне наплевать на то, как тяжело вы больны, какие сильные у вас боли, насколько вы дуреете от лекарств: поставлю себе задачу и добьюсь. Если у меня не будет другого выхода, я поступлю с вами беспощадно. Но разве другого выхода нет? Сколько денег вам нужно, чтобы смыться отсюда, уехать с мисс Поссесски куда-нибудь и попытаться обрести мир и спокойствие? Потому что вот это, другое, – дурацкий фарс, оно ничего не значит, оно ничего не даст, вы обречены на неудачу. Скорее всего, для вас обоих это кончится дурацкой катастрофой, которую вы сами на себя накличете. Я готов оплатить вам дорогу в любое место, куда вы пожелаете уехать. Два авиабилета в оба конца первым классом, куда только душа пожелает – ваша душа и ее душа. И на расходы подкину немножко, чтоб вы не бедствовали, пока не наладите свою жизнь. Разумно, а? Я не подаю на вас в суд. Вы уезжаете. Пожалуйста, давайте договоримся об отступных и покончим с этим делом.
– Как все просто, – теперь он выглядел не таким осоловевшим, как в тот миг, когда очнулся впервые, но над верхней губой по-прежнему блестели капельки пота, а лицо было совершенно белое. – Мойше Пипик получает отступные. Чемпион НБА снова побеждает.
– А что, позвать еврейскую полицию – более гуманный выход? В такой замысловатой ситуации отступные – не всегда унизительный вариант. Я вам дам десять тысяч долларов. Большие деньги. У меня тут есть издатель, – что ж я до сих пор не додумался ему позвонить?! – и я договорюсь, чтобы завтра в полдень вам выдали на руки десять тысяч долларов наличными…
– «При условии, что вы еще засветло покинете Иерусалим».
– Да, завтра к вечеру, не позже.
– Я получаю десять, а вы – остаток.
– Нет никакого остатка. Нет и точка.
– Нет остатка? – хихикнул он. – Нет остатка? – И сразу же сел на кровати, выпрямился, и, казалось, совершенно воскрес. То ли лекарства внезапно испарились из его организма, то ли внезапно подействовали, но Пипик снова стал самим собой (кем бы он ни был). – Вы же в «Ченселлор» проходили арифметику, мисс Духин вас учила, а теперь говорите мне, будто нет остатка, когда… – и тут он начал жестикулировать, словно еврейский комик, обе руки влево, обе руки вправо, показывая, что первое несопоставимо со вторым, а второе с первым, – когда вычитаемое – десять тысяч, а уменьшаемое – один миллион? – В «Ченселлор» у вас всегда были четверки по арифметике. Вычитание – одна из четырех основных арифметических операций. Позвольте мне освежить вашу память. Это противоположность сложения. Результат вычитания одного числа из другого называется «разность». Символ этой операции – наш друг, знак «минус». Хоть что-то вспомнилось? Как и сложение, вычитание распространяется только на предметы одной категории. Например, доллары из долларов вычитаются распрекрасно. Доллары из долларов, Фил, вот для чего создано вычитание.
Что ж он за человек? На пятьдесят один процент умник или на пятьдесят один процент дурак? На пятьдесят один процент псих или на пятьдесят один процент здоровый? На пятьдесят один процент опрометчивый или на пятьдесят один процент ловкач? В любом случае, эти свойства распределялись в почти равных пропорциях.
– Мисс Духин. Должен признаться, – сказал я, – я совсем забыл мисс Духин.
– В постановке на День Колумба вы играли у Ханы Духин Колумба. В четвертом классе. Она вас обожала. Лучший Колумб в ее жизни. Они все вас обожали. Ваша мама, ваша тетя Мим, ваша тетя Хани, ваша бабушка Финкель – когда вы были младенцем, они стояли вокруг вашей кроватки, и, когда мама меняла вам подгузник, они по очереди целовали вам тухес[34]. С тех пор женщины выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать вам тухес.
Что ж, теперь засмеялись мы оба.
– Что вы за человек, Пипик? Какую игру ведете? В вас есть что-то от забавника, верно? Очевидно, вы не рядовой тупица, у вас потрясающая спутница – она само жизнелюбие, вам не занимать ни смелости, ни нахальства, и даже мозги работают неплохо. Я говорю это скрепя сердце, но то, как страстно и умно вы критикуете Израиль, означает, что вы не просто какой-то шизик. Неужели это просто злая комедия об убеждениях? Аргументы в пользу диаспоризма – не всегда такая пародия, какой они кажутся в ваших устах. В них есть некая безумная достоверность. Есть довольно большое зерно истины – осознается и признается европоцентричность иудаизма, того самого иудаизма, из которого возник сионизм, и так далее. И все же, к сожалению, мне кажется, что это голос наивного юноши, который принимает желаемое за действительное. Скажите мне, пожалуйста, зачем вам все это на самом деле? Кража личности? Самая глупая афера, какая только может быть. Вас непременно уличат. Кто вы? Скажите мне, чем вы зарабатываете на жизнь, когда не занимаетесь вот этим. Насколько мне известно – если я ошибаюсь, поправьте меня, – вы никогда не пользовались моей картой «Америкэн Экспресс». Так чем же вы живете? Одной своей смекалкой?
– А вы угадайте. – О, теперь он прекрасно соображал и сиял, практически кокетничал. «Угадайте». Только не говорите мне, что он бисексуал! Только не говорите мне, что повторится сценка с тем типом из коридора! Не говорите, что он хочет со мной перепихнуться: Филип Рот трахает Филипа Рота! Боюсь, эта форма мастурбации даже для меня чересчур диковинна.
– Не могу угадать. Вы для меня – чистый лист, – сказал я. – И мне даже кажется, что, когда меня нет рядом, вы чистый лист для самого себя. Капелька изысканности, капелька ума, капелька уверенности в себе, может быть, даже капелька обаяния – такие, как Ванда-Беда, встречаются не на каждом шагу; но в основном – человек, который так и не смог четко уяснить, ради чего живет, в основном – человек непоследовательный, разочарованный, нечто очень размытое, аморфное, раздробленное. Пустое место с фантастическими очертаниями. Что вас окрыляет, когда меня рядом нет? Разве подо «мной» не прячется хоть крупица «вас»? Какая у вас жизненная цель, кроме попыток убедить окружающих в том, что вы – кто-то другой?
– А у вас какая жизненная цель, кроме этой?
– Ладно, я принимаю ваш аргумент, но вопрос, который я задал вам, имеет более широкое значение. Так ведь? Пипик, что вы делаете ради реальной жизни?
– Я блюститель порядка с лицензией, – сказал он. – Ну как, впечатляет? Я частный детектив. Смотрите.
Его удостоверение. Фото могло бы оказаться моим, но не самым удачным. Лицензия номер 7794. Истекает 01.06.90. «…Частный детектив, действующий по законной лицензии… наделенный всеми полномочиями, которые предоставляют ему органы власти в соответствии с законом». И его подпись. Моя подпись.
– У меня свое агентство в Чикаго, – сказал он. – Трое ребят и я. Вот и все. Агентство маленькое. Мы предлагаем те же услуги, что и почти все остальные – расследуем кражи, преступления белых воротничков и синих воротничков, поиск пропавших, слежка за супругами. Проводим проверки на детекторе лжи. Наркотики. Убийцами тоже занимаемся. Я беру себе все дела пропавших без вести. Пропавшие без вести – вот чем известен Филип Рот на всем Среднем Западе. Я добирался до Мексики и до Аляски. За двадцать один год нашел всех, кого мне только поручали найти. Всеми убийствами тоже занимаюсь я.
Я вернул ему лицензию, увидел, как он снова кладет ее в бумажник. Может, у него там лежит еще сотня подложных удостоверений, и все – на это имя? Я подумал, что сейчас об этом спрашивать неблагоразумно – его слова про «все убийства» застали меня врасплох.
– Любите опасные задания, – сказал я.
– Я должен решать сложные задачки двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Мне нравится жить на линии огня, всегда быть начеку – чтобы уровень адреналина не снижался. Все остальное кажется мне скучным.
– Что ж, я потрясен.
– Вижу.
– Я догадался, что вы – адреналиновый торчок, но никогда бы не сообразил, что вас следует называть блюстителем – вот именно, блюстителем – порядка.
– Разве еврей не может быть частным детективом?
– Может.
– Разве у детектива не может быть такого лица, как у меня? Или как у вас?
– Может, дело не в этом.
– Вы просто думаете, что я вру. Уютненький мирок вы себе создали: вы – Филип-правдолюб, а я – Филип-лгун, вы честный Филип, а я бесчестный Филип, вы Филип в здравом уме, а я – маньяк-психопат.
– Мне нравится деталь о пропавших без вести. Нравится, что это ваш профиль. Очень остроумная деталь в данных обстоятельствах. А что привело вас к профессии детектива? Расскажите, раз уж речь зашла об этом.
– Я всегда был из тех, кто хочет помогать другим. С самого детства не мог мириться с несправедливостью. Впадал в бешеный гнев. И до сих пор впадаю. Несправедливость – мой пунктик. Наверно, дело в том, что я рос в еврейской семье в годы войны. В те времена Америка не всегда была справедлива к евреям. В школе меня избивали. Совсем как Джонатана Полларда. Я запросто мог пойти тем же путем, что и Поллард. Начать действовать из любви к евреям. Поллардовские фантазии у меня были: добровольно служить Израилю, поработать на «Моссад». В моей стране служить в ФБР, в ЦРУ – и там, и там мне отказали. Так и не выяснил почему. Иногда меня посещает мысль: может быть, это из-за вас – решили, что у них будет слишком много маеты, если они возьмут на работу точный дубликат человека, находящегося в центре общественного внимания. Но подлинных причин я никогда не узнаю. В детстве я рисовал сам для себя комиксы. «Еврей в ФБР». Поллард – важнейшая фигура в моей жизни. Дело Полларда стало для меня тем же, чем дело Дрейфуса было для Герцля. От знакомых частных детективов я слышал, что в ФБР Полларда подключили к детектору лжи, дали ему списки видных американских евреев и велели указать других шпионов. Он отказался. В Полларде мне ненавистно все, кроме этого момента. Я живу в страхе, что появится второй Поллард. Живу в страхе перед тем, что это будет значить.
– Итак, из всего этого мне надлежит заключить, что вы стали детективом, чтобы помогать евреям?
– Слушайте, вы мне говорите, что ничего про меня не знаете и вы в невыгодном положении, потому что я столько знаю про вас. А я вам объясняю: моя профессия предполагает, что я должен знать столько, сколько знаю, и не только про вас, но и про любого другого. Вы просите, чтобы я уравнял наши шансы. Это я и пытаюсь сделать. Но натыкаюсь на стену недоверия. Хотите, чтобы я подключился к детектору лжи? Я бы прошел проверку с блеском. Ну хорошо, я не вел себя с вами спокойно и собранно. Я и сам этому подивился. Потом написал вам, принес извинения. Кто бы ты ни был, некоторые люди сотрясают тебя, как удар молнии. Должен сказать, до вас такой молнией для меня был только один человек. Профессия меня закалила: меня ничем не проймешь, я видел все, я должен справляться с чем угодно. И только один раз такое случилось раньше, меня сотрясла молния, – в тысяча девятьсот шестьдесят третьем, моя встреча с президентом. Тогда я подрабатывал телохранителем. Обычно меня нанимали частные компании, но в тот момент я работал на городскую администрацию. Это было в мэрии. Когда он пожал мне руку, я потерял дар речи. Забыл все слова. Так случается очень редко. Слова – важная часть моего бизнеса, я обязан им девяноста процентами своего успеха. Словам и мозгам. Наверно, так вышло, потому что тогда я погрузился в сексуальные фантазии, воображая его жену на водных лыжах, – вот во мне и проснулась совесть. А знаете, что сказал мне президент? Он сказал: «Я знаком с вашим другом Стайроном. Вы должны приехать в Вашингтон и как-нибудь поужинать с нами и Стайронами». А потом он сказал: «Я в восторге от вашего „Наплевательства“». Это было в августе шестьдесят третьего. Через три месяца его застрелили.
– Кеннеди принял вас за меня. Президент США подумал, что телохранитель из мэрии пишет прозу на досуге.
– Он же пожимал миллион рук в день. Он принял меня за такого же почетного гостя. Обмануться было несложно: мое имя, моя внешность, и вдобавок телохранителей все вечно принимают за кого-то другого. Это часть профессиональных обязанностей. Кто-то желает, чтобы его охраняли. Допустим, кто-то вроде вас, чувствующий, что над ним нависла опасность. И ты ездишь вместе с ним в машине. Притворяешься его приятелем или вроде того. Конечно, некоторые говорят, что им нужно, чтобы сразу было заметно: ты – телохранитель, и тогда ты вживаешься в эту роль. Хороший темный костюм, солнечные очки, ходишь с пистолетом. Наряд головореза. Такое у них желание, а ты делаешь то, что от тебя требуется. Им хочется, чтобы все было ясно сразу – им нравится шик и блеск, который в этом есть. Был у меня один клиент, с которым я все время работал в Чикаго, крупный подрядчик и застройщик, денег – хоть отбавляй, людей, которые имели на него зуб, – тоже, а он обожал все делать напоказ. Я ездил с ним в Вегас. Сопровождал его, его лимузин, его друзей – они всегда старались жить с размахом. Я должен был присматривать за женщинами, когда они отлучались в туалет. Я должен был заходить вместе с ними в туалет так, чтобы они ничего не заметили.
– Это трудно проделать?
– Мне было двадцать семь, двадцать восемь, – я справлялся. С тех пор все переменилось, но тогда я был единственным евреем-телохранителем на всем Среднем Западе. Я был пионером в этом смысле. Все остальные еврейские мальчики учились на юристов. По воле своих родителей. Разве ваш старик не хотел, чтобы вы пошли в юристы вместо того, чтобы двинуть в Чикаго и пойти в учителя английской литературы?
– Кто вам это сказал?
– Клайв Каммис, друг вашего брата. Он теперь видный адвокат в Нью-Джерси. Когда вы вздумали стать аспирантом и изучать литературу, ваш отец попросил Клайва отвести вас в сторонку и упросить пойти в юристы.
– Я лично не помню, чтобы такое было.
– Было. На Лесли-стрит Клайв позвал вас для разговора в свою комнату. Сказал вам, что преподаванием литературы на жизнь не заработаешь. Но вы ему сказали, что ничего и слушать не хотите – забудем, мол, эту тему.
– Что ж, этот случай я как-то запамятовал.
– Клайв его помнит.
– Вы и с Клайвом Каммисом видитесь?
– Мне подгоняют клиентов юристы по всей стране. Есть масса юридических фирм, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Мы их эксклюзивные агенты. Они подбрасывают нам все дела, когда требуется детектив в Чикаго. У меня прекрасные рабочие связи с двумя сотнями полицейских управлений, в основном в Иллинойсе, Висконсине и Индиане. Мы в прекрасных отношениях с окружной полицией, статистика арестов в округах блестящая. Я им много кого сдал.
Должен признаться, я начинал ему верить.
– Послушайте, меня вообще никогда не тянуло в еврейские профессии, – сказал он. – Мне всегда казалось, что это наша величайшая ошибка. Юридическая школа была бы для меня всего лишь очередным гетто. И то, чем занялись вы, – тоже: писательство, книги, университеты, все это презрение к миру вещей. На мой вкус, книги – нечто чересчур еврейское, просто еще один способ спрятаться от страха перед гойим. Вот видите, у меня даже тогда возникали диаспористские мысли. Топорные, неоформленные, но инстинкт проснулся во мне с самого начала. Здешние называют это «ассимиляцией» ради вящей унизительности, – а я называл это жизнью настоящего мужчины. Я пошел служить в армию, чтобы попасть в Корею. Очень хотел воевать с коммунистами. Но меня туда так и не направили. Сделали из меня военного полицейского в Форт-Беннинге. Там, в спортзале, я выстроил свое тело. Научился регулировать дорожное движение. Стал спецом по пистолетам. Влюбился в оружие. Изучал боевые искусства. Вы ушли из УКОЗа, потому что в Бакнелле[35] вы были противником военного истеблишмента, а я, черт возьми, стал лучшим военным полицейским, какого только видели в Джорджии. Я им показал, этому долбаному южному быдлу. Не бойся, сказал я себе, не бегай от них – просто играй в их игру лучше них, будь они прокляты. И таким методом я развил в себе исполинское чувство собственного достоинства.
– И куда оно подевалось? – спросил я.
– Пожалуйста, не надо лишних оскорблений. Я не имею при себе оружия, мое тело подточено опухолью, лекарства… вы правы, они плохо действуют на мозги, уродуют характер, а вдобавок вы внушаете мне благоговение – это правда и всегда будет правдой. Так есть и должно быть. Я знаю свое место – знаю, где я, а где вы. Я готов терпеть, когда вы обливаете меня дерьмом, хотя такого никогда никому не спускал. Когда я имею дело с вами, меня оставляют силы. Но я, уж так вышло, понимаю ваше тяжелое положение лучше, чем вы готовы признать. Фил, вас тоже сотряс удар молнии, а для классического еврейского параноика это не самая простая ситуация. Вот что я пытаюсь сейчас нейтрализовать – вашу параноидальную реакцию. Вот зачем я вам объясняю, кто я такой и откуда взялся. Я не пришелец из космоса. Я не бред шизофреника. И как бы вас ни веселила эта мысль, я не Мойше Пипик Бабы Гичи. Ничего подобного. Я – Филип Рот. Я частный детектив-еврей из Чикаго, который заболел раком и обречен умереть от этой болезни, но не раньше, чем внесет свой вклад в великое дело. Я не стыжусь того, что до недавнего времени делал для людей. Не стыжусь, что был телохранителем у тех, кому требовался телохранитель. Телохранитель – это кусок мяса, но я никогда ни на кого не работал вполсилы. Много лет я занимался слежкой за супругами. Я знаю, что в нашем бизнесе это комическая разрядка – застигнуть кого-то со спущенными штанами, я знаю, это не то же самое, что быть писателем, который получает премии за свое мастерство, – но я был другим Филипом Ротом. Я был тем Филипом Ротом, который подходил к портье в «Палмер-Хаузе» и показывал ему свой значок или под каким-то другим предлогом старался заглянуть в регистрационную книгу, чтобы проверить, заселились ли они сюда, в каком они номере. Я тот Филип Рот, который, чтобы попасть наверх, говорил: «Я курьер из цветочного магазина и должен сделать все лично, потому что клиент дал мне сто долларов, чтобы я вручил букет адресату». Я тот Филип Рот, который находил горничную и врал напропалую: «Я забыл ключ, это мой номер, хотите – проверьте внизу, вам скажут, что номер мой». Я – тот Филип Рот, который всегда мог раздобыть ключ, который всегда мог пробиться в номер – всегда.
– Совсем как здесь, – заметил я, но это его не остановило.
– Я тот Филип Рот, который врывается в номер со своей «минолтой» и делает фотки быстрее, чем кто-то успеет сообразить, что происходит. За это не полагается премий, но я никогда не стыдился, тратил на это год за годом, а когда наконец-то накопил денег, открыл собственное агентство. Остальное уже известно. Люди пропадают, а Филип Рот их находит. Я тот Филип Рот, который постоянно имеет дело с отчаявшимися людьми, и не просто в какой-то там книжке. Преступление – это отчаяние. Человек, который заявил о пропавшем, в отчаянии, и человек, который пустился в бега, в отчаянии, и потому вся моя жизнь – отчаяние, днем и ночью. Дети сбегают из дома, и я их нахожу. Они сбегают, и их завлекают в мир подонков. Им нужно где-то жить, и кто-то извлекает из этого выгоду. Мое последнее дело, перед тем как я заболел раком, – дело пятнадцатилетней девочки из Хайленд-Парка. Ко мне пришла ее мать, в ужасном состоянии, рыдала и голосила. Донна в сентябре первые два дня посещала занятия в школе, а потом исчезла. Она сошлась с опасным уголовником-рецидивистом, объявленным в розыск, сущим мерзавцем. Доминиканцем. Я нашел многоквартирный дом в Калумет-Сити, где жила его бабушка, и стал наблюдать. Других зацепок у меня не было. Я дежурил там несколько дней. Один раз просидел бессменно больше двадцати шести часов. И ничего не происходило. Тут требуется терпение, колоссальное терпение. Даже газеты читать рискованно: что-то может произойти за долю секунды, а ты прозеваешь. Часами не сходить с места – тут нужна изворотливость. Прячешься в тачке, сидишь в тачке, пригнувшись, притворяешься, будто просто бездельничаешь, как любой человек в машине. Иногда ходишь по нужде прямо в тачке – как удержаться? А тем временем я все время копаюсь в мыслях преступника: как он среагирует и что будет делать. Каждый преступник уникален, и каждый сценарий, который я разрабатываю, уникален. Когда ты преступник, да еще и туповатый, ты не думаешь, но если ты детектив, у тебя должно хватить ума «не думать» так, как не думает этот тип. Что ж, он все-таки приезжает к бабушке. Когда он снова выходит из подъезда, я иду за ним. Он покупает наркотик. А потом возвращается к своей машине. Прохожу мимо машины, а там – она, я с уверенностью ее опознаю: это Донна. Позднее оказалось, что он сам употреблял наркотики в машине. Короче говоря, погоня длилась двадцать пять минут. Мы проехали через четыре городка в Индиане, делая восемьдесят миль в час по второстепенным дорогам. Парень обвиняется по шестнадцати разным пунктам. Бегство от полиции, сопротивление аресту, похищение людей – он влип по самые помидоры. Я допросил девушку. Сказал ей: «Как делишки, Донна?» А она: «Не понимаю, о чем это вы, меня зовут Пеппер. Я из Калифорнии. Приехала неделю назад». У этой пятнадцатилетней пай-девочки, у этой школьницы из Хайленд-Парка соображалка, как у закоренелого урки, и идеальная отмазка. Она провела в бегах одиннадцать месяцев, и у нее было подложное свидетельство о рождении, водительские права, целая пачка подложных документов. По поведению Донны я понял, что этот тип вовлек ее в проституцию. В ее сумочке мы обнаружили презервативы, в машине – секс-приспособления и всякое такое.
Я подумал, что все это он изучил назубок по телевизору. Если бы я только смотрел побольше «Копов из Лос-Анджелеса» и поменьше читал Достоевского, я бы понял, в чем штука, на третьей минуте догадался бы, из какого это сериала. Возможно, мотивы из пятнадцати сериалов, приправленные дюжиной кинобоевиков. И вот в чем юмор: скорее всего, существует какой-то невероятно популярный сериал, ради которого все в пятницу вечером сидят дома, и он не просто про частного детектива, который специализируется на пропавших детях, а про детектива-еврея, и серию про старшеклассницу (прелестная болельщица за школьную команду, девица себе на уме, родители-обыватели) и наркомана-сутенера-похитителя (развратные танцы, фольклорная бабушка, рябое лицо) Пипик, вероятно, посмотрел как раз перед тем, как сел в самолет до Тель-Авива, чтобы сыграть меня. А возможно, этот фильм показывали на рейсе «Эль Аль». Наверно, в Америке все, кто старше трех лет, знают, как детективы срут в своих машинах и называют машины «тачками», наверно, в Америке все, кто старше трех лет, точно знают, что подразумевается под «секс-приспособлением», и только стареющий автор «Случая Портного» вынужден об этом расспрашивать. Какое для него, наверно, удовольствие вешать мне лапшу на уши. Но что это: нескончаемый маскарад ради аферы, или афера – предлог для актерства, а подлинное удовольствие он получает от самого процесса лицедейства? Что, если это не просто мошенничество, а пародия на мое призвание, то, что нынче зовется стёб? Да, предположим, что этот мой Пипик – не кто иной, как Дух Сатиры во плоти, а вся эта история – пародия, сатира на писательство! Как я мог этого не заметить? Да, да, Дух Сатиры – ну конечно же это он, пришел подтрунивать надо мной и другими старомодными адептами серьезных и реальных вещей, пришел отвлечь нас всех от еврейской жестокости, о которой невыносимо думать, приехал на гастроли в Иерусалим, чтобы развеселить всех, кому хреново.
– Что за секс-приспособления? – спросил я у него.
– У нее был вибратор. В машине лежал блек-джек. Уже не припомню, что еще мы обнаружили.
– А что такое блекджек – вид фаллоимитатора? Нынче, пожалуй, фаллоимитаторы все время мелькают на телеэкранах в прайм-тайм. Совсем как раньше хулахупы.
– Блекджеки используются в садомазо. Для избиений, наказаний и тому подобного.
– И что сталось с Донной? Какой она расы – белая? Я пропустил этот сериал. Кто вас играет? Рон Либман или Джордж Сигал? Или это вы играете их для меня?
– У меня мало знакомых писателей, – сказал он. – Они все так думают? Что в реальном мире каждый кого-нибудь играет? Брат мой! В детстве вы слишком увлекались той передачей для малышей – наверно, вы с Сэнди ее чересчур любили. Утром по субботам. Помните? Тоже тысяча девятьсот сороковой. Одиннадцать утра по восточному поясному времени. Та-там-та-татата, там-та-татата, там-тата-та-там.
Он замурлыкал мелодию, которая когда-то была заставкой «Понарошку» – тридцатиминутки сказок, которую просто обожали маленькие американские дети тридцатых-сороковых, не избалованные масс-медиа, обожали не только мы с братом, но и миллионы других детей.
– Может быть, – сказал он, – ваше восприятие реальности осталось на уровне «Понарошку».
Эти слова я даже не удостоил ответом.
– Ах, это же стереотип, верно? Вам со мной скучно? Что ж, – сказал он, – теперь, когда вам под шестьдесят и «Понарошку» больше не выходит в эфир, кому-то придется заставить вас поскучать подольше, чтобы объяснить: во-первых, мир существует на самом деле, во-вторых, на кон поставлено очень много, а в-третьих, никто, кроме вас, больше ничего не делает понарошку. Я долго влезал в ваши мысли, но только теперь понимаю, как устроены писатели: вы, господа, считаете, что на свете все понарошку.
– Нет, Пипик, я не считаю, будто хоть что-то из этого – понарошку. Я считаю – и знаю – что вы настоящий лжец и настоящий обманщик. Только в историях, которые якобы про «все это», только при безуспешных попытках описать «все это» начинает действовать «понарошечность». Пятилетние дети, возможно, принимают байки за правду, но когда тебе под шестьдесят, для разоблачения патологической тяги к сочинению баек нужно просто еще одно умение, которое приходит в зрелом возрасте. Когда тебе под шестьдесят, образы «всего этого» и есть «все это». Нет ничего, кроме них. Понимаете?