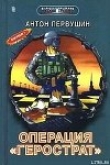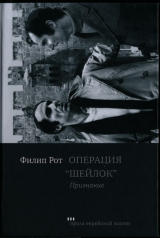
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
На вторую ночь в Лондоне, по-прежнему беспокойно ворочаясь (теперь уже – из-за смены часовых поясов), в третий или четвертый раз проснувшись в темноте, я призадумался над новой гипотезой: а если те звонки из Иерусалима – как и мой звонок в Иерусалим – мне приснились? В дневное время я бы поклялся, что ответил на оба звонка, когда сидел за письменным столом в нью-йоркском отеле и принимался составлять список вопросов для Аарона, навеянных перечитыванием его книг; однако той долгой ночью, размышляя о почти невероятном содержании звонков, я умудрился внушить себе, что мог услышать их и ответить на них только во сне, что это были сновидения типа тех, которые каждый из нас видит еженощно, – с узнаваемыми персонажами – их голоса звучат вполне правдоподобно, но то, что они говорят, звучит совершенно неправдоподобно. А коренная причина этих снов, если хорошенько поразмыслить, до прискорбия очевидна. Этот Другой, этот самозванец, о чьих необъяснимых выходках меня предостерегли Аптер и Аарон, тот, чей голос я услышал собственными ушами, – просто призрак, порождение моих опасений, что моя голова прохудится, едва я окажусь за границей и вдобавок впервые после выздоровления останусь в одиночестве; иначе говоря, это кошмар возвращения узурпирующей личности, над которой я не властен. Ну а вестники, сообщившие мне во сне о моем иерусалимском «контр-я», со всей очевидностью символизируют непосредственные, глубоко личные последствия того, что со мной стряслось; эти двое не только изведали на своей шкуре капризы судьбы (изведали побольше, чем я), но и претерпели самые чудовищные метаморфозы прежде, чем глина их изначального «я» успела затвердеть, сложиться в прочную, несокрушимую индивидуальность. Хваленые трансфигурации, сочиненные Францем Кафкой, бледнеют перед теми немыслимыми превращениями, которые Третий рейх проделал с детством моего кузена и моего друга – а сколько еще таких реальных примеров!
Мне так хотелось удостовериться, что это лишь сон, который выплеснулся в реальность, что еще до рассвета я вскочил с постели, намереваясь позвонить Аарону. Иерусалимское время обгоняет лондонское на час, а Аарон вставал очень рано, но я счел, что не могу ждать ни минуты, даже если рискую его разбудить: пусть он подтвердит, что вся эта история пригрезилась мне одному и мы никогда не разговаривали по телефону о другом Филипе Роте. Однако, стоило мне встать с кровати и направиться на кухню, откуда я собирался позвонить ему потихоньку, я смекнул: какая глупость – убеждать себя, будто мне все привиделось во сне! Да, звонить надо срочно, но не Аарону, подумал я, а бостонскому психофармакологу, и поинтересоваться: могут ли мои сомнения насчет того, что реально, а что нет, оказаться симптомом непоправимых повреждений, которые нанесла моему мозгу трехмесячная химическая бомбардировка триазоламом? А Аарону стоит звонить, только чтобы выяснить, о каких новых наблюдениях он может сообщить. Но почему бы не обойтись без Аарона, почему бы не спросить самозванца прямо, какие цели он преследует? Навязывая себе беспочвенное «здравомыслие», я лишь разрушаю то, что защищает меня от опасного возобновления бреда. Если без пяти пять утра мне и стоит куда-то звонить, то в номер 511 «Царя Давида».
За завтраком я похвалил себя – ведь в пять я снова лег, так никому и не позвонив; почувствовал, как по жилам разливается блаженное чувство контроля над собственной жизнью, вновь самонадеянно возомнил себя кормчим собственного корабля. Да, все на свете может оказаться бредом, но только не здравомыслие.
И тут зазвонил телефон.
– Филип? Снова хорошие новости. Ты в утренней газете. – Аарон. Звонит мне сам.
– Чудесно. В какой газете на этот раз?
– На этот раз – в газете на иврите. Статья о твоей поездке к Леху Валенсе. В Гданьск. Вот где ты побывал до того, как приехал на суд над Демьянюком.
Позвони мне кто-то другой, я, возможно, тешил бы себя надеждой, что меня поддразнивают или разыгрывают. Но как бы Аарон ни упивался комической стороной вещей, умышленные шалости и даже самые невинные розыгрыши попросту несовместимы с его аскетичной, степенной и добросердечной натурой. Он видел, определенно видел смешную сторону сложившейся ситуации, но если и существовал гипотетический розыгрыш, Аарон был посвящен в него ничуть не больше, чем я.
Клэр, сидя напротив меня, пила кофе и просматривала «Гардиан». Мы доедали завтрак. Нет, в Нью-Йорке мне ничего не приснилось, и здесь тоже ничего не снится.
Голос у Аарона мягкий, очень ласковый и мягкий, с модуляциями, для восприятия которых требуется тонкий слух, английские слова Аарон выговаривает скрупулезно четко, и каждое слово слегка окрашено акцентом, который в равной мере ассоциируется со Старым Светом и с Израилем. Этот голос обволакивает тебя своим обаянием, когда ему внимаешь, он расцвечен драматичными каденциями, свойственными блестящим рассказчикам, полон энергии, хотя негромок, – а я слушал Аарона очень внимательно.
– Я переведу твое заявление, напечатанное здесь, – говорил он. – «Цель моей поездки к Валенсе состояла в том, чтобы обсудить с ним переселение евреев обратно в Польшу после того, как там к власти придет „Солидарность“ – а это неизбежно».
– Переведи-ка лучше все целиком. С самого начала. На какой полосе статья? Длинная?
– Не длинная, не короткая. На последней полосе, среди очерков. Есть фото.
– Чье?
– Твое.
– И это я? – спросил я.
– Я бы сказал, что да.
– Как озаглавлена статья?
– «Филип Рот встречается с лидером „Солидарности“». Шрифтом помельче: «„Польше нужны евреи“, – сказал Валенса писателю в Гданьске».
– «Польше нужны евреи», – повторил я. – Жаль, мои дед с бабкой не дожили, – слышали бы они это.
– «„Все говорят о евреях“, – сказал Валенса Роту. – Испанию погубило изгнание евреев, – сказал лидер ‘Солидарности’ во время их двухчасовой встречи на верфи в Гданьске, где в 1980 году родилась ‘Солидарность’. – Когда мне говорят: ‘Найдется ли такой полоумный еврей, чтобы сюда приехать?’, я объясняю, что долгий опыт, сотни и сотни лет, прожитых вместе евреями и поляками, невозможно свести к слову ‘антисемитизм’. Давайте говорить о тысяче лет триумфа, а не о четырех годах войны. Величайший в истории расцвет идишской культуры, все великие интеллектуальные движения современной еврейской жизни, – сказал Роту лидер ‘Солидарности’, – имели место на польской земле. Идишская культура – не в меньшей мере польская, чем еврейская. Без евреев Польша немыслима. Польше нужны евреи, – сказал Валенса еврейскому писателю, рожденному в Америке, – а евреям нужна Польша». Филип, мне кажется, я зачитываю тебе кусок рассказа, который ты же и сочинил.
– Жаль, что это не так.
– «Рот, автор „Случая Портного“ и других неоднозначно воспринятых произведений еврейской литературы, называет себя „пламенным диаспористом“. Он говорит, что идеология диаспоризма заняла в его душе то место, которое раньше занимал писательский труд. „Цель моей поездки к Валенсе состояла в том, чтобы обсудить с ним переселение евреев обратно в Польшу после того, как ‘Солидарность’ придет – неизбежно придет – там к власти“. В данный момент писатель находит, что его идеи переселения встречают в Израиле более враждебную реакцию, чем в Польше. Он уверяет: каким бы ядовитым ни был когда-то польский антисемитизм, „намного прочнее и опаснее ненависть к евреям, которой пропитан ислам, – продолжает Рот. – Так называемая нормализация евреев с самого начала была трагической иллюзией. Но ожидания, что эта нормализация расцветет в самом сердце ислама, – еще хуже, чем трагедия: это самоубийство. Как бы зверски ни обращался с нами Гитлер, он продержался всего двенадцать лет, а что такое двенадцать лет для еврея? Настало время вернуться в Европу, которая столетиями была и доныне остается самым подлинным на всем протяжении истории отечеством еврейского народа, колыбелью раввинского иудаизма, хасидского иудаизма, еврейского секуляризма, социализма и т. д. и т. п. Колыбелью сионизма, конечно, тоже. Но сионизм исчерпал свою историческую функцию. Нам пора вернуть в европейской диаспоре нашу первостепенную роль в духовности и культуре“. Рот опасается, что на Ближнем Востоке евреев ждет второй Холокост, и считает „переселение евреев“ единственным способом обеспечить их выживание и одержать „историческую, а также духовную победу над Гитлером и Освенцимом“. „Я не слеп – я вижу все ужасы, – говорит Рот. – Но я присутствую на суде над Демьянюком, этим живым олицетворением преступного садизма нацистов в отношении нашего народа, и задаюсь вопросом: ‘Кто и что должны возобладать в Европе – воля этого недочеловека, убийцы и зверя или цивилизация, которая дала человечеству Шолом-Алейхема, Генриха Гейне и Альберта Эйнштейна? Неужели из-за него мы обречены на вечное изгнание с континента, который питал цветущие еврейские миры Варшавы, Вильно, Риги, Праги, Берлина, Львова, Будапешта, Бухареста, Салоников и Рима?’ Пора, – заключает Рот, – вернуться туда, где нам самое место, где мы имеем все исторические права на возобновление великой европейской судьбы еврейства, оборванной палачами типа этого Демьянюка“».
Так заканчивалась статья.
– Какие у меня блестящие идеи, – сказал я. – Наживу себе кучу новых приятелей в сионистском отечестве.
– Любой, кто прочтет это в сионистском отечестве, – сказал Аарон, – подумает только одно: «Еще один чокнутый еврей».
– Я бы предпочел, чтобы в книге постояльцев в отеле он расписался «Еще один чокнутый еврей», а не «Филип Рот».
– «Еще один чокнутый еврей» – пожалуй, звучит недостаточно безумно, чтобы утолить его мишигас[5].
Заметив, что Клэр уже не читает газету, а прислушивается к разговору, я сказал:
– Это Аарон. В Израиле какой-то безумец называет себя моим именем и прилюдно выдает себя за меня. – Затем, обращаясь к Аарону, я сказал: – Я говорю Клэр, что в Израиле один безумец выдает себя за меня.
– Ну да, а безумец, несомненно, полагает, что в Нью-Йорке, Лондоне и Коннектикуте один безумец выдает себя за него.
– Либо он ни капли не безумен и четко знает, что делает.
– А что он делает? – спросил Аарон.
– Я не сказал, что я это знаю, я сказал, что он это знает. В Израиле столько людей, знакомых со мной, видевших меня раньше, – как он умудрился представиться израильскому журналисту Филипом Ротом и запросто ускользнуть от разоблачения?
– Кажется, эту статью написала молоденькая девушка, лет двадцати с хвостиком. Вот в чем, наверно, штука – в ее неопытности.
– А фото?
– А фото они нашли в своих архивах.
– Послушай, мне надо связаться с газетой, пока про это не раструбили информагентства.
– А я что-то могу сделать, Филип? Хоть что-то?
– Покамест – нет, ничего не делай. Возможно, мне стоит поговорить с моим юристом, прежде чем звонить в газету. Или лучше пусть мой юрист позвонит в газету. – Но, взглянув на часы, я сообразил, что для звонков в Нью-Йорк час еще слишком ранний. – Аарон, просто погоди, пока я не смогу все продумать и выяснить юридическую сторону вопроса. Я даже не знаю, какие обвинения можно предъявить самозванцу. Вторжение в частную жизнь? Распространение порочащих сведений? Преступное безрассудство? Дает ли персонация[6] основания для судебного преследования? Что именно он беззаконно присвоил, и как мне остановить его в стране, гражданства которой я даже не имею? По сути, мне придется иметь дело с израильским законодательством, а я еще даже не доехал до Израиля. Послушай, я тебе перезвоню, когда что-нибудь выясню.
Но, едва повесив трубку, я тут же нашел объяснение, которое в чем-то перекликалось с мыслями, обуревавшими меня, пока я ночью ворочался с боку на бок. Наверно, его навеяли слова Аарона, что он словно бы зачитывает мне кусок моего собственного рассказа, и все же для меня эта догадка была лишь очередным дурацким припадком субъективности, попыткой превратить объективное – даже слишком объективное, как вновь подтвердилось – явление в элемент вымышленного мира, который я ввиду своей профессии чересчур хорошо знаю. Да это же Цукерман, подумал я сумасбродно, неумно, в припадке эскапизма, да это же Кепеш, Тарнопол и Портной – все они в одном лице, удрали с печатных страниц и издевательски материализовались, срослись в целостную пародийную факсимильную копию меня. То есть если причина не в хальционе и не в сновидениях, то уж непременно в литературе: словно вне меня не может существовать жизнь, которая в десять тысяч раз невообразимее, чем моя внутренняя жизнь.
– В общем, – сказал я Клэр, – в Иерусалиме один человек, который бывает на процессе над «Иваном Грозным», прилюдно представляется мной. Представляется моим именем. Дал интервью израильской газете – вот что Аарон зачитывал мне по телефону.
– И ты узнал об этом только сейчас? – спросила она.
– Нет. Аарон звонил мне на прошлой неделе в Нью-Йорк. И мой кузен Аптер тоже. Квартирная хозяйка Аптера сказала, что видела меня по телевизору. Тебе я не говорил, потому что не знал, серьезно это или, может, так, пустяковина.
– Ты позеленел, Филип. Ты стал какого-то жуткого цвета.
– Правда? Устал, вот и все. Ночью почти не сомкнул глаз.
– Ты случайно не принимаешь?..
– Шутишь?
– Не надо таким обиженным тоном. Просто не хочу, чтобы с тобой что-то стряслось. У тебя действительно жуткий цвет лица… и вид какой-то… загнанный.
– Правда? Правда? Вот уж не думал. И вообще, это ты стала другого цвета, а не я.
– Просто я волнуюсь. Мне кажется, ты…
– Ну что? Что тебе кажется? А мне кажется, что я кажусь человеком, который вдруг обнаружил, что в Иерусалиме кто-то раздает газетчикам интервью от его имени. Ты же слышала, что я сказал Аарону. Едва в Нью-Йорке начнется рабочий день, я позвоню Элен. Самое лучшее, если именно она позвонит в газету и заставит их завтра же опубликовать опровержение. Первый шаг к тому, чтобы его остановить. Как только они опубликуют опровержение, ни одна газета не подойдет к нему на пушечный выстрел. Вот первый шаг.
– А второй?
– Не знаю. Может, второго и не понадобится. Не знаю, какие на этот счет есть законы. Потребовать судебного запрета? В Израиле? Может, Элен свяжется с каким-нибудь юристом там, на месте. Поговорю с ней, выясню.
– А может быть, в качестве второго шага тебе пока туда не ездить.
– Да ну, ерунда. Послушай, никакой я не загнанный. Пусть он меняет планы, а не я.
Но к полудню я снова сказал себе, что гораздо разумнее, рациональнее, а в долгосрочной перспективе даже упоительно беспощаднее пока ничего не предпринимать. Зря я, конечно, ввел Клэр в курс дела: она же вечно переживает за мое самочувствие, – но я не совершил бы эту оплошность, не сиди Клэр напротив меня, когда Аарон позвонил со своим очередным донесением. А еще большей оплошностью, подумал я, было бы спустить юристов с цепи сейчас, да сразу на двух континентах: не факт, что они смогут наказать этого человека так болезненно, как способен наказать его я (если, конечно, сумею действовать толково, а не в припадке ярости), пока этот самозванец не доиграет последний акт своей катастрофы в полном одиночестве, как, наверно, и следует. Опровержение вряд ли нейтрализует урон, который газета уже нанесла мне, приняв его за меня. Идеи, которые Филип Рот столь решительно проповедует в этой статье, – теперь мои и, вероятно, останутся моими даже в памяти тех, кто завтра прочтет опровержение. Но все же это не самая страшная переделка в моей жизни, сурово напомнил я себе, и я не позволю себе реагировать так, словно она самая страшная. Вместо того чтобы спешно мобилизовывать армию юристов-защитников, лучше уютно устроиться в сторонке и понаблюдать, пока он не сварганит для израильской прессы и общества настолько чуждую мне версию меня, что не потребуется ничего – ни вмешательства суда, ни опровержений в газетах, – чтобы развеять путаницу у всех в головах и обнажить его истинное лицо, каким бы оно ни было.
В конце концов, как ни соблазнительно было бы списать произошедшее на остаточный эффект хальциона, другой Филип Рот – не моя, а его собственная галлюцинация, и теперь-то, в январе 1988 года, я начинаю сознавать, что для него это чревато более страшными последствиями, чем для меня. В поединке с реальностью я не настолько беспомощен, как в поединке со снотворным; в поединке с реальностью у меня есть самое мощное оружие – факт моей абсолютной реальности. Я не должен опасаться, что другой Филип Рот меня сместит; наоборот, это я наверняка сотру его с лица земли: разоблачу, сотру в порошок, уничтожу. Дайте только срок. Паника, как ей свойственно, убеждает меня, мелко подрагивая, пришептывая, пугаясь всякой ерунды: «Сделай же что-нибудь, пока он не зашел чересчур далеко!» – а ей истошным голосом вторит Бессильный Страх. Тем временем Рассудок, приосанившись, взвешенно советует своим ангельским голосом: «На твоей стороне всё, на его стороне – ноль. Попробуешь устранить его немедленно, пока он не полностью обнажил свои истинные намерения, – он просто ускользнет, чтобы объявиться в другом месте и сызнова затеять свои фокусы. Позволь ему зайти слишком далеко. Вот самый ловкий способ заткнуть ему рот. Его поражение неизбежно».
Излишне пояснять: скажи я в тот вечер Клэр, что передумал и больше не рвусь в бой при поддержке юристов, а позволю ему пестовать мистификацию, пока он сам на ней не подорвется, Клэр ответила бы, что я лишь напрашиваюсь на неприятности, в потенциале более опасные для моего восстановленного душевного равновесия, чем те мелкие неудобства, которые успела породить эта, хоть и возмутительная, но ерундовая докука. А еще Клэр, разволновавшись пуще, чем тогда, за завтраком, возразила бы (ведь те три месяца, пока она беспомощно наблюдала вблизи мой коллапс, сильно подорвали ее веру в меня и отнюдь не укрепили ее собственное душевное равновесие), что я вовсе не готов к столь нетипичному и головоломному испытанию; но я, вполне довольный своей установкой на стратегическую сдержанность, воодушевленный чувством свободы, которое возникает, когда ты из принципа отказываешься реагировать на чрезвычайные обстоятельства, а лишь оцениваешь их реалистично, сохраняя самообладание, – я-то был уверен в обратном. Решение бороться с самозванцем один на один привело меня в полный экстаз – ведь я всегда предпочитал бороться с чем угодно один, собственными силами. Боже правый, подумал я, наконец-то я снова стал собой, наконец-то из пучины восстало самым естественным образом то «я», по которому я соскучился, – энергичный, независимый упрямец, вновь смотрящий жизни прямо в глаза, лучащийся прежней решимостью, снова готовый схватиться с противником чуть менее химеричным, чем болезненная, парализующая ирреальность. Самозванец – ровно то, что психофармаколог прописал! А ну-ка, приятель, выходи, будем драться один на один! Тебе не избежать разгрома.
В тот вечер за ужином, прежде чем Клэр успела задать мне хоть один вопрос, я соврал – сказал ей, что поговорил с юристом, что она связалась из Нью-Йорка с израильской газетой и на следующий день появится опровержение.
– И все же не нравится мне это, – ответила Клэр.
– Но что еще мы можем сделать? Что еще требуется?
– Не нравится мне мысль, что ты будешь там один, пока этот тип разгуливает на свободе. Не самая удачная идея. Разве мы знаем, кто он такой, что он собой представляет и что замышляет на самом деле? А если он ненормальный? Сегодня утром ты сам назвал его безумцем. А если этот безумец вооружен?
– Как бы я его ни называл, в действительности я о нем ничего не знаю.
– Вот-вот, об этом я и говорю.
– А почему вдруг он вооружен? Чтобы прикидываться мной, не нужен пистолет.
– Это Израиль – там все вооружены. Каждый второй прохожий с оружием, столько стволов я в жизни не видела. Ехать туда в такой момент, когда повсюду напряженная ситуация, – просто ужасная ошибка.
Она имела в виду беспорядки, которые уже месяц происходили в секторе Газа и на Западном берегу, – я следил за ними из Нью-Йорка по вечерним выпускам новостей. В Восточном Иерусалиме действовал комендантский час, туристам настоятельно советовали не бывать в Старом городе, потому что там швырялись камнями и были вполне вероятны стычки между армией и местными арабами. Пресса взялась называть эти беспорядки, которые на оккупированных территориях сделались более-менее будничным явлением, «палестинским восстанием».
– Почему ты не можешь связаться с израильской полицией? – спросила она.
– По-моему, у израильской полиции сейчас есть проблемы поважнее. Да и что я им скажу? Арестуйте его? Депортируйте его? На каких основаниях? Насколько мне известно, он не выписывал подложных чеков от моего имени, не брал плату за оказанные им услуги от моего имени…
– Но он наверняка въехал в Израиль по подложному паспорту, с документами на твое имя. Это незаконно.
– А мы знаем, что это доподлинно так? Нет, не знаем. Незаконно, но маловероятно. Подозреваю, что от моего имени он только трепался – и больше ничего.
– Но должны же быть какие-то защитные юридические механизмы. Не может же человек просто удрать в другую страну и там разгуливать, выдавая себя за другого.
– Пожалуй, так бывает чаще, чем ты думаешь. Давай чуть реалистичнее, а? Милая, может, взглянешь на ситуацию здраво?
– Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь стряслось. Вот тебе мой здравый взгляд.
– Ну, то, что «стряслось», осталось в прошлом, уже несколько месяцев как кончилось.
– Ты правда выдержишь? Филип, я просто обязана задать тебе этот вопрос.
– А разве происходит что-то, что я должен «выдержать»? Разве со мной, пока я не начал принимать то лекарство, хоть раз случалось что-нибудь подобное? А когда я слез с лекарства, разве что-то снова случилось? Завтра они опубликуют опровержение. Пришлют Элен копию по факсу. Пока этого достаточно.
– Что ж, мне непонятно, отчего ты так спокоен, и, если честно, отчего так спокойна Элен.
– Теперь тебя настораживает спокойствие. А сегодня утром настораживало, что я раздражаюсь.
– Да… видишь ли… мне как-то трудно поверить…
– А я, видишь ли, никак не могу изменить эту ситуацию.
– Пообещай, что не натворишь никаких глупостей.
– Это каких, например?
– Даже не знаю. Не попытаешься найти этого человека. Не станешь ввязываться в драку. Ты понятия не имеешь, на кого можешь напороться. Даже не пытайся его искать и улаживать эту дурацкую историю самостоятельно. Хотя бы пообещай мне этого не делать.
Мне было смешно даже подумать об этом.
– Наверно, – снова слукавил я, – пока я доберусь до Иерусалима, он уже исчезнет бесследно.
– И ты не будешь его искать.
– Да мне и не придется. Послушай, взгляни на это так: на моей стороне всё, на его стороне – ноль, полный ноль.
– Ошибаешься. Знаешь, что есть на его стороне? Это ясно по каждому твоему слову. У него есть ты.
* * *
В тот вечер, после ужина, я сказал Клэр, что иду в свой кабинет под самой крышей, чтобы еще немножко посидеть над романами Аарона и отшлифовать план нашей беседы в Иерусалиме. Но, не просидев и пяти минут за письменным столом, я услышал, что Клэр внизу включила телевизор, и тогда поднял трубку и позвонил в Иерусалим, в отель «Царь Давид», и попросил соединить меня с номером 511. Чтобы изменить голос, я заговорил с французским акцентом – не с будуарным акцентом, не с фарсовым акцентом, не с тем французским акцентом, который спустился от Шарля Буайе[7] через Дэнни Кея[8] в телерекламу столовых вин и дорожных чеков, а с акцентом златоустов-космополитов, французов уровня моего друга писателя Филиппа Соллерса: никаких «зыс» и «зэт», все «h» в начале слов – с надлежащим придыханием, на беглом английском, который лишь слегка окрашен органичными интонациями и расцвечен органичными каденциями, характерными для речи просвещенного иностранца. Этот образ удается мне неплохо – однажды в телефонном разговоре я провел даже шутника Соллерса, – и именно этой личиной я решил воспользоваться, пока за ужином мы с Клэр спорили о том, благоразумна ли моя поездка (пусть даже, признаю, несколькими часами раньше ангельский голос Рассудка советовал мне, что бездействие – самый верный способ разделаться с самозванцем). К девяти вечера во мне возобладало любопытство, а любопытство – не самая рассудочная прихоть.
– Алло, мистер Рот? Мистер Филип Рот? – спросил я.
– Да.
– Я действительно говорю с писателем?
– Да.
– С автором «Portnoy et son complexe»?[9]
– Да-да. Кто это? Представьтесь, пожалуйста.
Мое сердце заколотилось, словно я впервые отправился воровать на пару с сообщником, не менее блистательным, чем Жан Жене, – оказалось, я не просто хитрю, а проделываю нечто упоительное. Мысль, что он на том конце провода притворяется мной, пока я на своем конце притворяюсь, будто я – не я, доставила мне гигантский, нежданный кайф того сорта, который испытываешь на новоорлеанском карнавале, и, наверно, оттого я немедленно совершил дурацкую ошибку. «Я Пьер Роже», – сказал я и лишь через секунду после того, как прозвучала приличествующая случаю кличка, залетевшая мне в голову как бы из воздуха, осознал, что инициалы совпадают с моими – и с его – инициалами. Хуже того, это слегка переиначенное имя каталогизатора слов, жившего в XIX веке, известного всем и каждому автора знаменитого тезауруса. Это я тоже сообразил запоздало: автор капитального труда о синонимах!
– Я французский журналист, работаю в Париже, – сказал я. – Я только что прочел в израильской прессе про вашу встречу в Гданьске с Лехом Валенсой.
Обмолвка номер два: как я мог прочесть его интервью в израильской прессе? Разве что я знаю иврит. А если он теперь заговорит со мной на языке, который я освоил лишь настолько, чтобы в тринадцать лет худо-бедно пройти бар мицву, на языке, в котором я теперь ни бум-бум?
Рассудок: «Твой замысел ему только на руку. Именно такая ситуация желанна его преступным наклонностям. Брось трубку».
Клэр: «Ты действительно выздоровел? Ты действительно это выдержишь? Не надо туда ехать».
Пьер Роже:
– Правильно ли я понял, что вы глава движения, которое ратует за переселение израильских евреев европейского происхождения в Европу? И это переселение должно начаться с Польши?
– Правильно, – ответил он.
– Продолжаете ли вы одновременно писать романы?
– Писать романы, когда евреи стоят на подобном распутье? Теперь вся моя жизнь посвящена исключительно движению за переселение евреев в Европу. Диаспоризму.
Похож ли его голос хоть чуть-чуть на мой? Мне показалось, что мой голос гораздо проще выдать за голос, допустим, говорящего по-английски Соллерса, чем его голос – за мой. Например, в его выговоре гораздо сильнее чувствовался Нью-Джерси, чем в моем на любом этапе моей биографии, но я не мог вычислить: то ли это его прирожденная манера, то ли он опрометчиво гонится за правдоподобием. Зато голос более звучный, чем мой, богаче интонациями, намного громоподобнее. Возможно, таковы его представления о том, как дает телефонные интервью человек, опубликовавший шестнадцать книг; что ж, если б я разговаривал в такой манере, мне, может, и не понадобилось бы писать целых шестнадцать книг. Но, как бы меня ни подмывало сказать ему об этом, я сдержался; разговор доставлял мне слишком большое наслаждение, чтобы я рискнул спугнуть собеседника или самого себя.
– Вы – еврей, – сказал я, – которого еврейские организации в прошлом порицали за вашу «самоненависть» и ваш «антисемитизм». Правильно ли предположить…
– Послушайте, – сказал он, внезапно оборвав меня, – я еврей, и точка. Будь я кем-то другим, я не поехал бы в Польшу встречаться с Валенсой. Будь я кем-то другим, я не приехал бы сюда в Израиль и не ходил бы на процесс Демьянюка. Извольте, о переселении я охотно расскажу вам все, что пожелаете. Что касается всего остального, я не могу попусту тратить время на россказни обо мне всяких глупцов.
– Но, – настаивал я, – разве глупцы не скажут, что эта затея с переселением сделала вас врагом Израиля и его предназначения? Разве она не подтверждает…
– Я враг Израиля, – снова прервал меня он, – если вам угодно слышать подобную сенсационную формулировку, я враг Израиля только потому, что стою за евреев, а Израиль перестал отвечать еврейским интересам. Израиль превратился в угрозу для выживания евреев – самую большую угрозу с окончания Второй мировой войны.
– Отвечал ли Израиль когда-либо еврейским интересам, по вашему мнению?
– Конечно. После Холокоста Израиль был еврейской больницей, где евреи могли постепенно выздоравливать после ужасов и обесчеловечивания, столь опустошительных и столь кошмарных, что никто бы не удивился, если бы еврейский дух, да и сами евреи полностью капитулировали – поддались бы этому наследственному гневу, унижению и скорби. Но обошлось: наше выздоровление – несомненный факт. Даже ста лет ждать не пришлось. Это настоящее чудо, нечто большее, чем чудо, – но все же выздоровление евреев стало реальностью, и пора возвратиться к нашей подлинной жизни и в наш настоящий дом, в нашу родовую еврейскую Европу.
– В настоящий дом? – отозвался я (уже не веря, что какими-то аргументами убеждал себя ему не звонить). – Ничего себе настоящий дом…
– Бессмысленная болтовня – не по моей части, – отрезал он. – Начиная со Средневековья в Европе жило огромное число евреев. Практически все, что мы отождествляем с еврейской культурой, восходит к нашей многовековой жизни в окружении европейских христиан. У евреев ислама – своя, совершенно иная судьба. Я не предлагаю, чтобы в Европу вернулись израильские евреи – выходцы из исламских стран, поскольку для них это означало бы не возвращение домой, а выкорчевывание из родной почвы.
– В таком случае что вы с ними сделаете? Отвезете назад к арабам, чтобы те обошлись с ними сообразно их еврейскому статусу?
– Нет. Для этих евреев Израиль должен остаться их страной. Как только европейские евреи и их семьи уедут и население сократится вдвое, государство можно будет уменьшить до границ 1948 года, армию – распустить, а те евреи, которые веками жили в матрице исламской культуры, смогут жить так и дальше, независимо, автономно, но в мире и согласии со своими соседями-арабами. Для них остаться в этом регионе – значит попросту вести привычный образ жизни в своем подлинном ареале, но для европейских евреев Израиль – место изгнания и не более, временное убежище, краткий перерыв в европейской эпопее, которую пора возобновить.
– Сэр, почему вы считаете, что в Европе будущее евреев окажется более успешным, чем их прошлое?
– Не путайте нашу долгую европейскую историю с двенадцатью годами правления Гитлера. Если бы Гитлера не существовало, если бы его двенадцать лет террора были вычеркнуты из нашего прошлого, вам не казалось бы немыслимым, что евреи могут быть не только американцами, но и европейцами. Возможно, вам бы даже показалось, что между евреем и Будапештом, евреем и Прагой существует гораздо более необходимая и глубокая связь, чем между евреем и Цинциннати, евреем и Далласом.