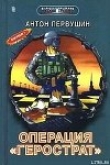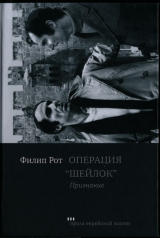
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
– А вы, – сказал я, слегка оттеснив его и попятившись, – вы, надо думать, подложный Филип Рот.
Он засмеялся. Но плакать не перестал! Эти идиотские, необъяснимые слезы вызвали у меня отвращение – даже еще более сильное, чем когда я мысленно строил модель нашего поединка.
– Подложный, о-о, по сравнению с вами – абсолютно подложный, ноль, никто, фикция. Просто не могу выразить, что это для меня значит! В Израиле! В Иерусалиме! Не знаю, что сказать! Не знаю, с чего начать! Книги! Эти книги! «Отпусти» – я ее перечитываю, это до сих пор моя любимая книга! Либби Герц и психиатр! Пол Герц и пальто! Я перечитываю старый номер «Дайэла» с «Сосудом любви»! Как сработано! Не в бровь, а в глаз! Ваши женщины! Энн! Барбара! Клэр! До чего же прекрасны! Простите меня, но только представьте себя на моем месте. Мне – и вдруг повстречать вас, да еще и в Иерусалиме! Что вас сюда привело?
На этот обескураживающий маленький вопросик, заданный без обиняков, я ответил… точнее, услышал со стороны, как отвечаю:
– Я тут проездом.
– Я вижу перед собой себя, – сказал он возбужденно, – но только это – вы.
Он говорил с преувеличенным чувством – наверно, это в его характере. Я видел перед собой лицо, которое вряд ли посчитал бы своим, если бы обнаружил, что сегодня утром оно смотрит на меня из зеркала. Это сходство могло обмануть кого-нибудь другого, кто со мной незнаком, кто видал меня только на фото или на каких-то газетных карикатурах, – особенно если лицо представлялось моим именем, но мне не верилось, что хоть один человек сказал бы: «Бросьте ваши шутки, на самом деле вы тот писатель», если бы оно представлялось мистером Нусбаумом или доктором Шварцем. Строго говоря, это лицо было красивее моего в общепринятом смысле: изготовлено не так халтурно, как мое собственное, подбородок вылеплен аккуратнее, нос не такой громадный и вдобавок, в отличие от моего, в отличие от стандартных еврейских носов, не уплощается на кончике. Я подумал, что в рекламе пластического хирурга он походил бы на фото «после операции», а я – на фото «до».
– Что вы затеяли, друг мой?
– Я ничего не затеял, – ответил он, удивленный и задетый моим сердитым тоном. – И никакой я не подложный. Слово «настоящий» я употребил иронически.
– Что ж, я не такой красавчик, как вы, и не такой ироничный, и слово «подложный» я употребил в прямом значении.
– Эй-эй, поспокойнее, на самом деле вы не знаете, такой ли уж вы силач. Не обзывайтесь, ладно?
– Вы разгуливаете по городу, притворяясь мной.
Тут его губы снова раздвинулись в улыбке.
– А вы разгуливаете по городу, притворяясь мной, – ответил он каким-то омерзительным тоном.
– Вы эксплуатируете внешнее сходство, – продолжал я, – заявляя окружающим, что вы писатель, автор моих книг.
– Мне не нужно ничего заявлять. Они моментально принимают меня за автора этих книг. Так всегда происходит.
– И вы просто не даете себе труда их поправить.
– Послушайте, вы позволите угостить вас обедом? Вы – и здесь! Какая встряска для моего организма! Правда, давайте-ка прекратим эти препирательства и где-нибудь, прямо здесь, в отеле, посидим и серьезно поговорим за обедом, а? Вы мне дадите возможность все объяснить?
– Приятель, я хочу узнать, что вы затеяли!
– А я хочу, чтобы вы узнали… – сказал он нежно и, словно Марсель Марсо в зените пошлости, театрально изобразил обеими руками, будто что-то утрамбовывает, намекая, что мне следовало бы уняться – не орать, вести себя как разумный человек, совсем как он. – Я хочу, чтобы вы узнали всё. Я всю жизнь мечтал…
– О нет, только не эти ваши мечты, – ответил я, разъяренный не только его игрой в простачка, не только тем, как он упорно старался не походить на того громоподобного Герцля-диаспориста, которым прикидывался ради меня в телефонном разговоре, но и тем, что эта голливудизированная версия моего лица так занудно умоляла меня успокоиться. Странно, но в тот момент этот сглаженный, подправленный вариант моих худших черт бесил меня никак не меньше, чем все остальное. Что всего ненавистнее нам во внешности тех, кто на нас похож? Мне лично было ненавистно его искреннее обаяние. – Прошу вас, только не надо смотреть на меня этим нежным трогательным взглядом славного еврейского мальчика. Ваши так называемые мечты! Я-то знаю, что вы тут замышляете, что происходит здесь между вами и газетчиками, так что перестаньте корчить из себя безобидного шлимазла.
– Но ведь и ваш взгляд чуть-чуть потеплел. Я знаю, что вы делали для других людей. Вы таите от публики добросердечные стороны своей личности – перед фотографами делаете сердитое лицо, даете интервью в манере «я вам не лох». Но за кулисами, как мне случайно стало известно, вы – добрейшая душа, мистер Рот.
– Послушайте, чем вы занимаетесь и кто вы такой? Отвечайте!
– Самый горячий из ваших поклонников.
– Вторая попытка.
– На большее я не способен.
– А вы все-таки попробуйте. Кто вы такой?
– Человек, который, как никто другой на свете, читает и любит ваши книги. Перечитывает не раз и не два – столько раз, что мне совестно признаться.
– Да-а, а передо мной вам в этом признаваться не совестно? Какой ранимый юноша.
– Вы смотрите на меня так, как будто я хочу вам польстить, но это правда – я знаю ваши книги вдоль и поперек. И вашу жизнь знаю вдоль и поперек. Я мог бы стать вашим биографом. Да я и есть ваш биограф. Оскорбления, которые обрушиваются на вас… они меня бесят до умопомрачения – мне больно за вас. «Случай Портного» даже не выдвинули на Национальную книжную премию! Книга десятилетия – а ее даже не выдвигали! Что ж, Сводос не был вам другом; в этом комитете он заправлял всем и отыгрался на вас по полной. Столько неприязни – просто не понимаю, как такое возможно. Подгорец – стоит произнести это имя, и во рту остается горечь. А Гилман – эти нападки на «Она была такая хорошая», сомнения в искренности такого романа. Утверждать, что вы пишете для сети «Уомрэт»[12], – об этой абсолютно честной книжечке! А профессор Эпстайн – вот кто гений. И эти бабенки из «Мс.»[13]. И этот эксгибиционист Уолкотт…
Я рухнул в кресло, которое оказалось позади меня, и прямо там, в холле отеля, весь промокший и дрожащий в насквозь пропитанной дождем одежде, стал его слушать, а он пересказывал каждое оскорбление, которое только появлялось в печати, каждую атаку, которая когда-либо обрушивалась на меня и мои книги, в том числе такие беззубые выпады, что каким-то чудом про них позабыл даже я, какую бы злость они ни вызывали во мне четверть века назад. Казалось, джинн обиды вырвался из бутылки, в которой маринуется и консервируется писательская досада, и приобрел человекоподобный облик; то был плод кровосмесительной связи моих давнишних, расковырянных ран, пародийная копия моей сущности.
– …Капоте в шоу Карсона выдумал эту мерзость про «еврейскую мафию», «От Колумбийского университета до „Коламбиа пикчерз“»…
– Хватит, – сказал я и, резко оттолкнувшись от кресла, вскочил. – Я говорю серьезно: хватит!
– Я просто пытаюсь сказать, что вам нелегко живется. Я же знаю, для вас, Филип, жизнь – тяжкая борьба. Вы позволите мне называть вас Филип?
– Почему бы нет? Так меня зовут. А вас?
Улыбнувшись той улыбочкой маменькиного сынка, которую я охотно расколошматил бы кирпичом, он ответил:
– Простите, умоляю вас, простите, но меня зовут точно так же. Пойдемте перекусим. Может быть, – сказал он, указывая на мои ботинки, – вы пожелаете зайти в туалет и их вытрясти. Вы, дружище, вымокли до нитки.
– А вы – ничуть, – подметил я.
– Попросил подвезти, въехал на холм на машине.
Это ж надо? Попросил подвезти – как я думал попроситься в машину к сыну Демьянюка?
– Значит, вы были на процессе, – сказал я.
– Я провожу там каждый день, – ответил он. И добавил: – Идите-ка обсушитесь. Я займу столик в ресторане. Возможно, за обедом вы сможете успокоиться. Нам с вами есть о чем поговорить.
В туалете я нарочно медлил – думал, надо дать ему время, чтобы он успел вызвать такси и удрать, увильнуть от еще одной встречи лицом к лицу. Он заслужил похвалу за этот пусть и отвратительный спектакль: ведь даже захваченный врасплох, почти как и я, нашей встречей, он сумел ловко перехватить инициативу; он великолепно вжился в образ благожелательного, ничем не провинившегося слабака, который ударяется то в угодливую лесть, то в слезы, – образ намного более оригинальный, чем моя банальная актерская работа в роли возмущенной жертвы афериста. И все же, каков бы он ни был, моя материализация должна была стать для него более сильной встряской, чем его – для меня, и, наверно, теперь он хорошенько уяснил, что нагнетать напряженность опасно. Я предоставил ему время на то, чтобы он взялся за ум, дал стрекача и исчез бесследно; только после этого я, причесавшись и снова надев ботинки, из которых – из каждого! – вылилось полчашки воды, вернулся в холл, чтобы вызвать по телефону такси и поехать на обед с Аароном – я уже на полчаса опаздывал, – и моментально заметил, что у дверей ресторана стоит он: заискивающая улыбка – все та же, мои черты – еще более приукрашенные, чем раньше.
– Я уж думал, мистер Рот смотал удочки, – сказал он.
– А я надеялся, что так поступите вы.
– Отчего же, – спросил он, – мне бы вздумалось так поступить?
– А оттого, что вы замешаны в жульничестве. Оттого, что вы нарушили закон.
– Какой именно? Закон Израиля, закон штата Коннектикут или международное право?
– Закон, который гласит, что личность человека – его личная собственность и не может быть присвоена другим лицом.
– A-а, вы, значит, Проссера штудируете.
– Проссера?
– «Руководство по деликтному праву», профессор Проссер.
– Ничего я не штудировал. Все, что мне нужно знать о таких делах, подскажет здравый смысл.
– Но вы все-таки загляните в Проссера. В тысяча девятьсот шестидесятом году в «Калифорнийском юридическом журнале» Проссер опубликовал длинную статью, новый взгляд на основополагающую статью Уоррена и Брандейса в «Гарвардском юридическом обозрении», где они, позаимствовав выражение судьи Кули «право всякого человека на то, чтобы ему дали жить спокойно», обрисовали границы права на неприкосновенность частной жизни. Проссер рассматривает дела о неприкосновенности частной жизни, выделяя четыре отдельные разновидности и причины действий – во-первых, вторжение в место уединения; во-вторых, публичная огласка фактов частной жизни; в-третьих, публичное освещение чего-либо в ложном свете; в-четвертых, присвоение личности. Доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, описываются следующим образом: «Тот, кто присваивает в целях личного использования или выгоды имя или внешний облик другого лица, несет перед этим другим лицом ответственность за вторжение в частную жизнь оного лица». Пойдемте обедать.
Ресторан был совершенно пуст. Не было даже официанта, который проводил бы нас в зал. За столиком, выбранным им самолично, столиком посередине зала, он, словно заправский официант, пододвинул мне стул и учтиво стоял сзади, пока я усаживался. Я не мог определить, что это – то ли неприкрытая пародия, то ли он проделывает это вполне серьезно, в новом приступе преклонения; меня даже посетила мысль: а если, когда мой зад зависнет в трех сантиметрах над стулом, он поступит на манер малолетнего садиста в начальной школе и в последний миг выдернет стул, чтобы я бухнулся на пол? Я схватился обеими руками за сиденье и, усаживаясь, подтянул стул под себя – все, я в безопасности.
– Эге, – сказал он, засмеявшись, – вы мне не вполне доверяете. – И обогнул столик, чтобы сесть напротив.
О том, в какой ступор я впал в холле отеля (и это состояние не проходило, даже пока я был один в туалете и каким-то образом уверил себя, будто победа одержана, будто он вот-вот сбежит и никогда больше не посмеет вернуться), говорит одна деталь: только теперь, когда мы уселись нос к носу, я заметил, что его одежда – тютелька в тютельку моя: не просто похожа, а тютелька в тютельку. Та же самая застиранная темно-синяя рубашка с воротником на пуговицах, тот же самый заношенный рыже-коричневый кашемировый пуловер с треугольным вырезом, те же самые брюки цвета хаки без отворотов, тот же самый серый в елочку пиджак от «Брукс бразерз» с протертыми локтями – в общем, стопроцентно точный дубликат безликой униформы, которую я давным-давно изобрел, чтобы упростить свой быт, униформы, которую я заменял новой никак не более десяти раз с середины пятидесятых годов, когда был нищим преподавателем Чикагского университета и занимался с первокурсниками. Собираясь ехать в Израиль, я подметил, что уже здорово поизносился, пришло время для периодической замены гардероба, – а теперь увидел, что и он в том же положении. На его пиджаке, на месте оторванной средней пуговицы, торчала шишечка из тонких ниточек – это я заметил, потому что давно уже демонстрировал всему миру такую же шишечку на месте, где с моего пиджака в очередной раз отлетела средняя пуговица. И это открытие усугубило необъяснимость всего необъяснимого, словно у нас с ним отсутствовали не пуговицы, а пупки.
– Что вы думаете о Демьянюке? – спросил он.
Мы, что же, будем вести светскую беседу? Да еще и про Демьянюка?
– У нас, что, нет других, более безотлагательных забот – у вас и у меня? Разве нам не стоит поговорить о деле, доказательства для возбуждения которого налицо – деле о присвоении личности, которое профессор Проссер описал под четвертым номером?
– Но все это, так сказать, тускнеет, согласитесь? Тускнеет перед тем, что вы видели в суде сегодня утром, а?
– Откуда вам знать, что я видел сегодня утром?
– Я видел, как вы это увидели. Я был на галерке. Наверху, вместе с газетчиками и телевизионщиками. Вы не могли отвести от него глаз. В первый раз никто не может. Он это или не он, был он там или не был – только об этом и думаешь, когда приходишь в первый раз.
– Но если вы заметили меня с галерки, к чему была эта буря эмоций в холле? Вы уже знали, что я здесь.
– Вы, Филип, преуменьшаете свое значение. Все еще сопротивляетесь своему статусу важной персоны. Не вполне уяснили, кто вы такой.
– Значит, вы это уясняете за меня – вот в чем разгадка, верно?
Когда вместо ответа он склонил голову – с таким видом, будто я бессовестно затронул тему, которую мы уже договорились считать запретной, – я увидел, что шевелюра у него сильно поредевшая, с проседью, и полосы седины образуют узор, очень похожий на мой. Собственно, все наши внешние отличия, которые при первом взгляде успокаивали меня своей заметностью, теперь, как это ни прискорбно, исчезали по мере того, как я свыкался с его видом. Его голова – покаянно склоненная, лысеющая – имела поразительное сходство с моей.
Я снова спросил:
– Что ж, разгадка в этом? Поскольку я, видимо, не «уясняю», какая я важная птица, вы любезно вызвались представляться этой выдающейся личностью вместо меня?
– Хотите посмотреть, чем тут кормят, Филип? А может, хотите выпить?
По-прежнему не видя ни одного официанта, я подумал, что ресторан вообще пока не открылся. И напомнил себе, что спасательный люк под названием «это всего лишь сон» мне больше недоступен. Поскольку я сижу в ресторане, где невозможно получить еду; поскольку напротив меня сидит мужчина, который, надо признаться, почти во всем – моя копия, вплоть до недостающей пуговицы на пиджаке и серебристых прядей, которые он мне только что продемонстрировал; поскольку этот нестерпимый, принимающий дурацкий оборот фарс приобретает надо мной власть и подталкивает к диким, даже сам не знаю каким, выходкам, не давая проявить решимость, приспособиться к этому испытанию и интуитивно овладеть ситуацией, – все это, по-видимому, означает только одно: я не сплю. То, что здесь фабрикуется, – отнюдь не сон, какой бы невесомой и бестелесной ни казалась мне сейчас жизнь, как бы ни охватывало меня тревожное ощущение, что я – букашка, олицетворяющая лишь собственную букашечную ничтожность, свое мизерное существование, которое еще мерзотнее, чем существование моего собеседника.
– Я с вами разговариваю, – сказал я.
– Я знаю. Поразительно. А я разговариваю с вами. И не просто в своем воображении. И это еще поразительнее.
– Я имею в виду, что мне бы хотелось получить от вас ответ. Ответ абсолютно серьезный.
– Ладно, я отвечу серьезно. И вообще буду прям. Ваш престиж в какой-то степени пропадает попусту. Вы не воспользовались им для многих дел, которые могли бы совершить – а вы могли бы совершить много добрых дел. Я не критикую, а просто констатирую факт. Вы пишете книги, и этого вполне достаточно: клянусь Богом, такой писатель, как вы, больше ни для кого ничего делать не должен, кроме как писать книги. Естественно, не всякий писатель приспособлен к роли публичной фигуры.
– И вы стали публичной фигурой вместо меня.
– Довольно циничная формулировка, вам не кажется?
– Да? А как это сформулировать без цинизма?
– Послушайте, вы, по сути… Только не сочтите за неуважение, но вам же свойственна прямота… Вы, в сущности, – только орудие.
Я смотрел на его очки. Вот как нескоро я добрался до его очков в тонкой золотой оправе, охватывающей половину стекол, – абсолютно таких же, как у меня… Тем временем он залез во внутренний карман пиджака, вытащил потертый старый бумажник (ну да, такой же потертый, как мой), вынул из него американский паспорт и передал мне через стол. Фотография – моя, сделанная лет десять назад. А подпись – моя подпись. Листая страницы, я увидел там штампы на въезд и выезд полудюжины стран, в которых я сам никогда не бывал: Финляндия, Западная Германия, Швеция, Польша, Румыния.
– Где вы это взяли?
– В паспортном отделе.
– По воле случая, это я, знаете ли, – я указал на фото.
– Нет, – тихо ответил он. – Это я. Пока не заболел раком.
– Скажите-ка, вы все это продумали заранее или сочиняете байки на ходу?
– Я смертельно болен, – ответил он, и эта фраза настолько сбила меня с толку, что, когда он потянулся за паспортом, этим самым убедительным для меня доказательством, наилучшей уликой его жульнических поползновений, я сдуру вернул ему документ вместо того, чтобы оставить у себя и закатить скандал в тот же момент, не сходя с места. – Послушайте, – сказал он, с серьезным видом подавшись вперед, и я увидел, что он перенял мой стиль вести беседу, – о нас двоих, о том, как мы связаны… разве что-то еще осталось недосказанным? Возможно, вся загвоздка в том, что вы мало читали Юнга. Возможно, дело только в этом. Вы фрейдист, я юнгианец. Читайте Юнга. Он вам поможет. Я начал его изучать, когда мне впервые пришлось иметь дело с вами. Он объяснил мне параллели, которые не поддаются объяснению. Вам свойственна фрейдистская вера в высшую власть причинности. В вашей вселенной не бывает беспричинных событий. По-вашему, о том, что невозможно осмыслить рассудком, даже размышлять не стоит. Так полагают многие умные евреи. Того, что не поддается осмыслению в рассудочных категориях, просто-напросто не существует. Как могу существовать я – ваша копия? Как можете существовать вы – моя копия? Вы и я – мы опровергаем причинно-следственные объяснения. Что ж, почитайте у Юнга про «синхроничность». Существуют полные смысла структуры, которые отвергают причинно-следственные объяснения, причем они возникают сплошь и рядом. Мы – случай синхроничности, феномен синхронизма. Загляните в Юнга, Филип, хотя бы ради душевного успокоения. «Неуправляемость реальных вещей» – об этом Карл Юнг знает все. Прочтите «Тайну золотого цветка». Она откроет вам глаза на другой мир – целый мир. У вас ошарашенный вид: вы теряетесь, когда нет причинно-следственных объяснений. Как могут существовать на свете двое мужчин-одногодков, которые не только похожи, но и носят одно и то же имя? Ну хорошо, вам нужна причинность? Я продемонстрирую вам причинность. Забудьте про нас двоих – еще полсотни маленьких еврейских мальчиков, наших ровесников, выросли бы похожими на нас, если бы не определенные трагические события в Европе с тридцать девятого по сорок пятый год. Так ли уж невозможно, что полдюжины из них могли носить фамилию Рот? Разве она настолько редкая? Разве невозможно, что парочку этих маленьких Ротов назвали в честь дедушки Файвеля – как вас, Филип, и как меня? Вы смотрите на это в своем профессиональном ракурсе и можете подумать: то, что нас двое и вы не уникальны, – просто кошмар. А я, глядя в своем еврейском ракурсе, вынужден сказать: по-моему, кошмар в том, что нас осталось всего двое.
– Нет, нет, это не кошмар – а основание для судебного преследования. Оно состоит в том, что один из оставшихся двух выдает себя за другого. Если б нас осталось на свете даже семь тысяч, только один из нас, поймите меня, написал бы мои книги.
– Филип, я ценю ваши книги так, как никто больше не способен их ценить. Но мы переживаем момент еврейской истории, когда у нас, согласитесь, есть и другие темы для разговоров, кроме ваших книг, особенно когда мы наконец-то сошлись вместе в Иерусалиме. Ну хорошо, я не препятствовал тому, чтобы люди принимали меня за вас. Но скажите-ка, прошу вас, как иначе я смог бы пробиться к Леху Валенсе?
– Не может быть, чтобы вы задавали мне этот вопрос всерьез.
– Почему же? Я задаю вам его, и для этого есть все основания. Какой вам вред от того, что я увиделся с Лехом Валенсой и имел с ним плодотворную беседу? Какой вред я этим причинил кому бы то ни было? Вред будет нанесен лишь в одном случае: если исключительно ради своих книг, не имея никакой другой причины, вы захотите удариться в сутяжничество и попытаетесь разрушить все, чего я добился в Гданьске. Да, закон на вашей стороне. Кто это отрицает? Я не затеял бы операцию такого масштаба, не изучив вначале все тонкости закона, с которым мне пришлось бы столкнуться. В деле «Онассис против „Кристиан Диор. Нью-Йорк, Инкорпорейтед“» – это когда профессиональная модель, двойник Джеки Онассис, снималась в рекламе платьев от Диора, – суд установил: фото двойника должны были создавать впечатление, будто Джеки Онассис связана с этим товаром, и удовлетворил ее иск. В деле «Карсон против „Портативных унитазов А вот и Джонни“» было вынесено сходное решение. Поскольку фраза «А вот и Джонни» ассоциировалась с Джонни Карсоном и его телепередачей, компания-производитель унитазов не имела права, рассудил суд, размещать эту надпись на своих портативных унитазах. Закон кристально четкий: даже когда ответчик использует свое подлинное имя, его могут судить за присвоение чужого имени, если использование имени намекает, что на самом деле здесь представлено другое физическое лицо, знаменитость с тем же именем. Как видите, я лучше вас разбираюсь в том, какие основания тут имеются для судебного преследования. Но мне, честно говоря, не верится, будто вы можете находить явное сходство между втюхиванием модных шматас[14], не говоря уж о продаже и прокате портативных унитазов, и миссией, которой я посвятил свою жизнь. Я использовал ваши достижения, словно они мои; да, если хотите, я украл ваши книги, пусть так. Но с какой целью? Еврейский народ снова оказался на страшном распутье. Из-за Израиля. Из-за Израиля и опасностей, которые он несет всем нам. Забудьте про законы и выслушайте, прошу вас, выслушайте меня. Большинство евреев не выбирает Израиль. Его существование только сбивает всех с толку – евреев и неевреев в равной мере. Повторяю: Израиль – это опасность для каждого. Посмотрите, что случилось с Поллардом. Джонатан Поллард все время стоит у меня перед глазами. Американский еврей, которому израильская разведка платила за шпионаж за военным истеблишментом его собственной страны. Меня пугает Джонатан Поллард. И вот почему: занимай я его должность в военно-морской разведке США, я сделал бы ровно то же самое. Осмелюсь утверждать, Филип Рот, что и вы бы сделали то же самое, будь вы уверены, как был уверен Поллард, что, передавая Израилю секретную американскую информацию о системах вооружения арабов, вы сможете спасти жизнь евреям. Поллард навоображал себе, что спасает еврейские жизни. Я это понимаю, и вы это понимаете: евреев надо спасать, причем абсолютно любой ценой. Но цена – это не государственная измена, цена намного выше: она в том, чтобы обезвредить страну, которая сегодня представляет главную опасность для жизни евреев, – страну под названием Израиль! Я никому другому не сказал бы такого – говорю это только вам. Но это должно быть сказано. Поллард – всего лишь еще один еврей, пострадавший от существования Израиля, потому что он, по сути, сделал не более того, чего Израиль постоянно требует от евреев диаспоры. Я возлагаю ответственность не на Полларда, я возлагаю ответственность на Израиль – Израиль, который с его всеобъемлющим еврейским тотализмом[15] сменил гойим в качестве главного источника запугивания евреев; Израиль, который сегодня, из-за своей жажды залучить к себе побольше евреев, калечит и уродует их всевозможными ужасающими методами, да так, как прежде удавалось только нашим врагам-антисемитам. Поллард любит евреев. Я люблю евреев. И вы любите евреев. Но, пожалуйста, не надо больше Поллардов. И, боже упаси, Демьянюков тоже больше не надо. Про Демьянюка мы даже не поговорили. Я хочу услышать, что вы сегодня видели в зале суда. Вместо того, чтобы говорить об исках, не могли бы мы теперь, когда мы узнали друг друга чуть получше, поговорить о…
– Нет. Нет-нет. То, что происходит на этом судебном процессе, – не тема для разговоров между нами. Все, что там есть, не имеет ни малейшего отношения к афере, которую вы совершаете, выдавая себя за меня.
– Ну вот, опять вы про аферу, – печально пробормотал он с нарочито комичной еврейской интонацией. – Демьянюк в том суде имеет к нам самое прямое отношение. Если бы не Демьянюк, не Холокост, не Треблинка…
– Если это шутка, – сказал я, поднявшись со стула, – то шутка очень глупая, очень злая, и я вам советую подобные шутки немедленно прекратить! «Только не Треблинка» – пожалуйста, только не это. Послушайте, я не знаю, ни кто вы, ни что вы затеваете, но я вас предупреждаю – собирайте манатки и уезжайте отсюда! Манатки – и вон!
– О черт, где же официант? Вы вымокли до нитки, еще ничего не ели… – И, чтобы меня успокоить, он перегнулся через стол и взял меня за руку. – Просто погодите минутку… Официант!
– Руки прочь, фигляр! Я не хочу обедать – я хочу, чтобы вы исчезли из моей жизни! Как Кристиан Диор, как Джонни Карсон и портативные унитазы – вон!
– Боже, Филип, ну и вспыльчивость. Вы типичный инфарктник. Ведете себя так, будто я пытаюсь выставить вас на смех, но я, боже ж ты мой, я вас так высоко ценю, выше просто невозможно…
– Хватит! Вы мошенник!
– Но, – взмолился он, – вы же еще не знаете, что я пытаюсь сделать.
– Знаю. Вы вот-вот оставите Израиль без израильских ашкеназов. Вот-вот переселите евреев во все расчудесные места, где их когда-то носило на руках местное быдло. Вы и Валенса, вы и Чаушеску вот-вот предотвратите второй Холокост!
– Но… значит… это были вы, – вскричал он. – Пьер Роже – это были вы! Вы меня надули! – И он весь поник, ужаснувшись открытию – натуральная комедия дель арте, да и только.
– А ну-ка, повторите? Что я сделал?
Но он уже обливался слезами, во второй раз с момента нашей встречи. Что с ним такое? Глядя, как он бесстыдно дает волю эмоциям, я припомнил свои хальционовые истерики. Что это – его пародия на мое бессилие, еще одна комедийная импровизация, либо он сам сидит на хальционе? Что это – блестящий талант, с чьей эрзац-сатирой я тут имею дело, или всамделишный эрзац-маньяк? Я подумал: «Пусть над его загадкой ломает голову Оливер Сакс, а ты садись в такси и езжай отсюда», – но тут где-то в недрах моих внутренностей зародилось хихиканье, и вскоре меня подчинил себе смех – смех, брызнувший из какого-то пещеристого центра сообразительности, запрятанного даже глубже, чем мои страхи; несмотря на все неразрешенные загадки, мой собеседник показался мне самым безобидным существом за всю мою жизнь, самым жалким соперником за мое право первородства. Нет, решил я, на самом деле он – гениальная идея… о да, гениальная идея, в которую вдохнули жизнь!
* * *
Хоть я и опоздал на час с лишним, Аарон дожидался меня в кафе Дома Тихо. Он рассудил, что меня задержал ливень, и сидел один за столиком, на котором стоял только стакан с водой; сидел и терпеливо читал книжку.
Следующие полтора часа мы провели за едой и беседой про его роман «Цили», для начала обсудили мое предположение, что сознание ребенка, его взгляд на события – скрытая позиция автора, с которой ведется повествование не только в этом, но и в других его романах. Больше я ни о чем не говорил. Филипа Рота-претендента, раздавленного и униженного раскатами моего хохота, я оставил лить слезы в пустом гостиничном ресторане и теперь недоумевал: чего мне ждать дальше? Я повстречался с ним лицом к лицу – и что?
А вот это, сказал я себе, вот это. Сосредоточься на работе!
На основе нашего долгого разговора за обедом мы с Аароном смогли перенести на бумагу второй кусок интервью.
* * *
РОТ. В твоих книгах не бывает новостей из жизни общества, которые могли бы предостеречь «аппельфельдовскую жертву» об опасности, да и рок, нависший над жертвой, не изображается как часть европейской катастрофы. Это читатель домысливает исторические реперные точки, осознавая – так, как это не могут осознать жертвы, – масштаб всеохватного зла. Твое нежелание быть историком соединяется со взглядом сведущего читателя, который смотрит на книгу через призму истории; этим объясняется особое воздействие твоих произведений – потрясающая сила сюжетов, рассказанных крайне скупыми средствами. Вдобавок, когда ты лишаешь события их исторической подоплеки и изображаешь их на размытом фоне, это, наверно, ближе к растерянности людей, которые и не подозревали, что оказались на пороге катастрофы.
Я тут подумал, что в твоей прозе взгляд взрослых людей на происходящее – почти такой же узкий, как и взгляд детей, которые, разумеется, пока ничего не знают о календаре истории, куда можно было бы вписать череду текущих событий, и не обладают интеллектуальным инструментарием для их осмысления. Может быть, твое собственное восприятие – взгляд ребенка накануне Холокоста – отразилось в простоте, с которой воспринимается в твоих романах надвигающийся ужас.
АППЕЛЬФЕЛЬД. Ты прав. В «Баденхайме 1939» я начисто проигнорировал историческое объяснение событий. Предположил, что исторические факты уже известны и читатель сам заполнит лакуны. Да, твое предположение, что я описываю Вторую мировую, воспринятую отчасти глазами ребенка, кажется мне верным. Но исторических объяснений я чураюсь уже с тех пор, как вообще осознал себя писателем. А опыт евреев в годы Второй мировой не был «историческим». Мы соприкоснулись с архаическими мифическими силами, с неким погруженным в сумрак подсознанием, смысл которого был нам непонятен и остается непонятным доныне. На вид это рациональный мир – с поездами, расписаниями, станциями и машинистами, но в действительности рейсы совершались в фантазиях, все это были ложь и уловки, которые могли порождаться только некими глубинными, иррациональными устремлениями. Я не понимал и до сих пор не понимаю мотивов убийц.