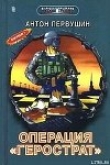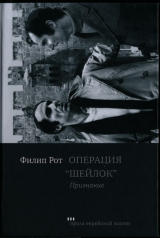
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
А что, спросил я себя, пока он педантично гнул свою линию, что, если больше всего он жаждет стереть свою собственную историю? Если он настолько сбрендил, что искренне считает мою историю своей; если у него психоз и заодно амнезия, и он ничуть не притворяется? Если каждое слово он произносит искренне, если притворяюсь из нас двоих только я?.. Но я абсолютно не мог понять, лучше для меня этот вариант или хуже. Как не смог и разобраться, снова начав ему безотчетно перечить, стал ли наш разговор еще абсурднее от моего всплеска искренности.
– Но Гитлер существовал на самом деле, – услышал я взволнованный голос Пьера Роже, информирующий собеседника. – Эти двенадцать лет невозможно ни вычеркнуть из истории, ни изгладить из памяти, даже если кто-то сознательно выберет для себя щадящую забывчивость. То, что значило истребление европейского еврейства, невозможно ни измерить, ни объяснить стремительностью, с которой это истребление совершилось.
– Нам еще только предстоит осознать значение Холокоста, – ответил он серьезно, – но одно очевидно: эта трагедия не умалится, если случится второй Холокост и потомки европейских евреев, которые покинули Европу ради якобы безопасного убежища, подвергнутся коллективному уничтожению на Ближнем Востоке. На европейском континенте второй Холокост невозможен, потому что там случился первый. Но здесь он может произойти даже слишком легко, а если арабо-еврейский конфликт обострится, и надолго, то произойдет непременно – это неизбежно. Уничтожение Израиля при обмене ядерными ударами – сегодня гораздо менее фантастический сценарий, чем даже Холокост пятьдесят лет тому назад.
– Переселение более миллиона евреев в Европу. Роспуск израильской армии. Возвращение к границам тысяча девятьсот сорок восьмого года. Мне кажется, – сказал я, – что вы предлагаете окончательное решение еврейского вопроса для Ясира Арафата.
– Нет. Для Арафата окончательное решение такое же, как для Гитлера, – истребление. Я предлагаю альтернативу истреблению, решение не еврейской проблемы Арафата, а нашей собственной проблемы, решение, сопоставимое по размаху и масштабу с отжившим свое решением, которое получило название «сионизм». Но я не хочу, чтобы во Франции или любой другой стране меня поняли превратно. Повторяю: в послевоенный период, когда Европа по очевидным причинам не годилась для проживания евреев, сионизм, и только он, стал величайшей силой, вернувшей евреям надежду и мужество. Но, успешно восстановив духовное здоровье евреев, сионизм трагически подорвал свое собственное здоровье и теперь должен примкнуть к энергичному диаспоризму.
– Дайте, пожалуйста, определение диаспоризма для моей аудитории, – попросил я, а сам подумал: чопорная риторика, профессорская манера изложения, историческая перспектива, страстная преданность своей идее, мрачные обертоны… Что же это за мистификация такая?
– Диаспоризм стремится пропагандировать рассеяние евреев на Западе, особенно переселение израильских евреев европейского происхождения в европейские страны, где до Второй мировой войны проживало многочисленное еврейское население. Диаспоризм планирует возродить всё не на чуждом и зловещем Ближнем Востоке, но на тех же землях, где всё это когда-то процветало, а заодно предотвратить катастрофу – тот второй Холокост, которым чревато ослабление сионизма как политической и идеологической силы. Сионизм намеревался возродить еврейскую жизнь и древнееврейский язык в местах, где почти два тысячелетия не было условий для полнокровного существования ни той, ни другого. Мечты диаспоризма куда скромнее: от того, что уничтожил Гитлер, нас отделяют каких-то полстолетия. Если уж еврейских ресурсов хватило на то, чтобы за неполных полстолетия достигнуть целей сионизма, казавшихся фантастическими, то теперь, когда сионизм контрпродуктивен и сам превратился в первостепенную проблему еврейского народа, я совершенно уверен: ресурсы мирового еврейства могут достигнуть целей диаспоризма вдвое, а может быть, и вдесятеро быстрее.
– Вы говорите о переселении евреев в Польшу, Румынию, Германию? В Словакию, на Украину, в Югославию, в страны Балтии? И при этом осознаете, не правда ли, – спросил я у него, – насколько сильна ненависть к евреям, сохранившаяся почти во всех этих странах?
– Какой бы сильной ни была ненависть к евреям в Европе – а я не пытаюсь преуменьшить ее живучесть, – остаточному антисемитизму противостоят мощные нравственно-просветительские течения, основанные на памяти о Холокосте – кошмаре, который стал заслоном от европейского антисемитизма, даже самого лютого. В исламе подобного заслона нет. Истребление евреев не будет стоить исламу ни одной бессонной ночи – кроме ночи ликования. Думаю, вы согласитесь, что сегодня еврею безопаснее бесцельно шататься по Берлину, чем оказаться без оружия на улицах Рамаллы.
– А может ли еврей шататься по Тель-Авиву?
– Ракеты с химическими боеголовками в Дамаске нацелены не на центр Варшавы, а прямо на улицу Дизенгоф.
– Стало быть, диаспоризм сводится к тому, что пугливые евреи обращаются в бегство, евреи в панике снова удирают.
– Бежать от надвигающегося катаклизма – значит «удирать» разве что от верной гибели. Это бегство в жизнь. Если бы в тридцатых годах из Германии сбежало на несколько тысяч больше пугливых евреев…
– Их сбежало бы больше, – сказал я, – будь им куда бежать. Вы должны помнить, что в других странах их привечали не больше, чем приветили бы сегодня на вокзале в Варшаве толпу евреев, убегающих от нападения арабов.
– А знаете, что будет на вокзале в Варшаве, когда туда вернется первый железнодорожный состав с евреями? Целые толпы выйдут их приветствовать. Будет ликование. Будут слезы. Будут возгласы: «Наши евреи вернулись! Наши евреи вернулись!» Эту картину будет транслировать телевидение на весь мир. И какой исторический день для Европы, для еврейства, для всего человечества, когда вагоны-скотовозы, которые доставляли евреев в лагеря смерти, превратятся усилиями диаспористов в приличные, комфортабельные вагоны, везущие десятки тысяч евреев назад в их родные города и веси! Исторический день для памяти человечества, для торжества справедливости – и для искупления вины. На вокзалах, куда стекутся толпы, чтобы петь, плакать и праздновать, где люди с христианскими молитвами на устах преклонят колени и припадут к ногам своих еврейских братьев, – только там и только тогда начнет очищаться совесть Европы, – тут он сделал театральную паузу, а затем нанес последний штрих на эту провидческую панораму, заявив тихо и твердо: – И Лех Валенса, кстати, верит в это не менее горячо, чем Филип Рот.
– Ой ли? Примите заверения в моем почтении к вам, Филип Рот, но ваше пророчество кажется мне нелепым. Мне кажется, это фарсовый сценарий из какой-то вашей книги: поляки у ног евреев плачут от радости! И вы уверяете, что больше не сочиняете романов?
– Это непременно произойдет, – возвестил он тоном оракула, – потому что это должно произойти: реинтеграция евреев в Европе к двухтысячному году, причем, поймите, это станет не просто возвращением беженцев, а упорядоченным переселением на основе международного права, с реституцией имущества, восстановлением в гражданстве и во всех гражданских правах. А затем, в двухтысячном году, в Берлине состоятся панъевропейские торжества во славу реинтегрированного еврея.
– Вот эта идея лучше всех, – сказал я. – Немцам будет особенно приятно встретить третье тысячелетие христианства вместе с парой миллионов евреев, празднующих у Бранденбургских ворот возвращение домой.
– В свое время Герцля тоже именовали писателем-сатириком и обвиняли в тонкой издевке, когда он предложил создать еврейское государство. Его план многие осуждали, сочтя уморительной фантазией, нелепым вымыслом. Герцля тоже называли безумцем. Но мой разговор с Лехом Валенсой не был нелепым вымыслом. Контакт, который я наладил с президентом Чаушеску через главного раввина Румынии, – не нелепый вымысел. Это первые шаги к новой еврейской реальности, основанной на принципах исторической справедливости. Президент Чаушеску уже много лет продает евреев Израилю. Да, вы не ослышались: Чаушеску продал израильтянам несколько сот тысяч румынских евреев по десять тысяч долларов за голову. Это факт. Что ж, я собираюсь предложить ему еще десять тысяч долларов за каждого еврея, которого он примет обратно. Если понадобится, я подниму цену до пятнадцати. Я тщательно изучил биографию Герцля и на его опыте научился иметь дело с такими людьми. Переговоры Герцля с султаном в Константинополе хоть и закончились неудачей, были уморительной фантазией не в большей мере, чем переговоры с диктатором Румынии в его бухарестском дворце, которые скоро начну я.
– А где взять деньги на отступные диктатору? Предполагаю: чтобы привлечь финансирование для вашей затеи, вам достаточно обратиться в ООП[10].
– У меня есть все основания полагать, что финансирование поступит от американских евреев, которые десятилетиями дают огромные деньги на выживание страны, с которой их связывают лишь самые абстрактные узы сантиментов. Корни американского еврейства – не на Ближнем Востоке, но в Европе: их еврейские манеры, их еврейский лексикон, их глубокая ностальгия, их подлинная, весомая история – все отсылает к европейским истокам. Дедушка был не из Хайфы – дедушка приехал из Минска, дедушка не был еврейским националистом – он был еврейским гуманистом, высокодуховным, благочестивым евреем, который причитал не на древнем языке под названием «иврит», а на цветистом, богатом, родном для него идише.
Тут наш разговор прервала телефонистка отеля, сообщив, что его вызывает Франкфурт.
– Пьер, подождите секунду на линии.
«Пьер, подождите секунду на линии», – и я повиновался, подождал, и, естественно, покорное ожидание момента, пока разговор возобновится, выставило меня еще большим посмешищем в собственных глазах, чем припоминание всего, что я наболтал во время нашей беседы. Надо было записать ее на диктофон, смекнул я, – тогда я получил бы улику, доказательство. Но доказательство чего? Что он – это не я? Значит, это еще и требуется доказывать?
– Один ваш немецкий коллега, – сказал он, вернувшись к нашей беседе, – журналист из «Шпигеля». Вы должны меня извинить, теперь я распрощаюсь с вами, чтобы с ним поговорить. Он пытался дозвониться до меня несколько дней. Интервью было хорошее, сильное, вы задавали агрессивные и неудобные, но умные вопросы, и я вам за них благодарен.
– И все же еще один, последний неудобный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, – спросил я, – они уже выстраиваются в очередь – румынские евреи, которым до смерти хочется обратно в Румынию Чаушеску? Они уже выстраиваются в очередь – польские евреи, которым до смерти хочется обратно в коммунистическую Польшу? А те русские, которые с огромными трудностями покидают СССР, – вы планируете разворачивать их в тель-авивском аэропорту и насильно сажать на ближайший обратный рейс на Москву? Оставим в стороне антисемитизм, но, как вы думаете, те, кто только что прибыл из этих ужасных мест, добровольно решат вернуться по одному слову Филипа Рота?
– Полагаю, я уже достаточно четко разъяснил вам свою позицию, – ответил он чрезвычайно учтиво. – В какой газете будет опубликовано наше интервью?
– Я фрилансер, мистер Филип Рот. Оно может выйти где угодно, от «Монд» до «Пари-Матч».
– Не будете ли вы любезны прислать экземпляр мне в отель, когда оно выйдет?
– Как долго вы собираетесь там пробыть?
– Пока распад еврейской идентичности угрожает благополучию моего народа. Пока диаспоризм раз и навсегда не восстановит цельность раздробленного еврейского существования. Напомните, Пьер, как ваша фамилия?
– Роже, – сказал я. – Как тезаурус.
Его раскатистый смех прозвучал слишком добросердечно, чтобы я поверил, будто он смеется исключительно над моей жалкой остротой. Знает, подумал я, вешая трубку. Он отлично знает, кто я такой.
2
Жизнь, которая не была моей
На судебном процессе шесть престарелых бывших узников Треблинки свидетельствовали, что с июля 1942-го по сентябрь 1943-го – то есть на протяжении пятнадцати месяцев, когда в Треблинке уничтожили почти миллион евреев, – тамошней газовой камерой заведовал охранник, известный евреям под прозвищем Иван Грозный, который заодно предавался своему увлечению – пытал и калечил, предпочтительно с помощью тесака, раздетых донага мужчин, женщин и детей, которых пригоняли, как стадо, к душегубке и держали перед входом, пока не наступит их очередь умереть от газа. Иван был сильным, энергичным, малограмотным советским солдатом, украинцем лет двадцати с небольшим, которого немцы взяли в плен на Восточном фронте и, наряду с сотнями других украинцев-военнопленных, завербовали и обучили для службы в лагерях уничтожения Белжец, Собибор и Треблинка, находившихся на польской территории. Адвокаты Джона Демьянюка, в том числе израильтянин Йорам Шефтель, никогда не оспаривали ни факт существования «Ивана Грозного», ни ужасающий характер его злодеяний. Они лишь утверждали, что Демьянюк и «Иван Грозный» – два разных человека, а все доказательства в пользу версии, что это одно и то же лицо, ничтожны. Адвокаты уверяли: набор фотографий для опознания, который составила для уцелевших узников Треблинки израильская полиция, не заслуживает никакого доверия, поскольку в результате несовершенной, дилетантской методики бывших узников склонили подсказками или иными манипуляциями к ошибочному опознанию, дабы они сочли Демьянюка тем самым Иваном. Возражая стороне обвинения, адвокаты заявляли, что единственное документальное доказательство – удостоверение личности из учебного лагеря СС Травники, где готовили охранников Треблинки (удостоверение с именем, подписью, личными данными и фотографией Демьянюка), – фальшивка, изготовленная в КГБ, чтобы очернить украинских националистов, выставив члена их организации жестоким военным преступником. Адвокаты утверждали: в тот период, когда «Иван Грозный» заведовал газовой камерой в Треблинке, Демьянюка держали в немецком плену в другом месте, на значительном отдалении от расположенных в Польше лагерей смерти. По версии защиты, Демьянюк – трудолюбивый набожный семьянин, прибывший в Америку в 1952 году из европейского лагеря перемещенных лиц вместе с молодой женой-украинкой и маленьким ребенком, ныне он отец троих взрослых детей – заправских американцев, квалифицированный рабочий автозавода компании «Форд», добропорядочный, законопослушный американский гражданин, известный в пригороде Кливленда среди американцев украинского происхождения своим превосходным огородом, да еще пирогами – помогает женщинам печь их к праздникам в православном храме Св. Владимира. И виноват он разве что в том, что родился украинцем, носил прежде имя Иван и был примерно однолетком, а возможно, даже слегка напоминал внешне того украинца Ивана, которого престарелые бывшие узники Треблинки видели более сорока лет назад. В начале процесса Демьянюк сам взмолился, обращаясь к судьям: «Я не тот страшный человек, о котором вы говорите. Я невиновен».
Все это я узнал из толстого досье с ксерокопиями газетных вырезок о процессе Демьянюка, которое купил в редакции англоязычной израильской газеты «Джерузалем пост», – по дороге из аэропорта раскрыл свежую газету и увидел его рекламу, после чего, забросив чемодан в гостиницу, я поменял планы – вместо того чтобы позвонить Аптеру и назначить встречу под вечер, поехал на такси прямо в редакцию. Затем, прежде чем отправиться в иерусалимский ресторан, где мы должны были поужинать с Аароном, я внимательно прочел несколько сот вырезок, накопленных за десять лет с момента, когда правительство США подало в Кливлендский окружной суд иск о лишении Демьянюка гражданства за ложные сведения о местонахождении во время Второй мировой войны, представленные им при подаче заявления на визу.
Читал я за столиком в саду во внутреннем дворике отеля «Американская колония». Обычно я останавливался в квартале Мишкенот-Шаананим, в гостевом доме для заезжих ученых и творческих людей, принадлежавшем «Иерусалимскому фонду» местного мэра, – то есть в здании, которое находилось в каких-то двухстах метрах от отеля «Царь Давид». Я заранее, за несколько месяцев, застолбил там апартаменты для январской поездки, но за день до отъезда из Лондона отменил заказ и забронировал номер в «Американской колонии» – отеле с арабской обслугой на другом конце Иерусалима, практически у той границы, которая до 1968 года отделяла иорданский Иерусалим от израильского, и всего в нескольких кварталах от того района арабского Старого города, где в последние недели спорадически возникали стычки с полицией. Я объяснил Клэр, что сменил отель, дабы держаться подальше от другого Филипа Рота, если тот, не посчитавшись с опровержением в газете, до сих пор ошивается в Иерусалиме и проживает в «Царе Давиде» под моим именем. Если я буду жить в арабском отеле, сказал я ей, то вероятность пересечься с ним будет сведена до минимума, а ведь Клэр сама остерегала меня от безрассудных попыток приблизить встречу. «А вероятность погибнуть под градом камней, – ответила Клэр, – возрастет до максимума». – «Послушай, – возразил я, – в „Американской колонии“ я буду жить почти что инкогнито, и на данный момент это самая мудрая, наименее провокационная, самая благоразумная стратегия». – «Нет, самая мудрая стратегия – пригласить Аарона, он может занять нашу комнату для гостей – пусть приедет и поживет с тобой в Лондоне». Собственно, мы с Клэр уезжали в один и тот же день: я – в Израиль, она – в Африку, в Кению, на киносъемки; вот я и сказал ей, когда мы прощались в аэропорту Хитроу, что на улицах Найроби вероятность попасть на ужин льву не больше, чем попасть в беду в первоклассном отеле на краю Восточного Иерусалима. Клэр мрачно покачала головой и отправилась в Кению.
Дочитав до статьи за прошлую неделю – там была просьба адвоката Йорама Шефтеля приобщить к делу на финальной стадии процесса десять новых документов в качестве доказательств, – я призадумался: а если именно на процессе Демьянюка самозванец впервые догадался притвориться мной, и надоумила его проблема идентичности – главная загвоздка этого судебного дела? А может, все было иначе: он сознательно решил пощеголять в чужой маске на судебном процессе, который пространно освещает пресса – это же отличный шанс попиариться. Какая гнусность, подумал я, выкинуть этот безумный фортель в самом разгаре столь мрачного и трагического судебного разбирательства; так я подумал и – если честно, впервые в жизни – поймал себя на возмущении, которое наверняка с самого начала обуяло бы тех, кто не разделяет мой профессиональный интерес к подобным махинациям; я возмутился не только тем, что самозванец по неведомой причине вздумал публично переплести мою судьбу со своей, но и его решением проделать это именно здесь.
В тот вечер за ужином у меня не раз появлялась мысль: а не попросить ли Аарона порекомендовать мне какого-нибудь иерусалимского юриста, который проконсультирует меня насчет моей проблемы? Но я по большей части отмалчивался, пока Аарон рассказывал о своей недавней гостье – француженке, университетской преподавательнице, замужней матери двоих детей, которую, когда она была новорожденным младенцем, нашли на погосте одной парижской церкви всего за несколько месяцев до освобождения города союзниками в 1944 году. Приемные родители воспитали ее в католической вере, но несколько лет назад она пришла к выводу, что на самом деле ведет род от евреев и настоящие родители, евреи, скрывавшиеся где-то в Париже, подкинули ее к церкви, чтобы малышку не сочли еврейкой и не воспитали в еврейских традициях. Догадка появилась у нее во время войны в Ливане, когда все вокруг, в том числе ее муж и дети, осуждали израильтян, называли убийцами и преступниками, а она вдруг обнаружила, что запальчиво оправдывает их – в одиночку, под градом нападок.
Она знала Аарона только по его книгам, но все же послала ему убедительное и страстное письмо о своем открытии. Он написал сочувственный ответ, и спустя несколько дней она постучалась в его дверь, чтобы попросить найти раввина, который обратит ее в иудаизм. В тот вечер, за ужином с Аароном и его женой Юдифью, она толковала, что никогда в жизни не чувствовала себя во Франции своей; хотя она безупречно пишет и говорит по-французски, а по внешности и манерам все считают ее самой настоящей француженкой, сама она полна страстной уверенности: она еврейка, и ее место среди евреев.
На следующее утро Аарон повел ее к своему знакомому раввину и спросил, возьмется ли он обратить ее в иудаизм. Тот отказался, как и еще три раввина, которых они посетили вместе. Доводы у всех были примерно одинаковые: ее муж и дети – неевреи, а раввины стараются не разделять семьи по религиозному признаку. «Ну, допустим, я разведусь с мужем, откажусь от детей…» Но нет – на самом деле она обожала мужа и детей, и раввин, в разговоре с которым она вызвалась обойтись с ними таким образом, воспринял ее идею не более серьезно, чем она.
После неудачной недели в Иерусалиме, удрученная тем, что так и осталась католичкой и поневоле возвращается к прежней жизни во Франции, накануне отъезда она пришла поужинать к Аппельфельдам, и тогда Аарон и Юдифь, которые больше не могли видеть ее страдания, внезапно объявили ей: «Вы – еврейка! Мы, Аппельфельды, объявляем вас еврейкой! Готово – мы вас обратили!»
Когда, сидя в ресторане, мы вместе хохотали над уморительной дерзостью этого добросердечного поступка, Аарон – малорослый, плотно сложенный очкарик с идеально круглым лицом и идеально лысой головой – показался мне вылитым добрым волшебником, таким же виртуозом надувательства, как и его тезка, брат Моисея. Позднее я написал в вводной части нашего интервью: «Он запросто сошел бы за фокусника, который на днях рождения развлекает детей, вытаскивая голубей из шляпы: его мягкое, приветливое и добродушное лицо как-то проще ассоциировать с этой профессией, чем с той работой, к которой он, по-видимому, чувствует роковое влечение, – отражением в череде неуловимо-зловещих историй того факта, что почти все еврейское население Европы, в том числе родители самого Аарона, исчезло с лица земли». Сам Аарон уцелел благодаря тому, что девятилетним мальчиком сбежал из концлагеря, находившегося в Приднестровье, и то скрывался в лесах, самостоятельно добывая пищу, то батрачил на местных небогатых крестьян, и просуществовал так три года, пока его не освободили русские. До лагеря он был балованным ребенком из богатой и в значительной степени ассимилированной еврейской семьи, которая жила в Буковине; мальчика нарядно одевали, за ним присматривали няни и гувернантки.
– Если уж Аппельфельд произвел кого-то в евреи, – сказал я, – это не кот начихал. Этого у тебя не отнять – способности присваивать людям это звание. Ты даже меня пытаешься произвести в евреи.
– Нет, Филип, только не тебя. Ты стал образцовым евреем много лет назад, задолго до того, как наши жизненные пути пересеклись.
– Вот уж нет, я никогда не был исключительно, стопроцентно и беспрерывно тем евреем, которым тебе нравится меня представлять.
– Был-был: исключительно, стопроцентно, беспрерывно, непреодолимо. И для меня окончательное тому доказательство – то, что ты с такой яростью продолжаешь это отрицать.
– От твоих доводов, – сказал я, – нет защиты.
Он тихо засмеялся:
– Вот и хорошо.
– А скажи-ка, ты сам веришь в то, что навоображала про себя эта преподавательница-католичка?
– Для меня не имеет никакого значения, во что я верю, а во что – нет.
– Пусть так, но как быть с тем, во что верит она? Неужели ей не приходит в голову, что ее подкинули к церкви именно потому, что она не еврейка? А чувство обособленности – не от того, что она родилась еврейкой, а от того, что она сирота и росла в приемной семье? И вообще, разве мать-еврейка бросила бы свое дитя накануне освобождения, когда шанс выжить был максимально велик? Нет-нет, то, что ее нашли там, где нашли, означает, что версия еврейского происхождения – самая маловероятная.
– Но все же какая-то вероятность есть. Пусть до прихода союзников оставались считаные дни, ее родителям надо было как-то переждать эти дни в укромном месте. А когда у тебя на руках плачущий младенец, остаться незамеченным почти нереально.
– Это она так думает.
– Да, это один из ее аргументов.
– Ну-ну, всякий человек, естественно, волен думать, что пожелает… – А сам я тогда, естественно, думал о человеке, который желал, чтобы все думали, будто он – это я, а может, и он тоже так думает?
– Вид у тебя усталый, – сказал Аарон. – Расстроенный. Ты сегодня сам не свой.
– А мне уже и не надо быть собой. На этот случай я нашел кой-кого себе на подмену.
– Но в газетах ничего нет, я больше ничего не видел.
– Ну-у… свою затею он не бросил, я уверен. Что и кто ему помешает? Определенно, не я. Но надо же мне хотя бы попытаться, а? Ты бы попытался? Всякий здравомыслящий человек попытался бы, разве нет? – Я поймал себя на том, что теперь, когда Клэр далеко, перехожу на ее позицию. – Может, мне стоит поместить объявление в «Джерузалем пост» – сообщить израильтянам, что по их стране разгуливает самозванец, объявить, что я отрекаюсь от всего, что он говорит или делает от моего имени? Объявление во всю полосу, на правах рекламы – и готово, с этой историей враз будет покончено. Или выступлю по телевидению. А лучше просто пойду в полицию – ведь, скорее всего, он ездит по подложным документам. Уж какой-нибудь закон он точно нарушает.
– Но вместо всего этого ты ничего не предпринимаешь.
– Кое-что все-таки предпринял. После разговора с тобой я ему позвонил. В отель «Царь Давид». Взял у него интервью по телефону, прямо из Лондона – журналистом прикинулся.
– Ага, и, похоже, ты это проделал с удовольствием – вот теперь ты стал самим собой.
– Что ж, определенное удовольствие я получил. Но, Аарон, как же мне поступить? Ситуация слишком смешная, чтобы относиться к ней серьезно, и слишком серьезная, чтобы над ней смеяться. Да еще и бередит во мне – бередит заново – те самые настроения, которые я несколько месяцев гоню от себя поганой метлой. Знаешь, что самое мучительное при нервном срыве? Ячество. Синдром микрокосма. Рискуешь утопиться в мелкой лужице своего «я». В самолете, пока сюда летел, я мысленно разложил все по полочкам: в Иерусалиме устрою себе десубъективацию, включу себя в категорию Аппельфельда, окунусь в океан принципиально иной личности – в смысле, твоей личности. И что же – держи карман шире: тут объявился другой «я», чтобы нервировать меня и доводить, эдакий «я», который даже не я, о котором я исступленно думаю денно и нощно… И вот этот «я», который не я, дерзко встал лагерем в еврейском Иерусалиме, пока я скрываюсь в подполье у арабов.
– Так вот почему ты там остановился.
– Да, потому что я здесь не ради него, а ради тебя. Так я наметил, и знай, Аарон: мой план ничуть не изменился. Смотри-ка, – и я достал из кармана пиджака листок бумаги, на котором напечатал свой первый вопрос к Аарону, – давай начнем работать. А этого типа пошлем ко всем чертям. Читай.
Вот что я написал: «В твоей прозе мне слышатся отголоски двух центральноевропейских писателей предыдущего поколения – Бруно Шульца, польского еврея, который писал на польском и в пятьдесят лет был застрелен нацистами в Дрогобыче, галицийском городе с многочисленным еврейским населением, где он преподавал в гимназии и жил в кругу своей семьи, и Кафки, пражского еврея, который писал на немецком и тоже провел почти всю жизнь (а умер он в неполных сорок два) „в семейном кругу, точно во власти заклятия“, как выразился Макс Брод. Как ты считаешь, насколько близко твое творчество к Шульцу и Кафке?»
И тогда, за чаем, мы взялись беседовать не обо мне и не о том, кто был не мной, но, несколько более плодотворно, о Шульце и Кафке, пока наконец не утомились и не пришел час разойтись по домам. Да, подумал я, вот как надо преодолевать проблемы – забудь про эту тень и сосредоточься на своем деле. Изо всех, кто помогал мне восстановиться – Клэр, Берни, психофармаколог и другие, – я выбрал Аарона, чтобы наша беседа окончательно побудила меня вернуться в большой мир, помогла вновь обрести ту грань моей личности, которую я было счел утерянной – способность рассуждать и мыслить, которая попросту отключилась на пике огненных бомбардировок хальционом, когда я уверился, что никогда больше не смогу применить свой разум. Если б хальцион испепелил только заурядные компоненты моего существования, это уже было бы невыносимо, но он выжег и все необычное; а вот Аарон, чье взросление было исковеркано самыми страшными зверствами, все-таки сумел, собрав в кулак свою незаурядность, восстановить в себе способность к заурядному существованию, и его победа над тщетой и хаосом, его второе рождение в качестве гармоничной личности и первоклассного писателя – по-моему, подвиг, подобный чуду; вдобавок Аарон обязан им своей внутренней силе, которая со стороны совершенно незаметна.
Поздно вечером, перед сном, Аарон сформулировал по-своему то, что объяснял мне в ресторане, и напечатал на машинке свои ответы, изложенные на иврите, чтобы на следующий день отдать переводчику. Насчет Кафки и себя он сказал: «Кафка выходит в путь из своего внутреннего мира и пытается худо-бедно освоиться с реальностью, а я пришел из мира подробной, эмпирической реальности – из лагерей и лесов. Реальность, в которой я жил, дала сто очков вперед любым фантазиям, и моя писательская задача состояла не в том, чтобы развить собственное воображение, а в том, чтобы обуздать его, причем мне даже тогда казалось, что обуздать его невозможно, поскольку события принимали настолько неправдоподобный оборот, что я сам себе казался вымышленным персонажем… Первое время я пытался сбежать от себя и своих воспоминаний, жить жизнью, которая не была моей, писать о жизни, которая не была моей. Но какое-то затаенное чувство подсказало, что мне не разрешено сбежать от себя, и, если я не перестану отрицать опыт, полученный в детстве во время Холокоста, меня ждет деформация души…»
* * *
Мой крошечный кузен Аптер, нерожденный взрослый, зарабатывает на жизнь пейзажами Святой земли – пишет их маслом на потребу туристам. Пейзажами он торгует в маленьком, втиснутом между сувенирной лавкой и булочной, магазине-мастерской, который арендует напополам с мастером-кожевником в еврейском квартале Старого города. Туристы, осведомившись «Сколько стоит?», получают ответ на своих родных языках, поскольку Аптер, хоть и остановился в развитии, благодаря своей биографии свободно овладел английским, ивритом, идишем, польским, русским и немецким. Немного знает даже украинский – «гойиш», как он его именует. Итак, поинтересовавшись у Аптера, сколько стоит полотно, туристы слышат: «Я не вправе устанавливать цену»; к сожалению, это не ложная скромность, ведь Аптер – слишком большой эстет, чтобы высоко ценить собственные картины. «Что с того, что я обожаю Сезанна, молюсь и рыдаю перед его картинами, – свои я малюю, словно какой-нибудь филистер, не знающий ничего возвышенного». – «В своем роде, – говорю я ему, – твои картины очень даже ничего». – «Отчего я пишу такие никудышные картины? – спрашивает он. – Неужели и в этом Гитлер виноват?» – «Если это тебя немного утешит, картины Гитлера были еще хуже». «Нет, – говорит Аптер, – его картины я видел. Даже Гитлер был живописцем получше меня».