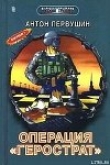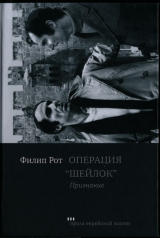
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Я подождал ответа. «Я сознаю, что вы имели в виду вовсе не такое партнерство». Эти слова я произнес напрасно, но в остальном, подумал я, в условиях столь неопределенного угрожающего положения никто не мог бы высказаться изворотливее. Малодушия я тоже не проявил. Я сказал более или менее то, что он хотел от меня услышать, но при этом – нечто более или менее правдивое.
Однако, не получив никакого ответа, я моментально утратил изворотливость, которая во мне все-таки, возможно, есть, и объявил – причем мой голос уже не звучал размеренно и спокойно:
– Пипик, если вы не можете меня простить, подайте мне знак, что вы там, что вы здесь, что вы меня слышите, что я не со стенкой разговариваю! – Либо, подумал я, я разговариваю с кем-то, кто еще меньше склонен прощать, с кем-то, способным на упреки, которые еще суровее, чем молчание Пипика. – Чего вы требуете, жертву всесожжения? Я больше никогда даже близко не подойду к вашей девушке, мы раздобудем для вас ваши проклятые деньги – скажите что-нибудь, прямо сейчас! Ну же, говорите!
И только тогда я понял, чего он на самом деле от меня требует, – мало того, я наконец-то понял, как неуклюже с ним обошелся, как неуклюже обходился с самого начала, как непростительно сам себе навредил своей оплошностью, отказывая самозванцу в том, чего любой самозванец жаждет, в том, без чего ему никак нельзя, в том обряде миропомазания, который только я мог совершить над ним в убедительной форме. Только когда я произнесу свое имя так, как будто считаю, что оно – и его тоже, только тогда Пипик появится передо мной и начнутся переговоры ради усмирения его гнева.
– Филип, – сказал я.
Он не откликался.
– Филип, – сказал я снова, – я вам не враг. Я не хочу быть вашим врагом. Я хотел бы, чтобы у нас были теплые отношения. Я почти раздавлен тем, чем обернулась вся эта история, и, если еще не поздно, я хотел бы стать вашим другом.
Ничего. Никого.
– Я был язвительным и бесчувственным, и я наказан, – сказал я. – Это несправедливо – возвышать себя и принижать вас, обращаясь к вам так, как я к вам обращался. Мне бы следовало называть вас вашим именем так, как вы называли меня моим. И отныне я буду это делать. Буду. Буду. Я Филип Рот, и вы Филип Рот, я подобен вам, и вы подобны мне, по имени и не только по имени…
Но он на это не купился. Либо его там не было.
Его там не было. Через час дверь распахнулась, и в класс, ковыляя, вошел Смайлсбургер.
– Дождались меня? Очень любезно с вашей стороны, – сказал он. – Мне страшно неудобно, но меня задержали.
10
Не враждуй на брата твоего в сердце твоем
Когда он вошел, я читал. Чтобы создать у любого возможного наблюдателя впечатление, что я пока не парализован страхом или не одержим галлюцинациями, что дожидаюсь я с таким видом, будто нахожусь в банальной очереди к стоматологу или парикмахеру, чтобы отвлечься от испуга, приковавшего меня к стулу, а также – и в этом я всего острее нуждался – сосредоточиться на чем-либо, кроме чрезмерно дерзкой отваги, настойчиво побуждавшей меня выпрыгнуть в окно, я достал из обоих карманов предполагаемые дневники Леона Клингхоффера и, сделав колоссальное умственное усилие, перевел себя на путь словесности – совсем как переводят вагоны на запасный путь.
Как бы обрадовались мои учителя, подумал я, – он даже здесь читает! Но это был не первый и не последний случай, когда, беспомощный перед грозящей неизвестностью, я ухватился за печатное слово в надежде унять свои страхи и удержать мир от полного распада. В 1960 году менее чем в сотне метров от стен Ватикана я однажды вечером сидел, совершенно один, в приемной безвестного итальянского врача и читал роман Эдит Уортон, пока за дверью, в операционной, моей тогдашней жене делали нелегальный аборт. Как-то раз в самолете, двигатель которого пугающе дымил, я услышал леденяще-спокойное объявление пилота, сообщавшего, как и где он собирается совершить посадку, и сразу же сказал себе: «А ты просто читай Конрада, как читал, не отвлекайся», – и снова уткнулся в «Ностромо», упрятав на периферию сознания едкую мысль, что, по крайней мере, я смогу умереть так, как жил. А через два года после удачного побега из Иерусалима, срочно среди ночи госпитализированный с коронарной недостаточностью в Нью-Йоркскую городскую больницу, с кислородной трубкой в носу, в окружении целого созвездия врачей и медсестер, скрупулезно следивших за признаками жизни в моем теле, я ждал решения об операции на моих полузакупоренных артериях и тем временем читал, не без удовольствия, веселый роман Беллоу «В связи с Белларозой». Книгу, за которую цепляешься в ожидании худшего, ты вряд ли когда-нибудь сможешь толком пересказать – но никогда не забудешь, как за нее цеплялся.
Когда я, маленький мальчик, сидел в моем первом в жизни классе – вспомнил я, уже зрелый мужчина, послушно сидя в классе, который, как неотступно подсказывал разум, мог стать моим последним, – меня завораживал алфавит, начертанный белым на черном фризе высотой сантиметров пятнадцать, тянувшемся над классной доской: Аа ВЬ Сс Dd Ее, – каждая буква, написанная наклонным почерком, экспонировалась в двух ипостасях: родитель и дитя, предмет и тень, звук и эхо и т. п. и т. д. Двадцать шесть ассиметричных пар подсказывали смышленому пятилетнему мальчику все дуальности и соответствия, которые только мог объять детский ум. Каждая буква была столь многообразно витиевата и противоречива, а любые две, вместе взятые, выглядели столь соблазнительно в своем слегка дисгармоничном соседстве, что, даже если воспринять фриз с алфавитом так, как впервые воспринял его я, – как фигуры в профиль, наподобие персонажей царской охоты на львов, изображенной ниневийскими скульпторами за тысячу лет до Рождества Христова, – эта процессия, марширующая на месте в сторону дверей класса, представляла собой неиссякаемо богатое ассорти ассоциаций. А когда до меня дошло, что каждая пара в этой композиции, графические свойства которой уже сами по себе дарили чистую роршахианскую радость созерцания, имеет собственное имя, у меня началось – как началось бы, наверно, у всякого человека, сколько бы ему ни было лет – приятнейшее из возможных расстройство сознания. Для полного экстаза недоставало только посвящения в великую тайну: как склонить эти буквы к соединению в слова. Такой окрыляющей радости, которая вдобавок динамично расширяла границы моего сознания, я не испытывал с тех пор, как научился ходить – за полторы тысячи дней до того момента; и долго еще в моей жизни не возникало ничего даже сопоставимого по вдохновляющей мощи, пока над ангельским детством не возобладали стимуляторы столь же могучие, как язык, – опасные соблазны плоти и неугомонная тяга мужского члена к фонтанированию.
Итак, все это объясняет, почему Смайлсбургер застал меня за чтением. Алфавит – моя единственная защита; его мне выдали вместо пистолета.
В сентябре 1979 года, за шесть лет до того, как палестинские террористы выкинули его вместе с инвалидным креслом за борт «Акилле Лауро», Клингхоффер и его жена путешествовали на круизном лайнере, который шел в Израиль. Вот какие записи я прочел в его дневнике, переплетенном в кожу, на обложке которого были вытиснены золотом рикша, слон, верблюд, гондола, самолет и пассажирский теплоход.
5.09
Погода ясная
Пятница. Солнечно
Был на экскурсии по греческому порту Пирей и городу Афины. Гид отличный. Афины – современный кипучий город. Улицы забиты машинами. Поднялся на Акрополь и видел все древние руины. Экскурсия была интересная, с хорошим гидом. В 2.30 вернулся домой. В четверть 4 отплываем в Хайфу, Израиль. День прошел очень интересно. Вечер удался на славу. После ужина выступал певец из Израиля. Дал концерт. Я был в жюри конкурса на королеву лайнера. Все это было уморительно. Ну и вечер. В 0.30 лег спать.
6.09 На море штиль
Погода хорошая
Еще один славный денек. Молодой доктор и его жена едут в Израиль, чтобы вместе с группой французских врачей-евреев открыть больницу в большом городе на юге Израиля. На случай, если во Франции что-то стрясется, у них будет зацепка в Израиле и вложение денег. Познакомился с множеством людей, за 7 дней завел много друзей. Все они обожают Мэрилин. Она красивая и отдохнувшая, как никогда. Лег поздно. Встал рано. Завтра судно причалит в Хайфе.
7.09
Хайфа
Какое воодушевление. И стар и млад – одинаковое. Многие провели в турах целых 40 дней. Некоторые – дольше. Зив и жена пели в Америке три месяца. Другие просто были в круизе. Какие проявления радости при возвращении домой, в свою страну. Как они любят Израиль. Отель «Дан» – здание красивое. Номер хороший.
8.09
Из Хайфы в Тель-Авив
От Хайфы до Тель-Авива ехать больше 1,5 часа. Дороги современные. Кое-где пробки. Повсюду идет строительство. Дома. Заводы. Поразительно, что страна, рожденная войной и живущая в состоянии войны, так развивается. Повсюду солдаты в полной выкладке, с автоматами. Девочки и мальчики на равных. Заказали экскурсии по всей стране. Мы устали. Ради этого стоит уставать. Слушаю радио в прелестном номере окнами на синее Средиземное море.
8.09 П. солнечная
Тель-Авив
Встали в семь. Началась экскурсия. Тель-Авив. Яффо. Реховот. Ашдод. 50 километров вокруг Тель-Авива. Жизнь кипит. Строительство. Поразительно, как осваиваются песчаные дюны, как растут поселки и города. Старый арабский город Яффо сносят, а вместо трущоб, простоявших много лет, спроектирован и возводится новый город.
Сельскохозяйственный колледж, Институт Хаима Вейцмана – островок садов в Реховоте. Красивые здания, учебный корпус, окрестности – это надо видеть. День наполненный, радостный, богатый на знания, новое уважение к стране, которая рождена войной и все еще страдает.
9.09 Солнечно
Тель-Авив
Встал в 5.45, чтобы поехать на Мертвое море. Содом. Беэр-Шева. Перевалили через крутые холмы и спустились к самой низкой точке на планете. Ну и день. Снова 12 часов. Поразительные вещи делаются в этой маленькой стране. Строительство. Дороги. Орошение. Планирование и бои. День был очень трудный, но это того стоило. Побывал в кибуце на краю света, где молодые женатые семьи живут в полной изоляции среди недружелюбных соседей, чтобы развивать страну. Мужество. Это просто мужество.
10.09
Иерусалим
Какой город. Как кипит жизнь. Новые дороги. Новые заводы. Новое жилье. Тысячи туристов отовсюду. И евреи, и неевреи. Приехали сюда в 11 и поехали на экскурсию. Храм Холокоста. И моя Мэрилин не выдержала. У меня тоже навернулись слезы на глаза. Город – череда холмов. Новое и старое. Сад, где выставлена коллекция Билли Роуза. Музей тоже в красивейшем месте. Музей большой, просторный, полон произведениями искусства. Здорово посмотреть на город с этой точки. Ужин. Прошлись по улицам. Лег в 10.
11.09 Четверг
Увидеть холмы Иерусалима в 1979 году. Вид красивый. Географическая точка та же самая, но с современным жильем, хорошими дорогами, грузовиками, автобусами, машинами, кондиционерами – все, чтобы жилось лучше. Здешний климат – ночью прохладно, днем тепло, если из пустыни не дует ветер.
12.09
Солнечно
Были в Старом городе в Иерусалиме. Стена Плача. Гробница Иисуса. И Давида. Прошлись по узким улицам арабского квартала. Полно магазинов, на самом деле это лавчонки. Преобладают запахи и грязь. Наш отель был на границе Израиля с Иорданией. Интересные сцены перед С. П. Беспрерывные молитвы. Бар мицвы. Свадьбы. И т. п. Вернулись домой в час. Снова устали после всех экскурсий. 2,5-часовая экскурсия, чисто пешая. В Старом городе нет машин. Затем – больница «Хадасса». Женщины Америки должны гордиться результатом своих усилий. На территории есть здание, которое используется как научный центр, там хранятся фотографии евреев, убитых в Германии. Ужасающе, в глазах темнеет от обиды и слез. Не можешь понять, как цивилизованная христианская нация могла позволить какому-то мелкому смутьяну подбить ее на такие зверства. Затем – туда, где похоронены основатель сионизма Герцль и его семья. Также в холмах кладбище погибших на всех войнах. Возраст – от 13 до 79 лет. Воевали все. Оттуда – в кнессет, колледж и другие крупные центры госуправления и образования.
Какой красивый город. Полон истории и чудес. Все дороги ведут не в Рим, а в Иерусалим. Рад, что мне выпал шанс здесь побывать.
13.09
Шабат и Рош а-Шана
6 часов утра. Из нашего номера в отеле «Царь Давид» открывается красивейший вид на холмы Иерусалима. В каких-то 400 метрах от нашего отеля была иорданская граница, где среди развалин Старого города стояли снайперы и обстреливали Новый город. Здесь было 39 культовых сооружений, и все они были взорваны арабами во время последней Войны. Эти люди заслуживают всяческой помощи и похвал всей диаспоры. Защитникам этого города от 18 до 25 лет. По всему городу рассредоточены солдаты, но они держатся незаметно. Это современный город, где сохранены все старые руины. Сегодня наш последний день в городе, о возвращении в который евреи молились 2000 лет, и теперь я могу понять, почему. Надеюсь, им никогда не придется его покинуть.
Когда вошел Смайлсбургер, я читал, а также записывал, делал заметки, пытливо прорабатывая каждую тягомотную страницу дневника, – для предисловия, которое, как утверждал Суппосник, приблизит публикации Клингхоффера в Америке и Европе. А что еще мне было делать? Что еще я вообще умею делать? Тут я даже над собой не властен. В голову понемножку стали залетать мысли, обрывки мыслей, и я стал их ловить, чтобы – одновременно – распутать и сплести воедино, это мое прирожденное занятие, непреходящая потребность, особенно когда на меня давят сильные чувства вроде страха. Писал я не на обороте счета из «Американской колонии», куда раньше скопировал с классной доски загадочные слова на иврите, начертанные мелом, а на дюжине чистых страниц, которыми кончалась красная записная книжка. Я не нашел ничего другого, где мог бы делать более-менее пространные заметки; постепенно, когда во мне решительно возобладало привычное, прежнее состояние души (а также, пожалуй, в знак протеста против своего загадочного полузаточения), я обнаружил, что углубляюсь шаг за шагом в хорошо знакомую мне бездну: вначале – шок от того, что твой нечестивый почерк соседствует с почерком убиенного мученика, угрызения совести добропорядочного гражданина, который обошелся варварски если и не со священным текстом, то с редкостью, которая определенно ценна для архивистов; затем эти чувства сменились нелепо-ученической оценкой своего положения – меня же специально ради этого похитили и втолкнули в этот класс, меня не отпустят на волю, пока толковое предисловие, отражающее верный еврейский взгляд на вещи, не будет сочинено и передано в надлежащие руки.
Ниже – впечатления, которые я начал записывать начерно еще до того, как Смайлсбургер лукаво вышел на сцену и многословно объяснил, зачем я здесь на самом деле. Когда он обработал меня как следует, я обнаружил: две тысячи сочувственных слов в память о человечности Клингхоффера – лишь самое малое, чего требовали обстоятельства.
Чрезвычайная ординарность заметок. Абсолютно здравая ординарность К. Жена, которой он гордится. Друзья, с которыми он любит проводить время. Немножко денег, выкроенных на круиз. Делать то, что ему хочется делать, на свой собственный безыскусный манер. Наглядное олицетворение – эти дневники – «нормализации» евреев.
Ординарный человек, который по чистой случайности попал в водоворот исторической борьбы. Жизнь, прокомментированная историей там, где никак не ждешь вмешательства истории. На круизном лайнере, который во всех отношениях внеисторичен.
Круиз. Самое безопасное, что только может быть. Плавучая тюрьма. Ты никуда не движешься. Это круг. Перемещения беспрерывные, но никакого прогресса. Жизнь поставлена на паузу. Ритуальное промежуточное состояние. Времени хоть отбавляй. Ты изолирован, как в полете на Луну. Путешествуй, замкнувшись в своем кругу. Со старыми друзьями. Не надо учить языки. Не надо опасаться непривычной пищи. Ты на нейтральной территории, путешествие под охраной. Но никаких нейтральных территорий не бывает. «Ты, Клингхоффер из диаспоры, – злорадствует воинствующий сионист, – даже там, где ты полагал, будто тебе ничего не угрожает, вышло иначе. Ты был еврей, а евреи даже на круизном лайнере – не на круизном лайнере». Сионист порицает стремление евреев жить нормальной жизнью где угодно, только не в Крепости Израиль.
Ловкость ООП: эти обязательно придумают, как им внедриться в самоуспокоительные фантазии еврея. ООП тоже отрицает, что евреи могут находиться в подлинной безопасности, если только не вооружены до зубов.
Дневники К. читаешь, держа в голове всю их композицию, совсем как дневники А. Ф.[71]. Знаешь, что он умрет и какой смертью умрет, а потому читаешь их от конца к началу. Знаешь, что его вышвырнут за борт, и потому все его скучные мысли – мысли, которые и есть окончательный итог существования каждого из нас, – озаряются беспощадным красноречием, и К. внезапно становится живым человеком, описывающим все блаженство жизни.
Значит, евреи были бы такими же скучными людьми, как все остальные, если бы не имели врагов? Вот мысль, на которую наводят эти дневники. Пуля в лоб – вот что придает экстраординарный характер всем этим безобидным банальностям.
Если бы на свете не было гестапо и ООП, эти два еврейских автора (А. Ф. и Л. К.) не публиковались бы, остались бы неизвестными; если бы на свете не было гестапо и ООП, многие еврейские писатели не обязательно остались бы неизвестными, но ничуть не походили бы на тех писателей, которыми сделались.
Стиль, интересы, ритм мыслей в таких дневниках, как у К. и А. Ф., подтверждают все те же вопиющие невеселые факты: во-первых, евреи – ординарные люди; во-вторых, им отказано в праве на ординарную жизнь. Ординарность, блаженная, серая, ослепительная ординарность сквозит тут в каждом наблюдении, в каждом чувстве, в каждой мысли. Стержень еврейской мечты, искра, воспламеняющая и сионизм, и диаспоризм: евреи были бы ординарными людьми, если бы могли забыть про то, что они евреи. Ординарность. Неприметность. Тихая монотонность. Существование вдали от бурь. Неизменная безопасность в твоем личном маленьком круизе. Но этому не суждено сбыться. Быть евреем – невероятная драма.
Хотя я познакомился со Смайлсбургером лишь днем раньше, за обедом, но, увидав, как он входит на костылях в дверь класса, испытал изумление – такое испытываешь, повстречав на улице спустя тридцать-сорок лет бывшего одноклассника, бывшего соседа по общежитию или бывшую любовницу – какого-нибудь простака или какую-нибудь инженю, чья неподвластность переменам вошла в легенды, но теперь время явно навязало им другие, совершенно неподходящие им амплуа. Смайлсбургер был все равно что близкий друг, которого я мнил давно умершим, а он объявился – вот какой зловещей встряской стало для меня открытие, что заточением своим я обязан не Пипику, а ему.
Ну а если из-за «украденного» миллиона он заключил союз с Пипиком… а если это он с самого начала подрядил Пипика расставить мне ловушку… а если это я каким-то образом завлек в ловушку их обоих, если я, сам того не сознавая, делаю что-то и не могу остановиться, совершаю действие, полярно противоположное желаемому, и в результате все со мной происходящее происходит как бы без моего малейшего участия? Но нет, приписать себе главную роль в ситуации, когда я как никогда остро ощущаю себя игрушкой в руках всех остальных, – нет, это было самое парализующее из всех моих умозаключений, и я отбросил эту версию, мобилизовав остатки здравомыслия, которые еще сохранились у меня после неполных трех часов ожидания в этой комнате. Свалить вину на себя – просто еще один способ не вдумываться, самая примитивная адаптация к череде маловероятных событий, банальная, универсальная фантазия, ничего не говорящая о том, как я связан со всем, что тут творится. Я же не вызвал сюда, применив какие-то тайные заклинания, этого калеку, именующего себя Смайлсбургером, не накликал его тем, что он померещился мне в буфете в фойе суда, где вообще-то за кассой сидел старик, даже мало похожий на него внешне, как я теперь понимаю. Я отпускал идиотские ляпы и даже впадал в маразм, но сам лично ничего не накликал: это не моя фантазия рулит событиями, а их фантазия – кем бы «они» ни были – сейчас рвет мою фантазию в клочья.
Он был одет точно так же, как днем раньше в час обеда: аккуратный голубой деловой костюм, галстук-бабочка, кардиган поверх накрахмаленной белой сорочки – наряд щепетильного хозяина ювелирного магазина; а его странный рифленый череп и чешуйчатая кожа по-прежнему наводили на мысль, что жизнь, отмеряя ему проблемы, не мелочилась, не свела чувство утраты только к потере чувствительности в ногах. Его торс раскачивался между костылями, словно полупустой мешок с песком, локти опирались на подковообразные держатели, прикрепленные к костылям, и передвижение было для него сегодня такой же мучительной нагрузкой, как и вчера, как и, наверно, с тех времен, когда его сразило и ограничило в возможностях увечье, придающее ему изможденный, измочаленный вид человека, обреченного даже стакан воды вырывать у судьбы с боем. А в его английском все еще звучал иммигрантский акцент уличных торговцев, которые сбывали постельное белье с ручной тележки и селедку из бочки в трущобах, где обосновались мои дед и бабка, где вырос мой отец. Но за истекший день появилось и нечто новенькое: если вчера казалось, что в этом теле содержится лишь совершенно неописуемый жизненный опыт, сегодня он источал ласковое милосердие, в его суровом рокочущем голосе зазвенело веселье, словно он не тяжело волок себя по классу, опираясь на палки, а занимался слаломом на склонах Гштада. Демонстрация такой подвижности этой развалиной показалась мне то ли злейшей самопародией, то ли приметой, что его сверх всякой меры истерзанный остов выкован из стопроцентной выносливости.
– Дождались меня? Очень любезно с вашей стороны, – сказал он, доковыляв почти до моего стула. – Мне страшно неудобно, но меня задержали. По крайней мере, у вас нашлось что почитать. Что ж вы не включили телевизор? Мистер Шакед как раз подводит итоги. – Развернувшись в три маленьких прыжка – буквально совершив пируэт на костылях, – он добрался до учительского стола в передней части класса, нажал кнопку, и на экране возникла живая картина судебного процесса. Действительно, Михаэль Шакед обращался к трем судьям на иврите. – Это сделало его секс-символом – все израильские женщины теперь влюблены в обвинителя. А окно они не открыли? Как же здесь душно! Вы поели? Вам ничего не предложили? Обед? Суп? Салат? Жареного цыпленка? Что-то из напитков – пива? Газировки? Просто скажите, что вам больше нравится. Ури°! – позвал он. В распахнутую дверь шагнул один из той парочки похитителей в джинсах, которые показались мне смутно знакомыми на парковке, где моим последним поступком свободного человека стала помощь священнику-антисемиту. – Ури, почему нет обеда? Почему окна закрыты? Никто не включил телевизор! Никто ничего не делает! Вы только принюхайтесь! Они играют в карты, они курят. Иногда они кого-нибудь убивают – и думают, что в этом состоит вся работа. Обед для мистера Рота!
Ури захохотал и вышел, прикрыв за собой дверь.
Обед для мистера Рота? Это как же понимать, а? Невероятно беглый английский (все с тем же сильным акцентом), премилое дружелюбие, нотки отеческой нежности в голосе настоящего мужчины… как все это понимать?
– Он разорвал бы в клочья любого, кто приблизился бы к вам вплотную, – сообщил мне Смайлсбургер. – Ури – самый свирепый сторожевой пес, какого я только мог для вас найти. Что вы читаете?
Но я был неспособен ответить даже на вопрос, что я читаю. Просто не знал, что сказать, не знал даже, что спросить: подумал только, что надо бы раскричаться, но не решился – побоялся.
Совершая замысловатые маневры, чтобы усадить свое тело на стул, Смайлсбургер продолжал:
– Вам никто не сказал? Они вам ничего не сказали? Непростительно. Вам никто не сказал, что я приду? Никто не сказал, что вы вольны уйти? Никто не приходил предупредить, что я опаздываю?
Садистские дразнилки не требуют ответа. Не говори им снова, что они схватили не того. Что бы ты ни сказал, это ничего не поправит; от всего, что ты успел наговорить в Иерусалиме, положение становилось только хуже.
– Почему евреи так невнимательны друг к другу? Оставили вас сидеть здесь в сумраке, – печально сказал Смайлсбургер, – не предложив даже чашку кофе. Так уж устоялось, и ничего не меняется, а почему – не пойму. Почему евреи даже в своем кругу не могут приучиться к элементарному этикету? Почему каждое оскорбление должно раздуваться? Почему каждая провокация должна толкать к раздорам?
Я никого не оскорблял. Я никого не провоцировал. Если он насчет миллиона долларов, я могу все объяснить. Но угождать ему? Пока не появился Ури, чтобы «накормить меня обедом»?! Я не отвечал.
– Коренная причина многочисленных мытарств нашего народа – сказал Смайлсбургер, – как раз в том, что евреи недостаточно любят своих собратьев-евреев. Неприязнь, насмешки, нескрываемая ненависть еврея к еврею – откуда все это взялось? Где наше терпение и способность прощать ближнего? Откуда такая разобщенность среди евреев? И ведь нельзя сказать, что она вдруг появилась в Иерусалиме в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, – она была и сто лет назад в гетто, Господь тому свидетель, была и две тысячи лет назад, во времена разрушения Второго храма. Почему Второй храм был разрушен? Из-за этой ненависти еврея к еврею. Почему Мессия до сих пор не пришел? Из-за этой лютой ненависти еврея к еврею. «Анонимные антисемиты» нужны нам не только для гоев – нет, они нужны нам и для самих евреев. Яростные споры, словесные оскорбления, злобная клевета за глаза, сплетни, издевки, критиканство, жалобы, осуждение, брань; самое нечестивое, что могут сделать наши – не пожирание свинины и даже не браки с неевреями; греховность еврейской речи – еще похуже и первого, и второго. Слишком много говорим, слишком много выбалтываем, не умеем вовремя остановиться. Отчасти беда в том, что евреи никогда не знают, какой тон взять. Утонченный? Раввинский? Истеричный? Ироничный? Отчасти беда в том, что у евреев слишком громкие голоса. Слишком настырные. Слишком агрессивные. Что бы ни говорил еврей, как бы он это ни говорил, он всегда говорит не к месту. Неуместность – таков еврейский стиль. И это ужасно. «За каждый миг, когда человек хранит молчание, он приобретает награду, которая слишком велика, чтобы ее могло вообразить любое разумное существо». Так говорил Виленский Гаон, цитируя мидраши. «Каково должно быть ремесло человека в этом мире? Уподобиться немому»[72]. Так говорили мудрецы. Как прекрасно выразил это один из наших самых чтимых ученых раввинов восхитительно простой фразой, в которой нет и дюжины слогов: «Обычно слова все только портят». Не хотите разговаривать? Хорошо. Когда еврей так сердится, как вы, для него чуть ли не самое трудное – следить за своими словами. Вы еврей героический. В Судный день на счет Филипа Рота будет зачислена награда за сдержанность, которую он проявляет здесь, храня молчание. С чего только взял еврей, что он всегда обязан разговаривать, кричать, над кем-то насмехаться, целыми вечерами разбирать по телефону страшные недостатки своего ближайшего друга? «Не ходи переносчиком в народе твоем»[73]. Так гласит Писание. Не ходи! Запрещено! Таков закон! «Сделай так, чтобы я не говорил ничего, в чем нет необходимости…»[74] Это из молитвы Хафец Хаима[75]. Я ученик Хафец Хаима. Ни один еврей не любил так сильно своих собратьев-евреев, как Хафец Хаим. Вы не знакомы с его учением? Великий человек, смиренный ученый, глубоко почитаемый раввин из Радина[76] – это в Польше, а всю свою долгую жизнь он потратил, уговаривая евреев помалкивать. Умер он в девяносто три года в Польше в том же году, когда в Америке родились вы. Это он сформулировал для нашего народа подробные правила речи, попытался избавить его от многовековых дурных привычек. Хафец Хаим сформулировал законы против злоречия, лашон а-ра – законы, запрещающие евреям своими речами унижать их собратьев-евреев или приносить вред их собратьям-евреям, даже если высказывается чистая правда. А если слова лживы, то это, конечно, еще хуже. Запрещено говорить лашон а-ра и запрещено слушать лашон а-ра, даже если вы этим словам не верите. В старости Хафец Хаим восхвалял свою глухоту, так как она препятствовала ему слышать лашон а-ра. Вообразите, как трудно было восславить свою глухоту человеку, который сам очень любил поговорить. Нет ни одного вида лашон а-ра, который Хафец Хаим не разъяснил бы и не обложил запретами; шуточное злоречие, лашон а-ра без упоминания имен, лашон а-ра о том, что и так всем известно, лашон а-ра про родственников, про родственников жены или мужа, про детей, про умерших, про еретиков, невежд, про тех, чьи проступки уже известны людям, даже о товарах – все это запрещается. Даже если кто-то злословил про тебя, ты не можешь отвечать ему тем же. Даже если тебя ложно обвинили в преступлении, тебе запрещено говорить, кто совершил его на самом деле, потому что это – лашон а-ра. Ты можешь только сказать: «Я этого не делал». Теперь вы понимаете, с чем столкнулся Хафец Хаим, если ему пришлось такими крайними мерами запрещать евреям укорять ближнего за что угодно, обвинять ближнего в чем угодно? Можете вообразить, какую враждебность он видел вокруг себя? Все чувствовали себя жертвами несправедливости, обижались, огрызались на оскорбления и непочтительность; любое слово любого человека расценивалось как личное оскорбление и умышленные нападки; каждый говорил что-то уничижительное про всех остальных. С одного боку антисемитизм, с другого – лашон а-ра, и намертво зажатая между ними красивая душа еврейского народа! Бедный Хафец Хаим был Антидиффамационной лигой[77] из одного человека, но он-то уговаривал не гойим, а самих евреев воздержаться от клеветы друг на друга. Любой другой на его месте, столь же чувствительный к лашон а-ра, всех бы поубивал. Но он любил свой народ, и ему было невыносимо видеть, до каких низостей доводят евреев их болтливые языки. Он не мог вынести их перебранок и потому поставил перед собой невыполнимую задачу – поощрять согласие и единство евреев взамен ядовитой разобщенности. Почему евреи не могут быть единым народом? Почему они должны конфликтовать между собой? Потому что эта разобщенность существует не только между евреем и евреем: она внутри каждого еврея. Найдется ли на свете более многоликая личность? Я не говорю – противоречивая. Противоречивая – это еще ничего. Даже гойим противоречат сами себе. Но внутри каждого еврея существует целая толпа евреев. Еврей хороший и еврей плохой. Еврей новых времен и еврей старых времен. Друг евреев и ненавистник евреев. Друг гоя и враг гоя. Еврей чванливый и еврей уязвленный. Еврей благочестивый и еврей-негодяй. Еврей грубый и еврей нежный. Еврей-бунтарь и еврей-подхалим. Еврей еврейский и еврей деевреизированный. Мне продолжать? Надо ли мне подробно говорить, что еврей – трехтысячелетнее наслоение зеркальных осколков, если я беседую с человеком, который разбогател, заняв положение ведущего еврееведа в мировой литературе? Удивительно ли, что еврей – вечный спорщик? Он сам – спор во плоти! Удивительно ли, что он беспрерывно говорит, говорит безрассудно и порывисто, не подумавши, выставляя себя дураком и шутом, удивительно ли, что он не может очистить свою речь от насмешек и оскорблений, от обвинений и гнева? Наш бедный Хафец Хаим! Он молил Бога: «Сделай так, чтобы я не говорил ничего, в чем нет необходимости, чтобы все мои речи были ради Небес», – а тем временем его собратья-евреи повсюду говорили просто ради того, чтобы говорить. Беспрерывно! Не могли заткнуться! Отчего? Оттого, что внутри каждого еврея много ораторов. Умолк один – начинает говорить второй. Закрой ему рот – но есть и третий, четвертый, пятый еврей, у которого непременно есть что сказать. Хафец Хаим говорил в молитве: «Я остерегусь слов о конкретных людях», – а тем временем его возлюбленные евреи только о конкретных людях и могли говорить, днем и ночью. Поверьте, Фрейду в Вене жилось легче, чем Хафец Хаиму в Радине. Они шли к Фрейду, говорливые евреи, и что же им говорил Фрейд? Говорите, говорите. Высказывайте всё вслух. Нет ни одного запретного слова. Чем больше лашон а-ра, тем лучше. В понимании Фрейда молчащий еврей – самое страшное, что только может быть, в его понимании молчащий еврей – это плохо для еврея и плохо для бизнеса. Еврей, не говорящий ничего дурного? Еврей, не впадающий в ярость? Еврей, который слова плохого ни о ком не скажет? Еврей, который не станет затевать свару с соседом, с начальником, с женой, с детьми, с родителями? Еврей, который не сделает ни одного замечания, которое хоть чем-то может повредить другому человеку? Еврей, говорящий лишь то, что разрешено законом? В мире евреев, о которых мечтал Хафец Хаим, Зигмунд Фрейд помер бы с голоду и забрал бы с собой на тот свет всех прочих психоаналитиков. Но Фрейд был не дурак и знал своих евреев, знал их лучше – скажу я с печалью, – чем их современник-еврей, еврейский аверс относительно еврейского реверса, наш возлюбленный Хафец Хаим. К Фрейду они шли толпами – евреи, которые не могли перестать говорить, и выкладывали ему такие лашон а-ра, какие не слетали с еврейских уст со времен разрушения Второго храма. И чем дело кончилось? Фрейд стал Фрейдом, потому что позволил им говорить все, а Хафец Хаим, приказавший им держать при себе практически все, что им хотелось высказать, приказавший им выплюнуть лашон а-ра из своего рта точно так же, как они выплюнули бы кусок свинины, который нечаянно начали есть, с такой же гадливостью, презрением и чувством дурноты, Хафец Хаим, приказавший тем, кто не уверен на сто процентов, что их слова – НЕ лашон а-ра, предположить, что это лашон а-ра и промолчать, – этот человек не обрел в еврейском народе той популярности, которую обрел доктор Зигмунд Фрейд. Правда, можно было бы цинично возразить, что высказывание вслух лашон а-ра делает евреев евреями и невозможно вообразить что-либо еще более еврейское-еврейское, чем прописанное Фрейдом в его кабинете пациентам-евреям. Отнимите у евреев их лашон а-ра, и что у вас останется? Останутся обходительные гойим. Но это утверждение – уже само лашон а-ра, худшее из возможных лашон а-ра, потому что говорить лашон а-ра о еврейском народе в целом – самый тяжкий грех. Бранить еврейский народ, как это делаю я, за то, что он говорит лашон а-ра, – тоже совершать лашон а-ра. Однако я не только говорю худшие лашон а-ра, но и усугубляю свой грех, принуждая вас сидеть здесь и их выслушивать. Я и есть тот еврей, в адрес которого направлена моя брань. Я хуже этого еврея. Этот еврей слишком глуп, чтобы понимать, что творит, а я, ученик Хафец Хаима, знаю, что, пока есть все эти лашон а-ра, Мессия не придет нас спасти, но все равно говорю лашон а-ра – только что назвал того другого еврея глупцом. Так есть ли надежда, что мечта Хафец Хаима осуществится? Может быть, если бы все благочестивые евреи, которые постятся на Йом Кипур, вместо поста воздержались бы на один день от лашон а-ра… если на протяжении хотя бы мига ни один еврей не произнес лашон а-ра… если бы все евреи на свете одновременно просто заткнулись на секундочку… Но поскольку даже одна секунда еврейского молчания – вещь невозможная, на что остается надеяться нашему народу? Я лично считаю, что евреи покидали галицийские[78] местечки типа Радина, сбегая в Америку и уезжая в Палестину в том числе для того, чтобы убежать от собственного лашон а-ра. Если уж злоречие взбесило такого великого оратора, такое воплощение терпимости, как Хафец Хаим, – он даже рад был оглохнуть, чтобы больше его не слышать, – только вообразите, как оно действовало на сознание среднестатистического нервного еврея. Первые сионисты никогда не говорили об этом вслух, но втайне не один наверняка думал: уеду хоть в Палестину, туда, где тиф, желтая лихорадка и малярия, где жара за сорок градусов, – только бы не слышать больше этого ужасного лашон а-ра! Да, на Земле Израиля, вдали от гойим, которые ненавидят нас, высмеивают, чинят нам помехи, вдали от гонений, которым они подвергают нас, вдали от раздоров, вызванных этими гонениями в нашей среде, вдали от отвращения гойим, от тревоги, неопределенности, недовольства и гнева, порождаемых этим отвращением в каждой еврейской душе, вдали от унизительного положения, вызванного тем, что гойим нас сторонятся и держат в неволе, мы построим собственную страну, где мы свободны, где мы – свои среди своих, где мы не станем оскорблять друг друга и злословить друг о друге заглазно, где еврей, больше не терзаемый всеми своими внутренними раздорами, не будет поносить и унижать своих собратьев-евреев. Что ж, могу засвидетельствовать – я, к сожалению, наглядный образчик того, что в Эрец-Исраэль лашон а-ра в сто раз хуже, в тысячу раз хуже, чем в Польше при жизни Хафец Хаима. Здесь нет ни одного слова, которое мы постеснялись бы произнести. Разобщенность здесь беспредельна. В Польше существовал антисемитизм, и он хотя бы в присутствии гойим заставлял тебя помалкивать о недостатках твоих собратьев-евреев. Но здесь нет гойим, которых следовало бы опасаться, а стало быть, нет и никаких ограничений; здесь никто и понятия не имеет, что и без гойим, чье присутствие побуждало бы тебя сдерживаться, есть вещи, которые нельзя говорить ни в коем случае, что еврею нужно хорошенько подумать, прежде чем раскрыть свой еврейский рот и по призывам Фрейда, без тени стеснения выболтать самые скверные мысли о людях, копошащиеся в его голове. Фраза, подстрекающая к ненависти, – они ее произнесут. Обидная фраза – они от нее не откажутся. Злая острота на чей-то счет – она слетит с языка, и будет напечатана, и прозвучит в вечерних новостях. Почитайте израильскую прессу – вы узнаете про нас кое-что почище, чем наговорят сто Джорджей Зиадов. В деле очернения евреев палестинцы – просто пишеркес[79] по сравнению с газетой «Гаарец». Мы их даже в этом превзошли! Правда, тут можно вновь цинично возразить, что это явление – триумф и взлет сионизма, что в Земле Израиля мы достигли того, чего никогда не надеялись достичь, когда нас могли подслушать гойим, – полного расцвета еврейского таланта лашон а-ра. Наконец-то избавившись от зависимости, именуемой «а вдруг не-евреи услышат», мы за неполных полвека смогли вывести и усовершенствовать то, чего боялся узреть Хафец Хаим, – бесстыжего еврея, способного брякнуть все что угодно.