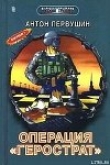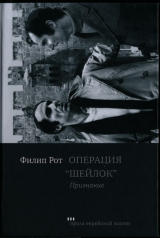
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
7
Ее история
Он ничего не утащил. Из ящика комода, куда я переложил из чемодана свою одежду, не исчезло ни единого носка, он не сдвинул с места ни одной вещи, пока разыскивал чек, который значил для него все. Когда он прилег на кровать в ожидании моего возвращения, то взял почитать «Цили», но, похоже, это была моя единственная собственность – кроме моего имени и моей личности, – которую он осмелился тронуть. Собираясь в дорогу, я засомневался, что он действительно обыскивал мой номер, а потом, мимолетно, похолодев от тревоги, усомнился даже в том, что он вообще тут побывал. Но если он приходил не требовать свой чек, почему он рискнул ко мне вломиться, не страшась моего гнева (а возможно, чего-нибудь похуже)?
Пиджак на мне, чемодан собран. Остается дождаться рассвета. Я поставил себе одну-единственную цель – смыться отсюда. Остальное разгадаю – или не разгадаю – после того, как мне удастся совершить побег. Смотри, потом не пиши об этом, велел я себе. Теперь даже самые доверчивые люди презирают понятие «объективность»; купились, не раздумывая, на новейшую идею, которая гласит, что невозможно правдиво отчитаться о чем бы то ни было, кроме твоей собственной температуры тела; все – аллегория, разве у меня есть шанс убедить хоть кого-нибудь в реальности такой вот реальности? Когда будешь прощаться, попроси Аарона: ради Бога, пусть держит язык за зубами и забудет всю эту историю. Даже в Лондоне, когда вернется Клэр и спросит, что произошло, скажешь ей, что все в порядке. «Ничего не произошло, он так и не объявился». Иначе ты можешь до конца жизни растолковывать события этих двух дней, но никто так и не поверит, что твоя версия – не просто твоя версия.
Во внутреннем кармане моего пиджака, сложенные втрое, лежали хрустящие листки бумаги с логотипом отеля, на которые я разборчивыми печатными буквами переписал оставшиеся вопросы к Аарону. Остальные вопросы и ответы, а также все кассеты уложены в чемодан. Всему назло я умудрился выполнить редакционное задание, хотя, возможно, не так, как рассчитывал, строя планы в Нью-Йорке… И вдруг я вспомнил про Аптера. Может, заехать к нему по дороге – авось застану дома, когда буду покидать Иерусалим? Или обнаружится, что там уже поджидает Пипик – Пипик, который перед беднягой Аптером притворился мной?!
Свет в моем номере не горел. Я уже полчаса сидел в потемках – выжидал, устроившись за маленьким столом у большого окна, поставив у ног чемодан со всеми вещами и наблюдая за людьми в масках, которые прямо подо мной возобновили конвейерную доставку камней словно бы нарочно, мне в назидание, словно подзуживали – эй, слабо набрать номер, слабо позвонить военным или в полицию? Эти камни, думал я, предназначены для того, чтобы разбивать головы евреям, но заодно думал: я тут нездешний, эта борьба – за территорию, которая мне не принадлежит… Я подсчитывал, сколько камней они перетащили. На сотом камне мое терпение иссякло: я позвонил портье и попросил соединить с полицией. И услышал в ответ, что линия занята.
– Дело срочное, – возразил я.
– Что-то не в порядке? Вы больны, сэр?
– Прошу вас, я должен кое-что сообщить полиции.
– Как только линия освободится, сэр. Сегодня ночью полиция очень занята. Вы что-то потеряли, мистер Рот?
В тот самый момент, когда я клал трубку на рычаг, за дверью раздался женский голос.
– Впустите меня, – прошептала женщина, – это Беда Поссесски. Тут такой ужас!
Я прикинулся, будто меня нет, но она начала тихонько стучаться в дверь – наверно, услышала, как я говорил по телефону.
– Он собирается похитить сына Демьянюка.
Но у меня была только одна цель, моя собственная, и я не соизволил ответить. «Ничего не делай – и не дашь маху».
– Они прямо сейчас сговариваются похитить сына Демьянюка!
За дверью – Пипикова Ванда-Беда, под окном – арабы в лыжных масках перетаскивают камни, а я прикрыл глаза, чтобы продумать последний вопрос, который надо оставить Аарону перед моим отъездом: «Ты живешь в этом обществе, и на тебя обрушивается шквал новостей и политических споров. И все же ты как писатель, как правило, отталкиваешь от себя эту каждодневную израильскую турбулентность…»
– Мистер Рот, они собрались это сделать на полном серьезе!
«…чтобы размышлять о совершенно других еврейских невзгодах. Что значит эта турбулентность для такого писателя, как ты? Как влияет на твой творческий путь то, что ты член этого…»
Беда тихо захныкала:
– Он носит на себе вот это. Ему это дал Валенса. Мистер Рот, вы должны помочь…
«…этого социума, социума, который сам себя разоблачает и сам себя сплачивает, сам в себе сомневается и сам себя героизирует? Неужели твое воображение неуязвимо перед соблазнами той реальности, которая переполняет газеты и эфир?»
– Его это погубит.
Все обстоятельства призывали меня к молчанию и самообладанию, но я не сдержался и сказал то, что подумал:
– Вот и хорошо!
– Это разрушит все, что он сделал.
– Замечательно!
– Вы должны признать свою ответственность, хоть отчасти.
– Ни за что!
Тем временем я, опустившись на карачки, пытался залезть под комод – посмотреть, что именно она пропихнула под дверь. И, наконец, умудрился подцепить эту штуку ботинком и вытащить.
Зубчатый кусок ткани размером в мою ладонь, невесомый, как обрывок марли, – матерчатая «Звезда Давида», предмет, виденный мной прежде только на фотографиях прохожих на улицах оккупированной Европы – на груди евреев, помеченных желтыми лоскутными ярлыками. Казалось бы, этот сюрприз не должен был рассердить меня сильнее, чем прочие дикие выходки Пипика, но все-таки рассердил, разозлил до белого каления. Обожди. Дыши глубже. Думай. Его патология – это его патология, не твоя. Взгляни на нее с юмором реалиста – и уезжай! Но нет, я капитулировал перед своими чувствами. «Не поддавайся, не поддавайся», – но я сдался. Разве я мог воспринять появление этой трагической памятки просто как безобидное развлечение? Он абсолютно все обращал в фарс. Даже это осквернил. Он совершенно невыносим.
– Кто этот псих! Скажите мне, кто этот псих!
– Скажу! Впустите!
– Скажите всё! Правду!
– Скажу всё, что знаю!
– Вы одна?
– Совсем одна. Одна. Клянусь вам.
– Погодите.
Обожди. Дыши глубже. Думай. Но вместо этого я проделал то, чего решил не делать, пока не наступит момент для безопасной эвакуации. Отодвинул массивный комод от двери – так, чтобы приоткрыть ее совсем чуть-чуть, а затем отпер замок и разрешил протиснуться в комнату этой участнице заговора, этой женщине, которую он прислал меня соблазнить, принаряженной для тех развеселых баров, куда медсестры из онкологии ходили промывать душевные раны и очищаться от смерти и предсмертных мучений во времена, когда Беда Поссесски все еще была полнокровной, нераскаявшейся ненавистницей евреев. Огромные солнечные очки, скрывающие пол-лица, черное платье, самым выгодным образом подчеркивающее фигуру. Даже сбросив с себя платье, она не показалась бы еще аппетитнее. Гениальное дешевенькое платье. Густой слой помады, нечесаная светлая копна волос – ни дать ни взять метелки польской кукурузы, а тело достаточно обнажено, чтобы я предположил: мало того, что она пришла с неподобающими намерениями, мало того, что мой чудовищный характер не позволил мне обождать, дышать глубже и думать, – нет, я впустил ее сюда, позволил преодолеть мою баррикаду, потому что и сам замышляю кое-что неподобающее, замышляю уже довольно давно. Друзья мои, когда она, вертясь так и сяк, протиснулась в дверь, а затем повернула ключ в замке, чтобы запереться здесь вместе со мной – и от него? – я сообразил, что лучше бы остался сидеть на своей веранде в Ньюарке. Меня обуяла еще невиданная тоска не по Ванде-Беде – до такого я пока не докатился, – а по своей жизни до момента, когда в нее вторгся самозванец, имитатор и двойник, по жизни до самоосмеяния и самоидеализации (и идеализации осмеяния, и осмеяния идеализации, и идеализации идеализации, и осмеяния осмеяния), до перемежающихся приступов гиперобъективности и гиперсубъективности (и гиперобъективного взгляда на гиперсубъективность, и гиперсубъективного взгляда на гиперобъективность), по дням, когда то, что было снаружи, было снаружи, а то, что было внутри, было внутри, когда все имело четкие границы и все происходящее поддавалось объяснению. Я спустился по ступенькам с веранды на Лесли-стрит, вкусил плод с древа художественного вымысла, и все – как реальность, так и я – переменилось бесповоротно.
Я не хотел эту искусительницу, а хотел, чтобы мне было десять лет; пусть я всегда был решительным противником ностальгии, мне захотелось сделаться десятилетним мальчиком и вернуться в свой квартал, во времена, когда жизнь еще не была движением вслепую и вовне, а все еще походила на бейсбол, где снова попадаешь в «домик», вернуться во времена, когда чувственное земное начало, заложенное во всех женщинах, кроме моей мамы, еще не манило к нему приобщиться.
– Мистер Рот, он ждет отмашки от Меира Кахане. Они это сделают. Кто-то должен их остановить!
– Зачем вы это принесли? – сказал я, сердито сунув желтую звезду ей под нос.
– Я же вам сказала. Ему это дал Валенса. В Гданьске. Филип разрыдался. Теперь он носит ее под рубашкой.
– Правду! Правду! Почему в три часа ночи вы приперлись ко мне с этой звездой и с этой байкой? Как вы вообще смогли сюда попасть? Как вас пропустил портье внизу? Как вы пересекли Иерусалим в этот час, несмотря на все опасности да еще в этом долбаном костюме Иезавели? Город клокочет от ненависти, назревает страшное кровопролитие, ситуация и так кошмарная, а вы… вы только сами посмотрите, в каком виде он вас сюда прислал! Сами посмотрите, как он нарядил вас в этот прикид фам фаталь из бондианы! У этого типа сутенерские инстинкты! Не только чокнутые арабы… чокнутая компашка благочестивых евреев – и то могла бы забить вас камнями за это платье!
– Но они собираются похитить сына Демьянюка и возвращать его кусками, пока Демьянюк не признается! В эту самую минуту они пишут признание Демьянюка. Говорят Филипу: «Эй, писатель, пиши как следует!» Пальцы с ног по одному, пальцы с рук по одному, глаза по одному: пока отец не скажет правду, они будут пытать сына. Религиозные, в кипах, а говорят такое – вы бы их только слышали, а Филип сидит там и сочиняет признание! Кахане! Филип – противник Кахане, называет его дикарем, а теперь сидит там и дожидается звонка дикаря-фанатика, которого ненавидит больше всех на свете!
– Отвечайте мне, пожалуйста, правдиво. Зачем он прислал вас сюда в этом платье? С этой звездой? Откуда вообще берутся такие, как он? Вам не надоело увиливать?
– Я сбежала! Я ему сказала: «Не могу больше слушать. Не могу смотреть, как ты все разрушаешь!» Я от них сбежала!
– Ко мне.
– Вы должны вернуть ему чек!
– Чек я потерял. Нет у меня этого чека. Я уже ему сказал. Несчастливая случайность. Подружка вашего дружка определенно должна это понять. Чека больше нет.
– Но он потому и обезумел, что вы присвоили эти деньги! Зачем вы взяли деньги у Смайлсбургера – знали ведь, что они предназначены не вам?!
Я сунул ей матерчатую звезду:
– Забирайте это и проваливайте.
– А как же сын Демьянюка?
– Мисс, я родился у Бесс и Германа Рот в ньюаркской больнице «Бет Исраэль» не для того, чтобы защищать сына этого Демьянюка.
– Тогда защитите Филипа!
– Это я и делаю.
– Но он это затеял, чтобы доказать вам, что действительно делает свое дело. От восторга перед вами он спятил. Вы его кумир, как-никак!
– Я вас умоляю: человек с таким членом не нуждается в кумирах типа меня. Чтобы показать его мне, он весьма любезно заглянул в мой номер. Он вам не говорил? Комплексами он не страдает, верно?
– Нет, – пробормотала она, – только не это. – И тут сдалась, зарыдала, присела на краешек кровати.
– Еще чего, – сказал я. – Вы… э-э-э… вы оба, что же, посменно тут вздумали… Встаньте и уходите.
Но она так жалостно рыдала, что мне оставалось лишь снова усесться в мягкое кресло у окна и оставаться там, пока она не прольет все слезы на мою подушку. Рыдая, она стискивала в кулаке матерчатую звезду и тем пробуждала во мне гнев и отвращение.
Арабы в масках исчезли. Похоже, я родился на свет и не для того, чтобы их остановить.
Когда мне стало вконец невыносимо смотреть на Беду с звездой в кулаке, я подошел к кровати и вырвал звезду из ее рук, а потом засунул в чемодан со своими вещами. Звезда до сих пор у меня. Я смотрю на нее сейчас, когда пишу эти строки.
– Это имплант, – сказала она.
– «Это»? Вы о чем?
– Он у него не свой. Это имплант из пластмассы.
– Да-а? Расскажите поподробнее.
– У него все удалили. Ему было невыносимо думать, что он всего этого лишился. И он сделал операцию. Там внутри пластмассовые стержни. Внутри пениса – имплант пениса. Почему вы смеетесь? Как вы можете смеяться? Вы смеетесь над мучительными страданиями другого человека!
– Ничего подобного – я смеюсь над всем этим враньем. Польша, Валенса, Кахане, даже раковая опухоль – вранье, и сын Демьянюка – вранье. И этот хрен моржовый, которым он так гордится: колитесь, в какой амстердамской лавке технических чудес вы вдвоем нашли этот дурацкий прикольчик? У вас свое ревю «Ад раскрылся»[41], в главных ролях – госпожа Поссесски и господин Пипик, шаловливая парочка, ни минуты без гэга, ну кто тут не засмеется? С хреном, должен признать, придумано превосходно, но мой самый любимый момент – поляки на вокзале в Варшаве, восторженно приветствующие возвращение евреев. Диаспоризм! Диаспоризм – сюжет для фильма братьев Маркс: Граучо продает евреев канцлеру Колю! Я прожил одиннадцать лет в Лондоне – не в фанатичной, захолустной, покорной Папе Римскому Польше, а в цивилизованной, секуляризованной, искушенной в мирских делах Англии. Когда первые сто тысяч евреев прикатят на вокзал Ватерлоо со всеми своими пожитками, я страшно хочу оказаться там и все это увидеть. Пригласите меня, ладно? Когда первые сто тысяч эвакуированных диаспористов добровольно уступят многострадальным палестинцам свою преступную сионистскую отчизну и высадятся на зеленых лугах прекрасной Англии, я хочу увидеть собственными глазами делегацию английских гойим с бокалами шампанского, которая ждет их на платформе, чтобы торжественно встретить: «Они прибыли! Евреев стало больше! Как славно!» Нет, по моим ощущениям, англичане предпочли бы, чтобы евреев было меньше, как можно меньше. Диаспоризм, моя дорогая, сильно недооценивает накал антипатии. Но для члена-учредителя ААС это вряд ли новость. Отец-основатель диаспоризма едва не выманил у несчастного старика Смайлсбургера миллион зеленых… Правда, по-моему, у Смайлсбургера тоже не все дома.
– Пусть мистер Смайлсбургер сам решает, – парировала она, моментально надувшись, словно ребенок, чей хитрый план сорвался, – что делать со своими деньгами!
– Тогда скажите мистеру Смайлсбургеру, чтобы он аннулировал чек, почему нет? Идите и сыграйте перед ним роль женщины-заступницы. Здесь этот приемчик бесполезен, так что идите к нему, попробуйте его обработать. Скажите ему, что он отдал чек не тому Филипу Роту.
– Сил моих больше нет, – застонала Беда Поссесски, – сил моих больше нет. – Она схватила телефонную трубку (телефон стоял на металлическом столике, втиснутом между стеной и спинкой кровати) и попросила телефонистку отеля соединить ее с «Царем Давидом». Все дороги ведут назад к нему. Я слишком поздно сообразил, что лучше было бы вырвать у нее трубку. Вдобавок ко всем прочим факторам, мешавшим мне думать, на меня влияло присутствие ее чувственности, угнездившейся тут же рядышком, на кровати.
– Это я, – сказала она, когда соединение было установлено. – С ним… Да… В его номере!.. Нет!.. Нет! Только не с ними!.. Я больше не могу, Фил. Черт подери, я дошла до точки. Кахане – сумасшедший, ты сам так говорил, не я… Нет!!! Сил моих больше нет, Филип, я вот-вот погибну! – И вложила трубку в мою руку. – Остановите его! Вы обязаны его остановить!
Поскольку телефонная розетка почему-то находилась на стене напротив двери, провод пришлось протянуть поперек кровати и, чтобы что-то сказать в трубку, я поневоле перегнулся, нависая прямо над Бедой. Пожалуй, только поэтому я и сказал в трубку какие-то слова. Другого резона не было и быть не могло. Всякий, кто подглядывал бы за нами в огромное окно номера, должен был прийти к выводу, что теперь мы с ней повязаны одним заговором. «Со-седство» и «со-блазн» были, казалось, одним и тем же понятием, производным от емкого слова «Беда».
– Я тут слышал, у вас еще одна развеселая идея, – сказал я в трубку.
Ответ был спокойным, ироничным, а его голос – моим голосом, мягким и сдержанным.
– Одна из ваших, – сказал он.
– А ну-ка, повторите.
– Идея ваша, – сказал он, и я бросил трубку.
Но не успел я закончить разговор, как телефон зазвонил снова.
– Пусть себе трезвонит, – сказал я ей.
– Ладно, это всё, – сказала она. – Теперь уже всё.
– Вот-вот. Пусть себе трезвонит.
Путь обратно, к креслу у письменного стола, был долгим странствием, полным соблазнов, изобилующим воззваниями к низменным инстинктам – мол, давай поосторожнее, будь благоразумен; на этом коротком отрезке пути соединилось и уместилось так много до судорог острых конфликтов, что получилось нечто вроде сгустка всей моей жизни с момента полового созревания. Отстранившись на максимальную – насколько позволяло помещение – дистанцию от нашего внезапного безрассудного союза, я сказал:
– Давайте ненадолго оставим вопрос о том, кто вы такая. Но кто этот фигляр, который разгуливает, притворяясь мной? – Я поднял палец – дескать, не прикасайтесь к телефону (он все еще надрывался). – Сосредоточьтесь на моем вопросе. Отвечайте: кто он?
– Мой пациент. Я же вам говорила.
– Тоже вранье.
– Не может все быть сплошным враньем. Не говорите так. От этого слова лучше никому не будет. Вы защищаетесь от правды, называя враньем все, во что не хотите верить. Про все, что для вас как-то чересчур, вы говорите: «Вранье». Но, мистер Рот, это же отрицание всего, из чего состоит жизнь! То, что для вас вранье, для меня – моя жизнь, будь она проклята! Этот телефон – не вранье! – И она подняла трубку и зарыдала: – Не приду! Все кончено! Я не вернусь! – Но то, что она услышала в трубке, заставило негодующую кровь, от которой ее щеки распухли, хлынуть в противоположном направлении, уйти в пятки, словно Беду перевернули вверх тормашками, а выражение «песочные часы» было не просто метафорическим описанием ее фигуры. Кроткая, как овечка, она протянула трубку мне. – Полиция, – сказала она с ужасом, выговорив «полиция» так, как, должно быть, раньше пациенты, только что узнавшие о своих шансах, повторяли в ее присутствии слово «терминальный», услышанное от онколога. – Не надо, – взмолилась она, обращаясь ко мне, – он этого не переживет!
Иерусалимская полиция откликнулась на мой звонок. Ну да, поскольку сборщики камней ушли, теперь меня соединили с полицией – а может, раньше все линии действительно были заняты, хотя в это мне по-прежнему верилось мало. Я описал полицейским то, что видел из своего окна. Они попросили описать, что происходит там сейчас. Я сказал им, что на улице безлюдно. Они спросили, как меня зовут, и я назвался. Продиктовал им номер своего американского паспорта. И не стал добавлять, что некто с дубликатом моего паспорта – фальшивкой, скопированной с моего паспорта – в этот самый момент в отеле «Царь Давид» планирует похищение и пытки сына Джона Демьянюка. Пусть попробует, подумал я. Если она не врет, если он решился, подобно своему антикумиру Джонатану Полларду, любой ценой сделаться спасителем евреев – или если даже у него чисто личные мотивы, если он просто намерен сыграть главную роль в моей жизни, словно тот субъект, стрелявший в Рейгана, чтобы изумить Джоди Фостер, – пусть фантазии развиваются самым грандиозным образом без моего вмешательства, на сей раз препятствовать Пипику не надо: пусть перейдет не только те границы дозволенного, которые установлены мной, пусть столкнется лоб в лоб с иерусалимской полицией. Я и сам не смог бы подстроить еще более сладостную развязку этой глупой, пустопорожней драмы. Не пройдет и двух минут, как его застукают при этой попытке обрести историческое значение, и с Мойше Пипиком будет покончено.
Пока я висел в десятке сантиметров над ней, беседуя с полицейскими, она лежала, прикрыв глаза, защищая свой бюст скрещенными руками. И сохраняла эту позу, замерев как мумия, пока я шел к окну и снова усаживался в кресло; взглянув на кровать, я подумал, что она, похоже, ждет, пока за ней приедут из похоронного бюро. Мне вспомнилась моя первая жена, которая лет двадцать назад, примерно в возрасте Беды, погибла в автокатастрофе в Нью-Йорке. Наш неудачный брак, продлившийся три года, начался с того, что в финале нашего знойного романа она подделала тест на беременность и пригрозила самоубийством, если я на ней не женюсь. Даже через шесть лет после того, как я вопреки ее воле прекратил супружеские отношения, она, сколько я ни добивался, не соглашалась на развод, а когда в 1968-м она внезапно погибла, я бродил по Центральному парку, где ее настигла катастрофа, и мысленно декламировал чертовски уместное двустишие Джона Драйдена, вот это: «Сей камень – над моей возлюбленной женой! Ей там – мне здесь покой!»[42]
Беда была выше нее сантиметров на пятнадцать, а по сложению – внушительнее в гораздо более интересном смысле, но видя, как она упокоилась, словно бы перед погребением, я поразился ее расовому сходству со скандинавской, северной красотой моей давно умершей врагини. А если та восстала из гроба, чтобы отомстить… а если на самом деле заговором руководит она, если это она выдрессировала и загримировала Пипика, обучила его моим ужимкам и моей манере речи… спланировала все изощренные нюансы кражи моей личности с той же дьявольской решимостью, с которой преподнесла аптекарю на Второй авеню подложную пробу мочи… Вот какие мысли копошились в полусонном мозгу человека, который урывками дремал, но все еще пытался бодрствовать. Женщина в черном платье, распростертая на кровати, – не в большей мере призрак моей первой жены, чем Пипик – мой призрак, но все равно какой-то морок, искажающий реальность, постепенно заволакивал туманом мой разум, а я сопротивлялся, но лишь изредка, когда удавалось мобилизовать все ресурсы интеллекта. Казалось, я одурманен передозировкой непостижимых происшествий и, после круглых суток без сна, веду бой с тенью – не слишком проворно пытаюсь подчинить себе свое тускло мерцающее, гаснущее сознание.
– Ванда Джейн «Беда» Поссесски. Откройте глаза, Ванда Джейн, и скажите мне правду. Пора.
– Вы уезжаете?
– Откройте глаза.
– Засуньте меня в свой чемодан и возьмите с собой, – застонала она. – Вытащите меня отсюда.
– Кто вы?
– Да, знаете ли, – сказала она устало, не открывая глаз, – я просто шикса полоумная. Это ж не новость.
Я ждал, что еще она скажет. Она повторила вполне серьезно:
– Возьмите меня с собой, Филип Рот.
Да, это моя первая жена. Меня надо спасать, тебе надо меня спасти. Сил моих больше нет, это из-за тебя. Я шикса полоумная. Возьми меня с собой.
На сей раз мы проспали не несколько минут, а намного больше, она на кровати, я – в кресле, спал, а сам спорил, как в прежние времена, с воскресшей женой. «Если уж ты восстала из гроба, неужели тебе обязательно надо вопить о своем нравственном превосходстве надо мной – аморальным типом? Неужели даже там ты думаешь только об алиментах? Откуда эти вечные притязания на мои доходы? С чего ты вообще взяла, что кто-то обязан отдавать тебе свою жизнь?»
Затем меня снова высадили на берег в осязаемый мир, где не было ее, и я снова воссоединился со своей плотью и плотью Ванды Джейн в сказке о существовании в материальном мире.
– Проснитесь.
– А, да… Тут я.
– Полоумная – в каком смысле?
– В каком-каком… Из-за родни, – она открыла глаза. – Быдло. Пили пиво. Дрались. Придурочные. – И проговорила, как во сне: – Они мне не нравились.
И ей тоже. Она их ненавидела. Я был последним стоящим шансом. Возьми меня с собой, я беременна, это твой долг.
– Воспитана в католической вере, – сказал я.
Она приподнялась на локтях и мелодраматично заморгала.
– Боже мой, – спросила она, – вы – который из Филипов?
– Единственный.
– Рискнете поставить на это свой миллион?
– Я хочу знать, кто вы. Я хочу наконец-то узнать, что происходит – хочу знать правду!
– Отец – поляк, – безмятежно сказала она, отбарабанивая факты, – мать – ирландка, ирландская бабушка – просто зашибись, католические школы, церковь лет до двенадцати, наверно.
– А потом?
На это серьезное «А потом?» она улыбнулась заветнейшей улыбкой, хотя в действительности лишь неспешно выгнула кверху уголок рта: движение, измеряемое миллиметрами, но в моем понимании – энциклопедия эротического шарма в миниатюре.
Я остался к этому безразличен (если то, что я не вскочил с кресла и не ушел, можно назвать «остался безразличен»).
– «А потом?» А потом я выучилась забивать косяки, – сказала она. – Сбежала из дому в Калифорнию. Увлеклась наркотиками и всеми этими хипповскими штучками. В четырнадцать лет. Ездила стопом. Тогда это было в норме.
– А потом?
– «А потом?» Ну, помню, как я в Сан-Франциско была на молебне у кришнаитов, с начала до конца. Вот это мне понравилось, очень даже. Столько страсти. Люди танцуют. Их захлестывает волна эмоций. Но в это я не втянулась. А в тусовку иисусников – да, втянулась. А незадолго до этого снова начала ходить к мессе. Наверно, мне хотелось втянуться в какую-нибудь религию, интересно было. Вам это зачем – в чем опять пытаетесь разобраться?
– А вы как думаете, в ком я пытаюсь разобраться? В нем.
– Так-так, а я-то думала, мной заинтересовались, серенькой мышкой.
– Иисусники. Вы втянулись.
– Ну-у…
– Давайте дальше.
– Ну-у, был один пастор, очень страстный, маленький такой… Всегда находился какой-нибудь страстный мужчина… А я, наверно, была похожа на неприкаянную сиротку. Прикид у меня был хипповский. Скорее всего, юбка была длинная. Волосы тоже длинные. Крестьянский стиль. Вы сами таких видели. Ну-у, в конце службы, самой первой службы, на которой я была, пастор, стоя у алтаря, воззвал, попросил: встаньте все, кто хочет впустить Иисуса в свое сердце. Штука вот в чем: если хочешь умиротворения, если хочешь счастья, впусти Иисуса в свое сердце, чтобы Он стал твоим персональным спасителем. Мы с подружкой сидели в первом ряду. Я встала. Постояла немного, замечаю – никто, кроме меня, не вскочил. Он подошел от алтаря и помолился обо мне, помолился, чтобы я получила крещение Святым Духом. Теперь, когда вспоминаю, мне кажется, я просто разнервничалась. Но я испытала какой-то кайф, какое-то глубокое чувство. И заговорила на каком-то языке. Как пить дать, язык был выдуманный. Предполагается, что так ты говоришь с Богом. Не заморачиваясь со всякими там языками. Глаза у тебя закрыты. В любом случае, какое-то покалывание я почувствовала. Как бы отрешилась от того, что происходило вокруг. Ушла в свой собственный мир. Смогла позабыть, кто я такая и чем занимаюсь по жизни. И просто делала то, что делала. Это продолжалось минуты две. Он положил руку мне на макушку, и я просияла. Наверно, я была просто уязвима перед всем на свете.
– Почему?
– Причины обычные. Причины как у всех. Из-за того, какие у меня были родители. Дома на меня почти не обращали внимания. Ноль внимания. И вот я забрела туда, где вдруг стала звездой, и все меня любят, и всем я желанна – как я могла сопротивляться? Я была христианкой двенадцать лет. С пятнадцати до двадцати семи. Одной из тех хиппи, которые пришли к Богу. Это стало моей жизнью. Вообще-то, я даже в школу не ходила. Бросила школу, но тут взяла и вернулась в начальную школу, и в шестнадцать лет в Сан-Франциско доучилась в начальной школе. Грудь у меня уже тогда была, как сейчас, а я, такая грудастая, сидела в классе среди всей этой малышни.
– Ваш крест, – сказал я, – вы его несете перед собой, а не на спине.
– Иногда и впрямь так кажется. На работе врачи все время ко мне невзначай прижимались. В любом случае в школе я всю жизнь была неуспевающей, а тут вдруг, несмотря на титьки и все остальное, начала учиться нормально. И читала Библию. Мне нравилось все это насчет «умереть для себя, чтобы жить для Бога». Я и так чувствовала себя говном, а это было как бы подтверждение моих ощущений: да, я и вправду говно. Я никчемная, я ничто, а Бог – Всё. В этом может быть очень много страсти. Просто вообразите, что кто-то так сильно вас любил, что умер за вас. Любовь на всю катушку.
– Вы все это приняли близко к сердцу.
– О, совершенно верно. Словно про меня сказано. Да, да. Я обожала молиться. Страстно переживала, молилась, и любила Бога, и впадала в экстаз. Помню, я приучала себя ни на что не смотреть, когда иду по улице. Смотрела только прямо перед собой. Не хотела отвлекаться от созерцания Бога. Но этого надолго не хватает. Слишком уж трудно. Ощущение как бы испарялось – и тогда меня начинала мучить совесть.
Куда она подевала все свои «типа» и «вот так-то вот»? Куда подевалась давешняя медсестра – шлюховатая, говорящая все напрямик? Теперь она лепетала нежно, как примерный десятилетний ребенок, тараторила невинным чистым голоском милой и умненькой десятилетней девочки, только что обнаружившей, как приятно сообщать людям полезные сведения. Казалось, передо мной девочка весом килограммов тридцать, еще не достигшая пубертата, которая только что выучилась говорить красиво, а у себя дома помогает маме печь пирог – таким свежим был ее голосок, согретый всем этим вниманием. Казалось, она щебечет, помогая папе мыть машину в воскресный денек. Я словно слышал голос хиппушки с пышным бюстом, которая сидела за партой в начальной школе и пришла к Богу.
– Совесть? Почему? – спросил я у нее.
– Потому что я любила Бога не так сильно, как Он заслуживал. Совесть мучила меня за интерес к мирскому. Особенно когда я стала старше.
Я увидел, как мы вдвоем вытираем вымытые тарелки в Янгстауне, штат Огайо. Так кто она – моя дочь или моя жена? Вот каким абсурдным задником теперь дополнился двусмысленный первый план. В этой фазе мое сознание сделалось каким-то неуправляемым, но, впрочем, вообще чудо, что я до сих пор не задремал, что в четыре утра следующего дня она и я – и он – до сих пор не унялись, и что – еще одно чудо – я только сильнее подпадаю под их чары, пока слушаю ее длиннющую историю, которая ничего не может изменить, ни на йоту.
– К чему? – спросил я у нее. – К мирскому – это к чему?
– К своей внешности. Ко всякой ерунде. К своим друзьям. К развлекухе. К суетному. К себе самой. Мне не полагалось интересоваться собой. Вот я и решила пойти в медсестры. Мне не хотелось идти в медсестры, но быть медсестрой – значит быть самоотверженной, я могла делать что-то для ближнего и позабыть о своей внешности. Я могла служить Христу через свой труд медсестры. Тогда я все равно осталась бы на хорошем счету у Бога. Я вернулась на Средний Запад, в Чикаго стала прихожанкой одной новой церкви. Церкви Нового Завета. Мы все пытались следовать в земной жизни Христовым заветам. Возлюбить друг друга и принимать участие в жизни друг друга. Заботиться о своих братьях и сестрах. Это была сплошная лажа. На самом деле никто так не поступал, просто языком много трепали. Некоторые пробовали поступать по заветам. Но у них никогда ничего не получалось.