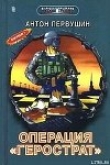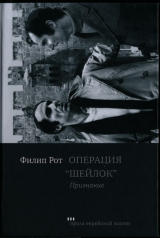
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Я взял это такси в Рамалле! – закричал я. – Водитель остановился посрать!
– Говорите по-английски! – крикнул мне кто-то.
– ЭТО АНГЛИЙСКИЙ! ОН ОСТАНОВИЛСЯ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬ НУЖДУ!
– Да? Он?
– Водитель! Араб-водитель! – Но где же он? Неужели сцапали только меня? – Тут был водитель!
– Сейчас глубокая ночь!
– Вот как? Я не знал.
– Посрать? – спросил чей-то голос.
– Да, мы остановились, чтобы водитель посрал, он просто мигал фонариком…
– Посрать!
– Да!
Неведомый человек, задававший вопросы, захохотал.
– И больше ничего? – крикнул он.
– Насколько я знаю, да. Но я могу ошибаться.
– Ошибаетесь!
И тут подошел один из них, молодой здоровенный парень, протягивая ко мне руку. В другой руке он держал пистолет.
– Возьмите. – Он передал мне мой бумажник. – Вы это обронили.
– Спасибо.
– Какое совпадение, – учтиво произнес он на безукоризненном английском. – Только сегодня, только сегодня днем я дочитал одну из ваших книг.
* * *
Спустя полчаса я благополучно прибыл к дверям отеля, куда меня доставил на армейском джипе, взяв на себя роль моего шофера, Галь Мецлер°, молодой лейтенант, который в этот самый день прочел от корки до корки «Литературного негра[30]». Галь, двадцатидвухлетний сын преуспевающего промышленника из Хайфы, в прошлом малолетнего узника Освенцима, был с отцом в таких же отношениях (сказал мне сам Галь), как Натан Цукерман со своим отцом в моей книге. Мы сидели рядом на передних сиденьях джипа, припаркованного перед отелем, и Галь рассказывал мне про отца и про себя, а я думал: за все это время я видел в Великом Израиле только одного сына, который не в разладе с отцом – это Джон Демьянюк – младший. Вот у них – мир и согласие.
Галь сказал мне, что через шесть месяцев закончится его четырехлетний срок офицерской службы. Сможет ли он за эти долгие месяцы сохранить здравый рассудок? «Даже сам не знаю», – сказал он мне. Потому-то и глотает по две-три книги в день, чтобы хотя бы ненадолго вырваться из этого бредового существования. По ночам, сказал он, каждую ночь он предается мечтам – уехать из Израиля, когда закончится срок службы, и – в Нью-Йорк, в киношколу. Знаю ли я киношколу Нью-Йоркского университета? Он упомянул имена некоторых преподавателей. Знаком ли я с ними?
– Долго ли, – спросил я его, – вы пробудете в Америке?
– Не знаю. Если к власти придет Шарон… Не знаю. Сейчас, когда я приезжаю в отпуск домой, мать ходит вокруг меня на цыпочках, словно я только что из больницы, словно я инвалид или калека. Я долго не выдерживаю. Начинаю на нее орать: «Хочешь знать, бил ли я лично кого-нибудь? Нет, не бил. Но чтобы от этого увильнуть, я должен изворачиваться!» Она радуется, начинает плакать, и ей становится легче. Но тут отец начинает орать на нас обоих. «Руки ломают? В Нью-Йорке такое происходит каждую ночь. С черными. Ты что, сбежишь из Америки, потому что в Америке кому-то ломают руки?» Отец говорит: «Возьми британцев, загони их сюда, пусть столкнутся с тем, с чем сталкиваемся мы, – и что, они будут соблюдать моральный кодекс? А канадцы станут? А французы? Государство действует не в духе какой-то высоконравственной идеологии, а в своих интересах. Государство действует так, чтобы уцелеть». – «Тогда, наверно, я предпочитаю быть человеком без государства», – говорю я ему. А он надо мной смеется. «Мы это пробовали, – говорит. – Не сработало». Нужен мне больно его глупый сарказм – я и так почти поверил в его идеи! И все же мне приходится иметь дело с женщинами и детьми, которые смотрят мне в глаза и вопят благим матом. Смотрят, как я приказываю своим солдатам забирать их братьев и сыновей, и видят перед собой израильского монстра в темных очках и армейских ботинках. Когда я это говорю, отец смотрит на меня с омерзением. Посреди обеда швыряет тарелки на пол. Мать плачет. Я плачу. Я – и то плачу! А я ведь никогда не плачу. Но я люблю своего отца, мистер Рот, и потому плачу! Все, что я сделал в жизни, я сделал, чтобы отец мной гордился. Вот почему я стал офицером. Мой отец выжил в Освенциме, когда был на десять лет младше меня. Мне унизительно думать, что я в силах это перетерпеть. Я знаю, что такое реальная жизнь. Я не дурак какой-нибудь, чтобы думать, будто я чистенький или что жизнь простая штука. Такова судьба Израиля – жить посреди моря арабов. Евреи согласились принять эту судьбу вместо того, чтобы не иметь ничего, не иметь никакой судьбы. Евреи согласились с разделом земель, а арабы – нет. Ответь они «да», напоминает мне отец, они бы тоже праздновали сорок лет своей государственности. Но каждый раз, когда им следовало принять политическое решение, они неизменно делали неверный выбор. Да, я все это знаю. Девяносто процентов несчастий произошли с ними из-за идиотизма их же политических лидеров. Я это знаю. Но как взгляну на наше собственное правительство, меня тошнит. Вы мне не напишете рекомендацию для Нью-Йоркского университета?
Здоровяк-военный, вооруженный пистолетом, девяностокилограммовый командир с черным от трехдневной щетины лицом, в камуфляже, провонявшем от пота; и все же, чем больше он рассказывал о том, как сердится на отца, а отец – на него, тем моложе и беззащитнее он мне казался. А теперь эта просьба, произнесенная голосом ребенка.
– Так вот, – засмеялся я, – зачем вы спасли мне жизнь. Вот зачем вы не дали им переломать мне руки – чтобы я смог написать вам рекомендацию.
– Нет, нет, ничего подобного, – торопливо ответил этот мальчик, лишенный чувства юмора, удрученный моим смехом, посерьезневший даже сильнее, чем раньше, – нет-нет, вас бы никто не обидел. Да, такое случается, случается, конечно, я не говорю, что не случается: некоторые из наших зверствуют. Большинство – со страху, кто-то – потому что знает, что другие на него посматривают, не хочет сойти за труса, а некоторые думают: «Пусть лучше такое случится с ними, чем с нами, лучше с ним, чем со мной». Но нет, я вас уверяю – вам реальная опасность не угрожала, ни минуты.
– Это вам угрожает реальная опасность.
– Опасность сломаться? Вы это чувствуете? Видите?
– Знаете, что я вижу? – сказал я. – Я вижу, что вы диаспорист, хотя сами того не сознаете. Вы даже не знаете, что такое диаспорист. Не знаете, какие у вас в действительности есть варианты.
– Диаспорист? Это еврей, который живет в диаспоре.
– Нет-нет. Нечто большее. Гораздо большее. Это еврей, для которого быть подлинным евреем значит жить в диаспоре, для которого диаспора – нормальное состояние, а сионизм – аномалия, диаспорист – еврей, полагающий, что только евреи из диаспоры чего-то стоят, что только евреи из диаспоры уцелеют, что только евреи из диаспоры – настоящие евреи…
Трудно понять, откуда у меня взялась энергия после всего, что я пережил за какие-то двое суток, но здесь, в Иерусалиме, что-то внезапно понеслось, увлекая меня за собой, и, похоже, на эту игру в Пипика у меня было больше сил, чем на что-либо другое. Дав волю языку, я испытал сладострастное ощущение, во мне разыгралось красноречие, и я без устали призывал к деизраилизации евреев, снова и снова говорил без остановки, подчиняясь опьяняющему влечению, – хотя, если честно, оно обеспечивало мне не столь железную самоуверенность, как должно было показаться бедняге Галю, которого и так раздирали мятежные, запретные переживания преданного, любящего сына.
Часть вторая
6
Его история
Когда я подошел к стойке, чтобы взять ключ от номера, молодой портье улыбнулся и сказал:
– Но он у вас, сэр.
– Будь он у меня, я бы его не просил.
– Я вам его отдал, сэр, еще раньше, когда вы вышли из бара.
– Я не заходил в бар. Я сегодня побывал во всех точках Израиля, но только не в вашем баре. Послушайте, я мучаюсь от голода и жажды. Я испачкался, мне нужно принять ванну. Я с ног валюсь. Ключ.
– Хорошо, ключ! – пропел он, притворяясь, что смеется над собственной глупостью, и отвернулся, чтобы поискать для меня ключ, а до меня постепенно дошло, что значит только что мною услышанное.
Получив ключ, я присел в плетеное кресло в углу холла. Тот самый портье, который вначале меня огорошил, минут через двадцать подошел ко мне на цыпочках и тихо спросил, не помочь ли мне дойти до номера; опасаясь, что мне нездоровится, он принес на подносе бутылку минеральной воды и стакан. Я взял бутылку и выпил всю воду, а поскольку портье не уходил и вид у него был встревоженный, заверил, что со мной все в порядке и до номера я смогу дойти без посторонней помощи.
Было без нескольких минут одиннадцать. Если я подожду еще часок, он, может быть, уйдет сам? Или просто наденет мою пижаму и ляжет спать? Возможно, правильное решение – доехать на такси до «Царя Давида» и попросить на стойке его ключ так же небрежно, как он, наверно, получил мой и пошел наверх. Да, поехать туда и переночевать там. С ней. А завтра он встретится с Аароном, чтобы завершить наш разговор, а мы с ней вдвоем продолжим агитацию за наше дело. Я просто начну с того места, на котором закончил свою речь в джипе.
Угнездившись в кресле в углу холла, я сонно развивал мысль, что сейчас еще длится лето прошлого года, а все, что показалось мне текущим моментом, – еврейский суд в Рамалле, отчаявшиеся жена и сын Джорджа, то, как я сыграл перед ними Мойше Пипика, похожая на фарс поездка в такси с водителем, у которого прихватило живот, встреча с израильской армией, стоившая мне столько нервов, то, как я сыграл Мойше Пипика перед Галем – все это было галлюцинацией от хальциона. Да и сам Мойше Пипик – такая же галлюцинация, как и Ванда-Беда Поссесски, как и этот арабский отель, как и Иерусалим. Будь это настоящий Иерусалим, я бы находился там, где останавливаюсь всегда – в гостевом доме муниципалитета в квартале Мишкенот-Шаананим. Повидался бы с Аптером и со всеми моими здешними друзьями…
Встрепенувшись, я всплыл из глубин сна, и оказалось, что по обе стороны от меня – горшки с высокими папоротниками, а тот же добросердечный портье снова предлагает воду и спрашивает, точно ли мне не нужна помощь. Взглянул на часы – полдвенадцатого.
– Скажите, пожалуйста, какое сегодня число, месяц и год?
– Вторник, двадцать шестое января тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Через тридцать минут, сэр, наступит двадцать седьмое.
– И это Иерусалим.
Он улыбнулся:
– Да, сэр.
– Все, спасибо.
Я сунул руку во внутренний карман пиджака. Неужели это тоже была хальционовая галлюцинация – тот банковский чек на миллион долларов? Должно быть, да. Конверт исчез.
Я не стал просить портье, чтобы он позвал управляющего или начальника охраны и предупредил их, что в мой номер проник незваный гость, выдающий себя за меня, – вероятно, сумасшедший и, может быть, даже вооруженный; вместо этого я встал, пересек холл и заглянул в ресторан – не удастся ли в этот поздний час раздобыть там что-то съестное? Вначале потоптался на пороге – а вдруг там сейчас ужинают Пипик с Бедой? Запросто может статься, что она сопровождала его, когда он вышел из бара, чтобы раздобыть у портье мой ключ, запросто может статься, что они пока не трахаются в моей комнате, а едят здесь вместе за мой счет. Почему бы и нет, в довершение всего?
Но кроме компании из четырех мужчин, засидевшихся за кофе за круглым столиком в дальнем углу ресторана, в зале никого не было – даже официантов. Четверка, похоже, прекрасно проводила время, негромко обменивалась смешками, и только когда один из них встал из-за стола, я его узнал: сын Демьянюка, а его спутники-полуночники – адвокаты его отца: канадец Чумак, американец Джилл и израильтянин Шефтель. Наверно, за ужином они разрабатывали стратегию на следующий день, а теперь желали спокойной ночи Джону-младшему. Он был одет попроще – уже не в опрятный темный костюм, в котором я видел его в суде, а в слаксы и рубашку-поло, а заметив в его руках пластиковую бутылку воды, я вспомнил, что прочел в вырезках: за исключением Шефтеля, который живет и работает в сорока пяти минутах езды, в Тель-Авиве, адвокаты и родственники Демьянюка остановились в «Американской колонии»; наверно, он несет воду к себе в номер.
Выходя из ресторана, Демьянюк-младший разминулся со мной, и я, словно его-то и поджидал, развернулся и последовал за ним все с той же мыслью, что и днем раньше, когда наблюдал, как он выходил из здания суда: неужели этому парнишке следует ходить без охраны? Разве нет ни одного бывшего узника, чьи дети, или сестра, или брат, или родители, или муж, или жена были убиты именно там, разве нет никого, кто был там искалечен или доведен до неизлечимого безумия, никого, кто готов отомстить Демьянюку-старшему, отыгравшись на Демьянюке-младшем? Разве нет никого, кто готов держать сына в заложниках, пока отец не сознается? Трудно понять, каким чудом он до сих пор жив и невредим в стране, населенной последними представителями поколения, в истреблении которого, если верить обвинению, столь рьяно участвовал его полный тезка. Неужели во всем Израиле не найдется ни одного Джека Руби?
И тут меня осенило: ну а ты-то сам?
Держась от него в полутора метрах, не больше, я шел за Демьянюком-младшим через холл и вверх по лестнице, подавляя желание остановить его и сказать: «Послушайте, я, например, не вменяю вам в вину уверенность в том, что вашего отца оговорили. Разве вы могли бы придерживаться иного мнения, будучи хорошим американским сыном – таким, как вы? То, что вы верите своему отцу, не делает вас моим врагом. Но в этой стране найдутся люди, которые, возможно, воспримут это иначе. Вы чертовски рискуете, разгуливая вот так. Вы, ваши сестры и ваша мать уже достаточно натерпелись. Но помните, то же самое можно сказать и о многих евреях. Какими бы иллюзиями вы ни тешились, вам никогда не оправиться после этой истории, но и многие евреи до сих пор не вполне пришли в себя после того, что испытали они и их родственники. Пожалуй, вы требуете от них слишком много, когда расхаживаете здесь в красивой рубашке и чистых слаксах, с полной бутылкой минералки в руке… Не сомневаюсь, в собственных глазах вы выглядите совершенно безобидно: при чем тут вода? Но не бередите воспоминаний, когда без этого можно обойтись, не искушайте какого-нибудь ожесточенного, надломленного беднягу, чтобы он потерял власть над собой и совершил что-нибудь предосудительное…»
Когда моя добыча свернула с лестничной клетки в коридор, я направился выше, на верхний этаж, где в середине коридора находился мой номер. Тихонько приблизился к двери номера и прислушался к звукам изнутри; а позади меня, у лестничной клетки остановился некто, глядя в мою сторону, – некто, следовавший за мной в нескольких шагах, пока я следовал за сыном Демьянюка. Ну конечно же, полицейский в штатском! Откомандирован сюда полицией, обеспечивает безопасность Джона-младшего. Либо он ходит за мной, воображает, будто я – Мойше Пипик? Либо выслеживает Пипика, приняв Пипика за меня? Или пришел выяснять, почему нас двое и что мы замышляем вдвоем?
Хотя из комнаты не доносилось ни звука – может, Пипик уже пришел и ушел, успев украсть или уничтожить то, что искал, – я не сомневался: если есть хоть малейшая вероятность того, что он находится в номере, глупо входить внутрь одному, поэтому я развернулся и пошел было обратно к лестнице, но тут дверь моего номера приоткрылась, и из нее высунулась голова Мойше Пипика. В тот момент я уже шагал по коридору с удвоенной скоростью, но, поскольку мне не хотелось показывать ему, как я его теперь боюсь, задержался и даже неспешно сделал несколько шагов назад, туда, где он стоял, высунувшись на полкорпуса в коридор. Увиденное вблизи так меня поразило, что я еле подавил в себе желание броситься наутек, за подмогой. Его лицо я хорошо помнил: оно смотрело на меня из зеркала месяцами, пока у меня длился нервный срыв. Он был без очков, и в его глазах я увидел свой собственный леденящий ужас минувшего лета, глаза были мои – налитые страхом той поры, когда я мог думать только о способах самоубийства. На его лице читалось то, что так пугало Клэр: моя гримаса вечной скорби.
– Вы, – сказал он. И больше ничего. Но в его устах это было обвинение: тот «я», который является мной.
– Входите, – сказал он слабым голосом.
– Нет, это вы выходите. Заберите свою обувь, – он был в носках, в рубашке навыпуск, – заберите все свое, отдайте ключ и катитесь отсюда.
Даже не соизволив ответить, он повернулся спиной и скрылся в номере. Я застыл на пороге, заглянул внутрь: может быть, Беда тут, с ним? Но он растянулся на кровати наискосок, в полном одиночестве, печально созерцая сводчатый беленый потолок. Подушки громоздились в изголовье, покрывало – сдернуто и сброшено на кафельный пол, а рядом с ним на кровати лежала раскрытая книга – мой экземпляр «Цили» Аарона Аппельфельда. Ничто больше в этой комнатке, похоже, не было сдвинуто с места; даже в гостиницах я обращаюсь со своими вещами аккуратно, и, как мне показалось, все лежало так, как я оставил. Вещей у меня было довольно мало: на маленьком письменном столе у широкого арочного окна лежали папка с моими конспектами бесед с Аароном, три кассеты, которые мы с Аароном уже наговорили, и книги Аарона в английском переводе. Поскольку диктофон лежал в моем единственном чемодане, чемодан – в шкафу, запертом на ключ, а ключ – в моем бумажнике, он никаким способом не мог прослушать кассеты; возможно, порылся в рубашках, носках и белье в среднем ящике комода, возможно, позднее я обнаружу, что он даже их как-то осквернил; и все же я сознавал: если он не устроил в ванной жертвоприношение козла, мне здорово повезло.
– Послушайте, – сказал я ему, оставаясь на пороге. – Я сейчас приведу гостиничного сыщика. Он вызовет полицию. Вы вторглись в мою комнату. Вы посягнули на мою собственность. Не знаю, что уж вы могли тут прихватить…
– Что я прихватил? – с этими словами он заворочался, приподнялся, сел на край постели, обхватив голову руками, так что я на время перестал видеть скорбное лицо и замечать его сходство с моим собственным – сходство, по-прежнему ужасавшее и изумлявшее меня. Он тоже сейчас не мог видеть меня и замечать это сходство, пленившее его по мотивам, личные нюансы которых оставались для меня неясными. Я понимал, что люди все время пытаются преобразиться: каждый подвержен тяге быть не таким, каков есть. И, чтобы не выглядеть так, как они выглядят, не говорить так, как говорят, не сталкиваться с тем отношением, с каким сталкиваются, не страдать так, как страдают и т. п., и т. д., люди меняют прически, портных, супругов, произношение, друзей, меняют адреса, носы, обои, даже государственный строй – делают все, чтобы стать больше похожими на себя, или меньше похожими на себя, или более-менее такими, как показательный прототип, образ которого дан им на всю жизнь в качестве примера для подражания или объекта страстного и категорического неприятия. Пипик не только зашел дальше, чем большинство людей на свете, – он уже, в своем отражении в зеркале, невероятно эволюционировал, перешел в состояние другого; не осталось почти ничего, чего бы он еще не сымитировал или не нафантазировал. Могу понять этот соблазн – стереть себя и сделаться, пусть несовершенным и подложным, но в каком-то новом, увлекательном духе; я тоже поддавался этому соблазну, и не только несколькими часами раньше, в обществе Зиадов, а потом в обществе Галя, но и в гораздо более широком масштабе – в своих книгах: я выглядел, как я, разговаривал, как я, даже претендовал на приличествующие случаю страницы собственной биографии, и все же под изображавшим меня маскарадным костюмом я был кем-то совсем другим.
Но то, что происходит сейчас, происходит не в книге, и допускать, чтобы такое происходило, нельзя.
– А ну брысь с моей кровати, – сказал я ему, – вон отсюда!
Он, однако, взял в руки «Цили» Аарона и стал мне показывать, как много успел прочитать.
– Настоящая отрава, – сказал он. – Все, с чем борется диаспоризм. Почему вы такого высокого мнения об этом господине, когда нам совершенно не нужны такие, как он? Он никогда не разлучится с антисемитизмом. Это краеугольный камень, на котором он строит весь свой мир. Вечный и непоколебимый антисемитизм. Этот человек непоправимо искалечен Холокостом – почему вы хотите, чтобы люди читали такие книжки, пропитанные страхом?
– Вы не уловили суть: я хочу только, чтобы вы ушли отсюда.
– Я потрясен: вы – и вдруг, после всего, что вами написано, хотите упрочить стереотип еврея-жертвы. В прошлом году я читал в «Нью-Йорк таймс», ваш диалог с Примо Леви. Я слышал, у вас был нервный срыв после того, как он покончил с собой.
– От кого вы это слышали? От Валенсы?
– От вашего брата. От Сэнди.
– Вы и с моим братом поддерживаете контакты? Он об этом никогда не упоминал.
– Входите. Прикройте дверь. Нам нужно много о чем поговорить. Мы с вами десятки лет сплетены воедино, между нами тысячи соединительных звеньев. Вы даже знать не желаете, как все это необычно, да? Хотите только одного – избавиться от этой связи. Но она уходит корнями в давние времена, Филип, еще во времена «Ченселлор-авеню-скул»[31].
– Вот как? Вы учились в «Ченселлор»?
Он тихо пропел нежным баритоном – до жути знакомым мне голосом – несколько тактов из гимна «Ченселлор-авеню-скул», слова, написанные в начале тридцатых годов на мелодию песни «Вперед, Висконсин». «Мы тут рук не покладаем… наша цель – всех побеждать… Мы доверье оправдаем… тра-ля-ля, ля-ля-ля…» И грустно улыбнулся мне, искривив лицо в скорбной гримасе.
– Помните регулировщика, который переводил вас через перекресток Ченселлор и Саммит? Тысяча девятьсот тридцать восьмой год, когда вы пошли в приготовительный класс. Помните, как его звали?
Пока он говорил, я оглянулся на лестничную клетку и там, к своему облегчению, увидел ровно того, кого искал. Он мешкал на площадке: невысокий, коренастый, без пиджака, брюнет с короткой стрижкой и невыразительным, как маска, лицом, – но, может, оно кажется таким только издали? Он взглянул в мою сторону, уже не пытаясь скрыть, что присутствует здесь и тоже учуял нечто подозрительное. Да, это полицейский в штатском.
– Эл, – снова заговорил Пипик, откинувшись на подушки. – Его звали Эл, – тоскливо повторил он.
Пока Пипик бормотал, лежа на кровати, полицейский, хотя я не сделал ему никакого знака, двинулся по коридору к распахнутой двери, у которой я ждал.
– Вы подпрыгивали, чтобы дотронуться до его рук, – напоминал мне Пипик. – Он широко расставлял руки, чтобы остановить движение, а вы, малыши, переходя улицу, подпрыгивали и трогали его руки. Каждое утро: «Привет, Эл!» – и прыг! И касались его рук. Тысяча девятьсот тридцать восьмой. Помните?
– Конечно, – сказал я и, когда полицейский подошел ближе, улыбнулся ему: мол, он тут нужен, но ситуация пока под контролем. Он наклонился к моему уху и что-то пробубнил. Говорил он по-английски, но с таким акцентом, что его негромкие слова вначале прозвучали неразборчиво.
– Что? – шепнул я.
– Хотите, я у вас отсосу? – прошептал он в ответ.
– Ой, нет… спасибо, нет. Обознался. – Я вошел в номер и захлопнул дверь. – Извините за вторжение, – сказал я.
– Помните Эла? – спросил Пипик.
Я сел в мягкое кресло у окна, не вполне понимая, что еще теперь делать, когда я заперт вместе с ним.
– Пипик, вы какой-то бледный.
– Простите, что вы сказали?
– Вид у вас ужасный. Вид у вас больной. Эта затея вам не впрок – у вас вид человека, который сильно влип.
– Пипик? – Он привстал на кровати. И презрительно спросил: – Вы меня Пипиком назвали?
– Не принимайте близко к сердцу. Как еще мне вас называть?
– Хватит пустых слов – я пришел за чеком.
– Каким чеком?
– Моим чеком!
– Вашим? Я вас умоляю. Пипик, вам еще никто не рассказывал про мою двоюродную бабушку из Данбери? Старшую сестру моего деда по отцу. Вам еще никто не рассказывал про нашу бабушку Гичу?
– Я хочу получить чек.
– Вы прознали про регулировщика Эла, кто-то научил вас словам гимна «Ченселлор» от начала до конца, значит, вам пора узнать и про Бабу Гичу, старейшину нашего клана, и как мы ездили к ней в гости, и как мы ей звонили, когда возвращались от нее живые и невредимые. Вы так интересуетесь тридцать восьмым годом – а это примерно сороковой.
– Вы не меня обкрадываете, украв этот чек, вы не Смайлсбургера обкрадываете – вы обкрадываете еврейский народ.
– Я вас умоляю. Просто умоляю. Хватит. Баба Гича тоже была еврейка, знаете ли. Так что послушайте. – Не решусь утверждать, будто я вообще понимал, что делаю, но я сказал себе: если я просто перехвачу инициативу и начну говорить без умолку, то так его утомлю, что от него ничего не останется, а затем буду действовать дальше… Но как действовать? – Баба Гича выглядела настоящей иностранкой, словно только-только приехала из Старого Света, она была дородная, властная и неугомонная, носила парик, шали, длинные темные платья, и поездка в Данбери к ней в гости превращалась в совершенно необычную экспедицию – мы оказывались словно бы не в Америке.
– Мне нужен чек. Немедленно.
– Пипик, хватит попискивать.
– Отвяньте с вашим Пипиком!
– Тогда слушайте меня. Это интересно. Примерно раз в полгода мы рассаживались по двум машинам и ехали на выходные к Бабе Гиче. Ее муж был шляпником в Данбери. Раньше он работал в Ньюарке на фабрике Фишмана вместе с моим дедом, который тоже одно время был шляпником, но, когда фабрики головных уборов переехали в Коннектикут, Гича и ее семья переселились вместе с ними в Данбери. Лет через десять муж Гичи в нерабочее время вез партию готовых шляп на склад, застрял в лифте и погиб. Гича осталась одна, и потому два-три раза в год мы все ездили на север с ней повидаться. В те времена дорога до Данбери отнимала пять часов. Тетки, дядья, кузены, моя бабушка – все мы набивались в машины, ехали туда вместе, возвращались обратно тоже вместе. Пожалуй, это было самое еврейское, самое идишское событие моего детства – казалось, углубляясь на север, до самого Данбери, мы доезжали до легендарной Галиции из нашего прошлого. Дома у Бабы Гичи царили уныние и неразбериха: лампочки тусклые, на плите вечно что-то варится, надвигаются болезни, то и дело назревает какая-то новая трагедия, а местная родня совершенно не походила на ту энергичную, здоровую, американизированную компанию, которая прибывала туда на новеньких «студебеккерах». Баба Гича так и не оправилась после того, как ее муж погиб в аварии. Каждый раз была уверена, что по дороге к ней мы разобьемся на машине, а когда мы не разбивались, не сомневалась, что нам суждено разбиться на обратном пути, и потому установился обычай: вернувшись воскресным вечером домой и только что войдя в переднюю, мы прежде, чем сходить в туалет или снять пальто, должны были позвонить Бабе Гиче и успокоить ее – мол, мы еще живы. Разумеется, в те времена в нашей среде междугородний телефонный звонок был чем-то неслыханным – никто даже не мечтал звонить по междугородке, кроме экстренных случаев. И все же, когда мы возвращались домой от Бабы Гичи, пусть в самый поздний час, моя мать поднимала трубку и, словно действовала без всякой задней мысли, звонила на телефонную станцию, просила соединить по междугородке с номером Бабы Гичи в Коннектикуте и пригласить к аппарату Мойше Пипика лично. Мама держала трубку в руке, а мы с братом прижимались к трубке ушами: очень уж занятно было слышать, как гойская телефонистка пытается выговорить «Мойше Пипик». Она вечно перевирала это имя, а моя мать, которая блестяще проделывала этот трюк и удостаивалась похвал от всей родни, – моя мать совершенно спокойно, совершенно внятно произносила: «Нет, барышня, нет, пригласить к аппарату Мой-ше Пи-пи-ка… Мистера Мойше… Пипика». И когда телефонистка наконец-то выговаривала это имя относительно правильно, мы слышали, как в трубку врывался голос Бабы Гичи: «Мойше Пипик? Его тут нет! Полчаса как ушел!», – и тут же – бам-м, бросала трубку, а то еще телефонная компания догадается о нашей проделке и засадит нас всех в тюрьму.
Каким-то образом эта история – возможно, просто потому, что была длинная – его слегка успокоила, и он прилег на кровать с таким видом, словно временно неопасен ни для кого, даже для себя самого. Прикрыв глаза, он сказал, очень устало:
– Как это связано с тем, что вы сделали со мной? Есть хоть какая-то связь? Или вы вообще не понимаете, что подстроили мне сегодня?
И тогда я подумал: он вроде моего блудного сына, вроде ребенка, которого у меня никогда не было, – этакий инфантильный, ни к какому делу не пригодный половозрелый мужчина, унаследовавший традиционное семейное имя и внешность своего яркого отца и удрученный ощущением, что отец наступает ему на горло; он носится по всему свету, чтобы выучиться дышать самостоятельно, и, проведя десятки лет в седле мотоцикла, преуспев разве что в бренчании на электрогитаре, появляется в дверях старого особняка, чтобы излить свое бессилие, не отпускающее его всю жизнь, а затем, спустя сутки исступленных обвинений и пугающего плача, лежит в своей бывшей детской, временно исчерпав запас контробвинений, а отец добродушно сидит рядом, мысленно составляя список всех недостатков отпрыска и думая: «В твои годы я уже…» – а вслух рассказывает что-то забавное, тщетно пытаясь развеселить этого хищника, добиваясь, чтобы он сменил гнев на милость – пусть, самое малое, возьмет чек, за которым пришел, и укатит куда-нибудь, где его возьмут работать в автосервис.
Чек. Чек не был галлюцинацией, но чек исчез. Все это – не галлюцинация. Это еще хуже хальциона – это происходит на самом деле.
– Вы сейчас думаете, что Пипик был для нас крайним, – сказал я, – козлом отпущения для козлов отпущения, но нет – Пипик был Протей, единый в ста разных лицах. В этом отношении он был совсем как человек. Мойше Пипик не существовал и никак не мог существовать на свете, и все же мы уверяли: он настолько реален, что может подойти к телефону. Семилетнего ребенка все это смешило до колик. Но тут Баба Гича говорила: «Полчаса как ушел», и я внезапно становился не умнее телефонистки, я верил Бабе Гиче. Я буквально видел, как он уезжает. Ему хотелось остаться, еще немного поговорить с Бабой Гичей. Он заходил к ней, чтобы в чем-то удостовериться. Наверно, в том, что он не совсем один на свете. Евреев в Данбери было не очень много. Как туда вообще занесло бедного маленького Мойше Пипика? Как ни странно, великанша Гича действовала на людей очень успокаивающе, хотя ее беспокоило все, что только существовало на свете. Но она атаковала свои тревоги, словно рыцарь – драконов, вот, наверно, в чем штука. Я воображал, как они беседуют на идише – Баба Гича и Мойше Пипик. Он был мальчик-беженец, в кепке беженца, в которой приехал из Старого Света, и она давала ему еду – прямо в кастрюльке, и старое пальто своего покойного мужа. Иногда украдкой совала ему долларовую бумажку. Но всякий раз, когда он заглядывал к ней после того, как уезжали, погостив на выходных, ее родственники из Нью-Джерси, и когда он сидел за столом и рассказывал ей про свои проблемы, она сидела, поглядывая на кухонные часы, а потом вдруг вскакивала и говорила: «Уходи, Мойше! Посмотри, который час! Боже упаси, если ты окажешься здесь, когда они позвонят!» И внезапно, ин митн дринен[32], он хватал свою кепку и убегал. Пипик бежал, бежал, бежал не останавливаясь, пока спустя пятьдесят лет не добежал, наконец, до Иерусалима, и от всей этой беготни на него накатила такая усталость, он ощутил такое одиночество, что в Иерусалиме его хватило только на одно – отыскать кровать, любую кровать, даже чужую кровать…