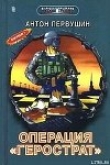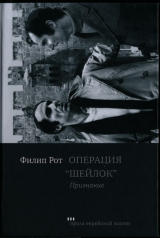
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– И что же положило конец вашему христианству?
– Ну-у, я работала в больнице и стала сближаться с теми, с кем работала. Я обожала, когда мной интересовались, потому что я была неприкаянная сиротка. Но в двадцать пять лет! Я уже становилась старовата для неприкаянной сиротки. А потом один парень, с которым я закрутила, Уолтер Суини его звали… он умер. Тридцать четыре года. Такой молодой. Такой страстный. Всегда так. И он решил, будто Бог хочет, чтобы он постился. Страдания – это большое дело, понимаете, есть такая фишка у христианства, когда люди верят, что Господь попускает наши скорби, чтобы научить нас лучше служить Ему. У них это называется «избавляться от шлаков». Что ж, Уолтер Суини и вправду избавился от шлаков. Стал поститься, чтобы очиститься. Чтобы стать ближе к Богу. И умер. Я нашла его тело: он стоял на коленях у себя в комнате. И в меня это впечаталось навеки, и дало мне весь этот самый опыт. Умереть на коленях. Дальше некуда!
– Вы спали с Уолтером Суини.
– Угу. Он был первый. С пятнадцати до двадцати пяти я была непорочной. В пятнадцать я не была девственницей, но с пятнадцати до двадцати пяти даже на свидания не ходила ни разу. Потом сблизилась с Суини, а потом он умер, и я закрутила с другим мужчиной, женатым, из нашего прихода. Это тоже сыграло большую роль. Особенно потому, что его жена была моей хорошей подругой. Я не могла с этим жить. Не могла больше смотреть в лицо Богу и потому перестала молиться. Это длилось недолго – месяца два, наверно, – но достаточно долго, чтобы я похудела на семь кило. Я сама себя мучила из-за этого. Я ничего не имела против самой идеи секса. Никак не могла уразуметь, почему секс под запретом. И до сих пор не могу. С чего такой шум? Кого это колышет? Мне казалось, запрещать его совершенно бессмысленно. Я пошла к психотерапевту. Потому что у меня было суицидальное настроение. Но от психотерапевта не было толку. Семинар по христианской межличностной терапии. Некий Родни.
– Что такое «христианская межличностная терапия»?
– Да это просто Родни со всеми разговаривает. Тоже лажа. Но потом я встретила парня, который не был христианином, и закрутила с ним. И так, постепенно… Не знаю, как объяснить это еще более внятно. Я это переросла. Во всех смыслах.
– Значит, из церкви вас увел секс. Мужчины.
– Наверно, он-то и привел меня в церковь… И, да, наверно, он помог мне из церкви уйти.
– Вы ушли из мира мужчин, а потом вернулись в мир мужчин. По крайней мере, так вы рассказываете.
– Ну-у, мужчины и правда были частью мира, из которого я ушла. Но заодно я ушла из мира своей депрессивной семьи и мира, где жили, как в хаосе. А потом, когда мой характер достаточно окреп, я смогла что-то делать сама. Пошла учиться на медсестру. Для меня это был большой шаг, который увел меня от христианства. Христианство еще и давало мне возможность не думать. Возможность пойти к старейшинам и спросить их, что мне делать. И спросить у Бога. Когда мне перевалило за двадцать, я поняла, что Бог не отвечает. И что старейшины не умнее меня. Что я могу думать своей головой. И все равно христианство спасло меня от кучи заскоков. Побудило вернуться в школу, уберегло от наркотиков, от случайных связей. Как знать, куда бы я в итоге могла попасть?
– Сюда, – сказал я. – Вот сюда вы и могли в итоге попасть – туда, куда попали. С ним. Живете с ним, как в хаосе.
Ты здесь не для того, чтобы помочь ей разобраться в самой себе. Хватит углубляться. Ты – не семинар по еврейской межличностной терапии. Это только сегодня ночью так кажется. Заявился один пациент, целый час, пока длился сеанс, кормил тебя своим излюбленным враньем, а потом ушел, предварительно обнажившись, попозже материализовалась другая пациентка, завладела твоей подушкой и тоже взялась угощать тебя враньем, на сей раз уже своим излюбленным враньем. Олитературивание обыденной жизни, поэзия, которую ты слышишь в шоу Фила Донахью, истории, которые она, вероятно, слышит в шоу Донахью, а я сижу тут с таким видом, словно никогда не слыхал повесть о полоумной шиксе от самой Шехерезады полоумных шикс, словно больше тридцати лет назад не увяз самым патологическим образом в пафосности этой истории; нет-нет, сижу и слушаю, как будто мне это на роду написано. Если мне подворачивается какая-то история, любая история, я завороженно млею. Либо слушаю истории, либо рассказываю их. Они – всему начало.
– Христианство спасло меня от кучи заскоков, – сказала она, – но не от антисемитизма. Мне кажется, я по-настоящему втянулась в ненависть к евреям, когда была христианкой. Раньше это был просто дурацкий пунктик моей родни. Знаете, почему я возненавидела евреев? Потому что им не приходилось мириться со всей этой христианской ахинеей. Умри для себя, ты обязана себя убить, страдание учит тебя, как лучше служить Ему, – а они посмеивались над всеми нашими страданиями. Сделай так, чтобы в тебе жил Господь, а ты чтоб была всего лишь его сосудом. Вот я и стала никем, только сосудом, а евреи стали врачами, юристами и богачами. Посмеивались над нашими страданиями, и над Его страданиями – тоже. Послушайте, поймите меня правильно, я обожала чувствовать себя пустым местом. В смысле, и обожала, и терпеть не могла. Я могла быть тем, чем сама себя считала, – говном, и меня за это хвалили. Я носила клетчатые юбки, собирала волосы в конский хвост, ни с кем не трахалась, а евреи – все как на подбор, высоколобые, средний класс, – они-то трахались, они были образованные, проводили Рождество на Карибах, и я их ненавидела. Ненависть зародилась во мне, когда я была христианкой, а в больнице расцвела в полный рост. Теперь, глядя с высоты ААС, я понимаю: у меня была еще одна причина их ненавидеть. Их сплоченность – вот что я ненавидела. Их превосходство, то, что неевреи называют алчностью, – вот что я ненавидела. Их паранойя и их самозащита, то, что они всегда мыслят стратегически и осмотрительно, всегда по-умному: евреи бесили меня до остервенения уже тем, что они евреи. В общем, такое у меня получилось наследство от Иисуса. Пока не пришел Филип.
– От Иисуса к Филипу.
– Ага, похоже на то. Значит, я на те же самые грабли наступила, верно? С ним, – ее голос звучал изумленно. Ее жизненный опыт – сплошное изумление.
А мой? От Иисуса к Филипу – к Филипу. От Иисуса к Уолтеру Суини, от Уолтера – к Родни, от Родни – к Филипу, от Филипа – к Филипу. Я – очередное апокалиптическое решение проблемы.
– И вас только здесь осенило, – спросил я, – что для вас он, возможно, наподобие рецидива?
– Я жила по инерции, знаете ли, меня несло туда, куда ветер подует, работала медсестрой, семь лет – я вам про все это рассказывала, рассказывала, как убила человека…
– Да-да.
– Но с ним я не знала, как выпутаться из ситуации. Никогда не знаю, как выпутаться. Мужики – один другого полоумнее, а я не знаю, как выпутаться. Моя проблема в том, что я очень уж страстно увлекаюсь, до экстаза. Мне требуется масса времени, чтобы разочароваться во всей этой невероятности. Наверно, мне не перестало нравиться, что люди мной интересуются, – вот и он заинтересовался моим антисемитизмом. И верно, он занял место Иисуса. Собирался очистить меня так, как очищала церковь. Наверное, мне нужно, чтобы все было четко – черное и белое. А в жизни на самом деле очень мало абсолютно черного и абсолютно белого, и я сама понимаю, что весь мир – сплошные промежуточные оттенки, но эти чокнутые догматики – они как-то уберегают тебя, понимаете?
– Кто он? Кто этот чокнутый догматик?
– Он не мошенник, он не аферист, вы совершенно зря так про него думаете. Для него евреи – вся его жизнь.
– Кто он, Ванда Джейн?
– Вот-вот, Ванда Джейн. Это я. Маленькая беспорочная Ванда Джейн, которая должна быть невидимой, должна быть служанкой. Разбойница Беда, Амазонка Беда, которая думает своей головой, которая сама за себя в ответе, сама все решает в своей жизни, способная за себя постоять, – Беда, которая держит умирающих на руках и видит все страдания, которые только может испытать человек, Беда Поссесски, которая ничего не боится и ласкает своих умирающих, как Мать Всего Сущего, и Ванда Джейн, которая ничего собой не представляет и всего боится. Не называйте меня Вандой Джейн. Это плохая шутка. Напоминает про тех, у кого я когда-то жила в Огайо. Знаете, кого я всегда ненавидела еще больше, чем евреев? Хотите знать мою тайну? Я ненавидела этих долбаных христиан. Бежала от них, бежала, бежала, но только сделала круг и вернулась в ту же точку. Все люди так живут, что ли, или только я? Католицизм очень глубоко въедается. Малахольность и глупость – тоже очень глубоко. Бог! Иисус! Иудаизм – уже третья великая религия в моей жизни, а мне только тридцать пятый год пошел. Я еще далеко зайду в поисках Бога. Надо бы мне завтра пойти летящей походкой к мусульманам, записаться в их ряды. У них, похоже, все разложено по полочкам. Насчет женщин у них блестяще проработано. А Библия… Я Библию не читала – открывала и тыкала пальцем, и любая фраза, в которую я тыкала, давала мне ответ. Ответ! Это были игры. Все это – идиотские игры. Но я освободилась. Да, освободилась. Выздоровела. Родилась заново в атеизме. Аллилуйя. Ну ладно, жизнь неидеальна, и я была антисемиткой. Если это самое худшее, до чего я дошла, то, учитывая, с чего я стартовала, это была победа, боже ж ты мой. Каждый человек кого-нибудь да ненавидит, разве нет? Кому я делала плохо? Медсестра что-то бухтит про евреев, ну и? С этим можно жить. Но нет, я все равно чувствовала, что мне нестерпимо быть отродьем моей семейки, меня воротило от всего, что из Огайо, вот как я закрутила с Филипом и с ААС. Я только что прожила год с чокнутым евреем. Даже не догадываясь. Ванда Джейн не знала этого, пока час назад он не набрал номер и не позвонил Меиру Кахане, этому верховному вождю религиозных фанатиков, Еврейскому Мстителю собственной персоной. Я сижу в Иерусалиме, в гостиничном номере, а три полоумных подонка в кипах орут хором на Филипа – давай, мол, пиши признание Демьянюка, орут насчет того, куда отвезут молодого Демьянюка и как нашинкуют его на кусочки и будут присылать папаше по почте, – а мне все равно невдомек. Только когда он позвонил самому Кахане, меня осенило, что я живу в кошмаре антисемита. Все, чему я научилась в ААС, – коту под хвост. Полная комната орущих евреев, и все замышляют убийство гойского ребенка – мне же мой польский дедушка-тракторист все время говорил, что в Польше они только этим и занимались! Вы, интеллектуалы, наверно, можете морщить нос и думать, что все это ниже вас, но тот бред, который вы считаете грязной брехней, для меня – просто часть жизни. С этим бредом почти все мои знакомые живут каждый день. Уолтер Суини по второму разу. Умер на коленях – а ведь это я нашла его тело. Только вообразите, каково это. Знаете, что сказал мне мой Филип, когда я рассказала ему, как обнаружила Уолтера Суини – как он умер от голода, молясь, стоя на коленях? «Христианство, – сказал он, – гойише нахес»[43], – и сплюнул. Я перехожу от одного к другому, и только. Родни. Хотите знать, что это такое было – христианская межличностная терапия у Родни? Он даже среднюю школу не окончил, а Ванда Джейн идет к нему за психологической помощью. Что ж, помощь я получила, мало не покажется. Вот-вот, вы угадали. Не говорите со мной об этом импланте пениса. Не заставляйте меня о нем говорить.
Когда она произнесла «имплант», я подумал о том, как путешественник, завершая свое эпохальное плавание, провозглашает собственностью короны всю землю, которую может окинуть взором, водружает королевский штандарт, – а потом его отправляют назад в кандалах и отрубают ему голову за государственную измену.
– Раз уж до этого дошло, расскажите мне все, – сказал я.
– Но вы думаете, что все – вранье, а это правда – это до ужаса правдиво, до полнейшего ужаса.
– Расскажите мне про имплант.
– Он его поставил ради меня.
– В это я могу поверить.
Она расплакалась. По ее щекам стекали огромные слезы, такие же пышные, как и ее обворожительная лепная плоть, окутавшая собой костяк, – лилась колоссальная река накопленных слез, как у задерганного ребенка, безошибочная – теперь даже для меня – примета нежной души. Этот буйнопомешанный каким-то образом нашел себе чудеснейшую женщину, настоящую святую с золотым сердцем, чья самоотверженная жизнь пошла по чудовищно неверному пути.
– Он весь извелся от страха, – сказала она. – Все время плакал. Кошмар. Меня отобьет у него другой мужчина, тот, кому еще по силам «делать это». Меня отобьет у него другой, говорил он. Я брошу его одного, на мученическую смерть, один на один с онкологией – ну разве могла я сказать ему «нет»? Как может Ванда Джейн сказать «нет», когда человек так страдает? Как может медсестра, повидавшая столько, сколько я повидала, сказать, что не надо ставить имплант пениса? Для него это причина бороться за жизнь. Иногда мне кажется, что я одна на свете живу так, как учил Господь наш. Вот о чем я иногда думаю, когда ощущаю, как он вводит это в меня.
– А кто он? Скажите мне, кто он.
– Еще один полоумный еврейский мальчик. Полоумный еврей, с которым живет полоумная шикса. Он дикое, истеричное животное, вот кто он такой. Вот кто я. Вот кто мы. Все дело в его матери.
– Да ну.
– Мать его недостаточно любила.
– Но это же из моей книги, нет?
– Откуда мне знать.
– Я написал книгу, сто лет назад.
– Это-то я знаю. Но я не читаю. Он мне ее подарил, но я ее не читала. Мне нужно слышать слова. В школе это было всего труднее – чтение. Я все время путаю «б» и «в».
– Например, «двойник».
– У меня дислексия.
– Вам пришлось преодолеть много трудностей, верно?
– Правильно говорите.
– Расскажите про его мать.
– Она запиралась от него в квартире. Выгоняла на лестничную клетку. Ему было всего пять лет. «Ты здесь больше не живешь». Вот что она ему говорила. «Ты не наш мальчик. Ты чужой».
– Где это было? В каком городе? И где тогда был его отец?
– Не знаю, про отца он ничего не рассказывает. Говорит только, что мать всегда от него запиралась.
– Но что он такого сделал?
– Как знать? Оскорбление действием. Вооруженное ограбление. Убийство. Неописуемые преступления. Мать, наверно, знала, в чем причина. Он обычно сердился и ждал на лестнице, пока она откроет. Но она из упрямства не уступала, не сдавалась. Чтобы мной командовал пятилетний мальчишка! Грустная история, правда? Потом улица погружалась в темноту. И тогда он терял самообладание. Начинал скулить, как собака, и выпрашивать ужин. Она говорила: «Иди ужинать к своим, ты не мой». Тогда он еще шесть или семь раз молил его простить, и она решала, что он все-таки сломался, и отпирала дверь. Все детство Филипа сводится к этой двери.
– Так вот что сделало его человеком вне закона.
– Да? Я думала, это сделало его детективом.
– Может быть, тем и другим сразу. Рассерженный мальчик под дверью, бессилие берет над ним верх. Несправедливые гонения. Какая злоба должна была вскипать в этом пятилетием ребенке. Какая непокорность должна была зародиться в нем на этой лестничной клетке. Изгой. Тот, перед кем захлопнулись двери. Ссыльный. Монстр для своих родных. Я одинокий и жалкий. Нет, это не моя книга, я так далеко не заходил. Наверно, он взял это из другой книги. Младенец, брошенный родителями на погибель. Вы когда-нибудь слышали про царя Эдипа?
Разве я мог подавить щекочущее чувство обожания, которое внушила мне эта женщина, расположившаяся на моей кровати, когда игриво, с лукавством Мэй Уэст в голосе соблазнительницы, щедрой на любовные сюрпризы, ответила мне:
– Милый, про царя Эдипа слышали даже мы, дислексички.
– Никак не пойму, что вы за человек, – сказал я искренне.
– Про вас тоже нелегко понять, что вы за человек.
Повисла пауза, заполненная фантазиями о нашем совместном будущем. Долгая, долгая пауза и долгий, долгий взгляд, с кресла на кровать и в обратном направлении.
– Итак. Как он меня выбрал? – спросил я.
– Как? – засмеялась она. – Вы шутите.
– И все же, как? – Теперь и я засмеялся.
– Посмотритесь когда-нибудь в зеркало. Кого еще он должен был выбрать – Майкла Джексона? Вы двое – просто поверить не могу. Вижу, как вы оба то появляетесь, то исчезаете. Послушайте, не думайте, что для меня все это легко. Это дико странно. Мне кажется, что я вижу сон.
– Да, но он же не полностью… Ему пришлось кое-что проделать.
– Совсем немножко.
И она снова подарила мне ту особенную улыбку, которая, как я уже говорил, была для меня символом эротической магии, – снова медлительно выгнула уголок рта. Даже маленький ребенок, читающий это признание, и тот поймет, что с тех самых пор, как я отодвинул комод и разрешил ей – в таком-то платье! – протиснуться в мой номер, я пытался нейтрализовать ее эротическую привлекательность, гнал прочь сладострастные мысли, которые навевали ее растрепанность, ее поза отчаяния, то, как она распростерлась на моей постели. Не думайте, милая вы моя, что мне это легко давалось, когда вы вполголоса простонали: «Засуньте меня в свой чемодан и возьмите с собой». Но, пока я пил из roman-fleuve[44] о ее бестолковых поисках опекуна среди протестантов, католиков и евреев, то кое-как, в меру своих скромных сил, сохранял максимальный скептицизм. Обаяния, надо признать, у нее было немало, но она владела словом не сказать чтобы виртуозно, и я убедил себя, что в менее экстремальных обстоятельствах (если б, например, приударил за ней в каком-то чикагском баре, когда она работала медсестрой и шлялась по злачным местам), пять минут послушав ее речи, испытал бы неудержимое желание поискать кого-то, кто не начинает новую жизнь на каждом шагу. И тем не менее, с учетом всего вышеперечисленного, ее улыбка оказала на меня воздействие, выраженное в набухании кое-чего.
Я действительно не понимал, что она за человек. Женщина, сотворенная самыми жестокими банальностями в их абсурднейшей форме, лежит в гостинице на кровати, улыбаясь мужчине, у которого есть все резоны держаться от нее подальше, мужчине, которому она никоим образом не пара, и мужчина оказывается в подземном мире с Персефоной. Когда с тобой случаются подобные вещи, испытываешь трепет перед мифологическими глубинами эроса. То, что Юнг называет «неконтролируемостью реальных вещей», а дипломированная медсестра – просто «жизнью».
– Мы не неотличимы, знаешь ли.
– То самое слово. Вот оно, слово. Он его произносит сто раз на дню. «Мы неотличимы». Смотрится в зеркало и говорит: «Мы неотличимы».
– Ничего подобного, – сообщил я ей. – Определенно нет.
– Нет? У вас, может, другая линия жизни? Я занимаюсь хиромантией. Научилась как-то, когда ездила стопом. Я вместо книг читаю ладони.
И тут я совершил самый глупый поступок изо всех, совершенных мной в Иерусалиме или даже за всю жизнь. Встал со своего кресла у окна, подошел к кровати и взял ее за руку, которую она мне протянула. Моя рука в ее руке: в руке медсестры, которая куда только не залезала, в руке медсестры, не знающей никаких запретов, – а она легонько проводит большим пальцем по моей ладони и ощупывает поочередно все ее области, все ее подушечки. На протяжении минуты, не меньше, она говорила только: «Гм-мммм… гм-ммммм», – не переставая дотошно исследовать мою ладонь.
– Неудивительно, – сказала она наконец очень-очень тихо, словно боясь разбудить третьего человека на кровати, – что линия головы удивительно длинная и глубокая. Ваша линия головы – самая мощная линия на ладони. Линия головы, в которой преобладает воображение, а не деньги, не сердце, не рассудок и не интеллект. В вашей линии судьбы сильна военная составляющая. Ваша линия судьбы как бы приподнимается на холме Марса. На самом деле у вас три линии судьбы. Очень необычно. У большинства людей нет ни одной.
– А у твоего мужчины сколько?
– Всего одна.
А я думал: если хочешь, чтобы тебя убили, если ты намерен умереть на коленях, как Уолтер Суини, ты нашел самый верный способ. Эта хиромантка – его сокровище. Эта выздоравливающая антисемитка, водящая пальцем по твоей линии судьбы, – приз, завоеванный безумцем!
– Все эти линии от холма Венеры, впадающие в вашу линию жизни, указывают, как властно руководят вами ваши страсти. На этом участке ладони линии, глубокие-глубокие, четкие, – видите? – пересекаются с линией жизни. Пересекаются, но по-настоящему не перекрещиваются, а это значит, что страсть не приносит вам никаких несчастий, ничего такого нет. Если бы они перекрещивались, я бы сказала, что половое влечение толкает вас к порочности и гибели. Но это не так. Ваше половое влечение – совершенно непорочное.
– Эх, знала бы ты только… – ответил я, а сам думал: сделай это, и он выследит тебя даже на краю света и прикончит. Зря ты не сбежал. Тебе ни к чему ее ответы на все твои вопросы. Ее ответы – хоть правдивые, хоть лживые – одинаково для тебя бесполезны. Это же ловушка, которую он тебе расставил, подумал я в тот самый миг, когда она заглянула мне в лицо, улыбнулась – у нее-то линией судьбы была ее улыбка – и сказала:
– Белиберда полная, но, знаете, забавная, типа того.
Обожди. Дыши глубже. Думай. Она уверена, что ты завладел миллионом Смайлсбургера, и просто решила переметнуться на твою сторону. Возможно все что угодно, а ты последним догадаешься, в чем тут штука.
– Пожалуй, это рука… э-э-э… Я хочу сказать, если б я ничего про вас не знала, если б читала по руке незнакомого человека и не знала, кто вы такой, я бы сказала, что, пожалуй, это рука… великого лидера.
Мне следовало бы сбежать. Вместо этого я имплантировал себя в нее, а потом сбежал. Вставил ей и сбежал. Из двух вариантов выбрал оба сразу. Банальности в их абсурднейшей форме – кто бы говорил!
8
Неконтролируемость реальных вещей
Вот вам интрига пипиковской затеи – его заговора с самого начала до этой самой минуты.
Американский еврей средних лет поселяется в люксе иерусалимского отеля «Царь Давид» и публично предлагает израильским евреям ашкеназского происхождения – более влиятельной половине населения, основному костяку обосновавшихся здесь колонистов – вернуться туда, откуда они прибыли, и возродить там европейскую еврейскую жизнь, которую Гитлер в 1939–1945 годах почти что стер с лица земли. Он уверяет, что эта постсионистская политическая программа, которую он нарек «диаспоризмом», – единственное спасение от «второго Холокоста», в ходе какового либо три миллиона израильских евреев будут истреблены их врагами-арабами, либо враги будут сокрушены израильским ядерным оружием, и эта победа обернется поражением, навеки уничтожив нравственные основы еврейской жизни.
Он полагает, что при содействии традиционных еврейских филантропов сможет собрать деньги и мобилизовать политическую волю влиятельных евреев всей планеты, чтобы организовать и осуществить эту программу к 2000 году. Свой оптимизм он обосновывает отсылками к истории сионизма и сравнением своей якобы несбыточной мечты с герцлевским планом еврейского государства, который многочисленные еврейские критики Герцля в свое время сочли полной чепухой, если не бредом. Он признает тот тревожный факт, что процент антисемитов среди населения Европы пока высок, но предлагает провести в жизнь массированную программу оздоровления – провести психологическую реабилитацию десятков миллионов человек, которые все еще бессильны перед соблазнами традиционного антисемитизма, научить их контролировать антипатию к евреям-соотечественникам, которые снова укоренятся в Европе. Он именует организацию, которая будет осуществлять эту программу, «Анонимные антисемиты», а в прозелитических поездках, предпринятых им для сбора пожертвований, его сопровождает член-соучредитель ААС, американская медсестра из польско-ирландской католической семьи, называющая себя «выздоравливающей антисемиткой», – под влияние его идей медсестра попала, когда он лечился от рака в чикагской больнице, где она работала.
Оказывается, провозвестник диаспоризма и основатель ААС прежде сделал карьеру частного детектива – имел в Чикаго свое маленькое агентство, которое специализировалось на делах пропавших без вести. По-видимому, увлечение политикой и обеспокоенность судьбой евреев и еврейских идеалов возникли у него, когда он боролся с онкологическим заболеванием: тогда-то он и почувствовал, что его призвание – посвятить оставшуюся жизнь высоким целям. (Приговор американскому еврею Джонатану Полларду, который оказался израильским шпионом, имевшим доступ к секретной информации благодаря своему высокому положению в вооруженных силах США, и тот факт, что кураторы Полларда из израильской спецслужбы хладнокровно бросили своего агента на произвол судьбы, едва шпионаж открылся, – тоже, вероятно, в значительной мере способствовали формированию идеи диаспоризма, упрочив опасения за судьбу еврейства диаспоры, покуда для Израиля, макиавеллиански требующего безоговорочной верности, оно остается всего лишь расходным материалом и эксплуатируемым ресурсом.) О ранних годах его жизни известно мало – кроме того, что в молодости он сознательно решил не связывать себя с какими-либо социальными или профессиональными ролями, которые могли бы служить признаком принадлежности к еврейству. Его помощница и любовница рассказывает, что в детстве мать безжалостно приучала его к дисциплине, но в остальном его биография – сплошная лакуна, причем даже ее схематический набросок словно бы сшит из пестрых лоскутков той же внеисторической фантазией, в которой возникли все эти неосуществимые идеи и гиперболы диаспоризма.
По воле случая оказалось, что этот человек имеет заметное внешнее сходство с американским писателем Филипом Ротом, утверждает, что носит то же имя, и без стеснения играет на этом необъяснимом – если не совершенно фантастическом – совпадении, чтобы внушать окружающим ощущение, что он – тот самый писатель, и таким образом пропагандировать дело диаспоризма. Этой уловкой ему удается убедить Луиса Б. Смайлсбургера (престарелого инвалида, жертву Холокоста, который, сколотив капитал в нью-йоркском ювелирном бизнесе, ушел на покой в Иерусалиме, но покоя так и не обрел) пожертвовать ему миллион долларов. Однако, когда Смайлсбургер решает лично вручить чек Филипу Роту – диаспористу, ему встречается Филип Рот – писатель собственной персоной, приехавший в Иерусалим всего двумя днями раньше брать интервью у израильского прозаика Аарона Аппельфельда. Когда писатель сидит с Аппельфельдом в иерусалимском кафе, Смайлсбургер обнаруживает его там и, ошибочно полагая, что писатель и диаспорист – одно лицо, приносит чек не тому человеку, которому он причитается.
К тому времени пути двойников уже пересеклись неподалеку от иерусалимского суда, где идет процесс над рабочим автозавода Джоном Демьянюком, американцем украинского происхождения, экстрадированным в Израиль министерством юстиции США, который обвиняется в том, что на самом деле был охранником-садистом в Треблинке и массовым убийцей евреев, известным его жертвам по прозвищу Иван Грозный. Этот судебный процесс и восстание арабов на оккупированных территориях против израильского правительства – два события, освещаемые прессой во всем мире, на тревожном фоне которых разыгрываются неприязненные встречи этих двоих, причем в финале первой встречи Рот-писатель предупреждает Рота-диаспориста: если самозванец не отречется немедленно от своей подложной личности, власти предъявят ему обвинения в уголовном преступлении.
Когда мистер Смайлсбургер подходит к нему в кафе, писатель, которого все еще трясет после яростной стычки с диаспористом, сгоряча притворяется тем, за кого его приняли (самим собой!), и берет у мистера Смайлсбургера конверт, естественно, в тот миг не сознавая, какая невероятно огромная сумма пожертвована. Позднее в тот же день, после крайне взбудоражившего его посещения (вместе с палестинцем, с которым он когда-то дружил в аспирантуре) израильского суда в оккупированной Рамалле (где писателя снова путают с диаспористом, а он, к собственному крайнему недоумению, не только не указывает собеседникам на ошибку – уже второй раз, – но и позднее, в гостях у друга, подкрепляет неверную идентификацию несусветной лекцией во славу диаспоризма), Рот (писатель) теряет чек Смайлсбургера (либо оный чек конфискуют) – это происходит вечером, во время сюрреалистической поездки на такси из Рамаллы в Иерусалим, когда подразделение израильской армии подвергает и писателя, и водителя-араба устрашающему личному досмотру.
Писатель, примерно за семь месяцев до этого переживший кошмарный нервный срыв, спровоцированный, вероятно, опасным снотворным, которое ему прописали после неудачной мелкой хирургической операции, настолько ошеломлен всеми этими событиями и собственными поступками, совершаемыми в ответ на эти события вопреки всякой логике, себе во вред, что начинает опасаться рецидива болезни. Происходит столько всего неправдоподобного, что в момент крайней дезориентации он задается вопросом: а может, вообще ничего этого не происходит, а может, он сейчас находится у себя дома, на коннектикутской ферме, и испытывает одну из тех галлюцинаций, безукоризненная убедительность которых чуть не довела его до самоубийства прошлым летом. Начинает казаться, что его власть над собой почти так же слаба, как его влияние на другого Филипа Рота, которого он уже не хочет называть ни «другой Филип Рот», ни «самозванец», ни «двойник», а подбирает ему имя Мойше Пипик – беззлобно-унизительную кличку на идише, позаимствованную из комедии, которой была повседневная жизнь в непритязательном мире его детства, кличку, означающую в дословном переводе «Моисей Пупок», кличку, которая, как он надеется, кое-как прогонит параноидальное предчувствие, что тот, другой, силен и опасен.
На обратном пути из Рамаллы писателя спасает из совершенно жуткой засады, устроенной военными, молодой офицер, командир подразделения, опознавший в нем автора книги, которую по стечению обстоятельств он в этот самый день прочел. В качестве компенсации за безосновательное нападение военных лейтенант (его зовут Галь) лично отвозит писателя на джипе в его отель в арабском квартале Восточного Иерусалима, по дороге добровольно признаваясь человеку, которого явно очень уважает, в душевных метаниях из-за безнравственности своего положения, поскольку он сделался орудием милитаристской политики Израиля. В ответ писатель, сидя в джипе, принимается с обновленной энергией излагать идеи диаспоризма, находя эти речи такими же нелепыми, как свою лекцию в Рамалле, но все равно высказываясь с не меньшим пылом.
В отеле писатель обнаруживает, что Мойше Пипик, с легкостью притворившись Филипом Ротом перед портье, проник в его номер, где и дожидается, лежа на его кровати. Пипик требует, чтобы Рот отдал ему чек Смайлсбургера. Происходит горячая перепалка, а затем – спокойная, обманчиво-дружеская, даже проникновенная интерлюдия, во время которой Пипик делится своими приключениями в бытность частным детективом в Чикаго, но, когда писатель повторяет, что чек Смайлсбургера потерян, в Пипике вновь вскипает гнев, и в финале эпизода Пипик, обуянный яростью, подпавший под власть истерии, демонстрирует писателю свой эрегированный член, а писатель выталкивает, практически выдавливает Пипика из номера в коридор.