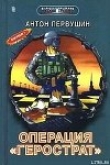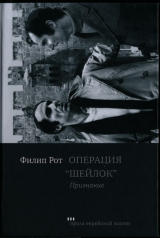
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
– Точно так же, как вы, – предположил я.
– Нет. Не так рассудительно, как я.
– С этим я ничего не могу поделать. И они тоже ничего не могут.
– И вы, со своей стороны, не несете никакой ответственности.
– Послушайте, я уже забредал на эту стезю в качестве писателя. То, что с «ответственностью» у меня туго, – постоянный мотив моего творческого пути в глазах евреев. Мы с вами никаких контрактов не подписывали. Я ничего не обещал. Я оказал вам услугу – и, полагаю, сделал это неплохо.
– Не просто неплохо. Вам свойственна просто вопиющая скромность. Вы справились виртуозно. Одно дело – быть экстремистом, когда у вас так подвешен язык. Для писателя даже это рискованно. Но пойти и сделать то, что вы сделали, – в вашем прошлом не было ничего, что подготовило бы вас к этому заданию, ничего. Я знал, думать вы умеете. Я знал, писать вы умеете. Я знал, с интеллектуальной деятельностью вы справляетесь. Но я не знал, что и в реальной жизни вы способны на нечто столь грандиозное. Уверен, вы сами тоже этого не знали. Вы, естественно, горды достигнутым. Вам, естественно, хочется возвестить о своем бесстрашии всему миру. Мне бы тоже захотелось, будь я на вашем месте.
Подняв глаза на молодого официанта, который наливал нам кофе, я, как и Смайлсбургер, подметил, что это то ли индиец, то ли пакистанец.
Когда он отошел, оставив нам меню, Смайлсбургер спросил:
– Кто кого захватит в плен в этом городе? Еврей – индийца, индиец – еврея, или латиноамериканец – обоих? Вчера я забрел на Семьдесят вторую. На Бродвее черные едят бейглы, испеченные пуэрториканцами и купленные у корейцев… Знаете старый анекдот про еврейский ресторан типа вот этого?
– Знаю ли я анекдот? Вполне возможно.
– Про официанта-китайца в еврейском ресторане. Говорящего на идише без единой ошибки.
– Я уже достаточно развлекся Хафец Хаимом в Иерусалиме – в Нью-Йорке можете не рассказывать мне еврейских анекдотов. Мы говорим о моей книге. Загодя не было сказано ни слова о том, что мне будет можно или нельзя писать. Вы сами обратили мое внимание на профессиональные возможности, которые открывала передо мной операция. В качестве приманки, если помните. «По-моему, из этого выйдет очень неплохая книга», – сказали вы мне. А если бы я ради вас поехал в Афины, книга получилась бы еще лучше. И это было сказано до того, как у меня вообще появилась идея написать книгу.
– Верится с трудом, – ответил он кротко, – но если вы так говорите…
– На идею меня натолкнули ваши слова. А теперь, когда я эту книгу написал, вы передумали и решили, что на самом деле книга станет лучше – в ваших интересах, если не в моих, – если я вычеркну Афины целиком.
– Я этого не говорил, даже ничего похожего не говорил.
– Мистер Смайлсбургер, не прикидывайтесь старым дурнем – так вы ничего не добьетесь.
– Что ж, – пожимая плечами, ухмыляясь, делясь своим мнением старого дурня, как бы мало оно ни стоило, – если бы вы немножко присочинили… Это бы, наверно, не повредило делу.
– Но это же не художественное произведение. А «немножко присочинить» – совсем не то, что у вас на уме. Вы желаете, чтобы я выдумал совершенно другую операцию.
– Я – желаю? – сказал он. – Я желаю вам только добра.
Официант-индиец вернулся и стал ожидать нашего заказа.
– Что вы здесь едите? – спросил у меня Смайлсбургер. – Что вам нравится? – На пенсии он стал таким смирным, что не осмелился бы сделать заказ без моей помощи.
– Форшмак на слегка поджаренном бейгле с луком, – сказал я официанту. – На гарнир помидоры. И стакан апельсинового сока.
– И мне, – сказал Смайлсбургер. – Принесите абсолютно то же самое.
– Вы приехали сюда, – сказал я Смайлсбургеру, – чтобы подбросить мне сотню других идей, которые ничуть не хуже и столь же достоверны. Вы можете найти для меня сюжет, который будет даже великолепнее. Вместе мы сможем сочинить для моих читателей нечто более занятное и интересное, чем случившееся по воле судьбы в тот уикэнд в Афинах. Но я ничего другого не хочу. Это понятно?
– Конечно, не хотите. Это самый роскошный материал, который вы почерпнули из личного опыта. Вы не могли выразиться яснее или категоричнее.
– Вот и хорошо, – сказал я. – Я поехал, куда поехал, сделал то, что сделал, встретился с теми, с кем встретился, увидел то, что увидел, узнал то, что узнал, – и ничто из случившегося в Афинах нельзя заменить чем-то другим. Подтекст этих событий неотъемлемо присущ этим событиям и никаким иным.
– Логично.
– Я не искал себе эту работу. Работа сама меня нашла – да что там, гналась за мной. Я выполнил все условия, которые мы с вами обговорили, в том числе задолго до публикации прислал вам копию рукописи. Собственно, вы – ее первый читатель. Меня к этому ничто не вынуждало. Я вернулся в Америку. Давно уже выздоровел от хальционового помешательства. Это уже четвертая книга, написанная мной с той поры. Я снова стал собой, снова прочно обосновался на своей территории. И все-таки пошел вам навстречу: вы ее хотели посмотреть, вот и посмотрели.
– Правильно сделали, что показали. Лучше мне и сейчас, чем кому-то, кто симпатизирует вам намного меньше, и впоследствии.
– Да-а? На что вы намекаете? «Моссад» закажет меня киллерам, как аятолла заказал Салмана Рушди?
– Могу сказать вам только одно: эта, последняя, глава не останется незамеченной.
– Что ж, если кто-то придет ко мне с претензиями, я направлю его к вам в сад в Негеве.
– Бесполезно. Они предположат: какие бы «приманки» я ни сулил вам тогда, каким бы неотразимо-соблазнительным приключением ни стала для вас эта история, как бы вас ни манило описать ее и насладиться успехом, теперь-то вы должны понимать, насколько сильно ее публикация повредит государственным интересам. Они закричат, что доверились вам, полагаясь на вашу преданность, а вы, написав эту главу, обманули их доверие.
– Я же и теперь не ваш сотрудник, и никогда им не был.
– Не мой – их.
– Мне не предлагали никакого вознаграждения, а я его не просил.
– Точно так же евреи на всей планете добровольно предлагают свои услуги в сферах, где их знания и умения могут внести решающий вклад. Евреи диаспоры – то, чего нет ни у одной другой разведки в мире: легион иностранных граждан, которых можно призвать на службу, и они будут верно служить. Бесценное богатство. У силовых ведомств нашего крохотного государства такие колоссальные потребности, что, если бы нам не помогали эти евреи, дело было бы швах. Те, кто выполняет задания вроде вашего, получают вознаграждение не в денежной форме и не от использования своих знаний ради личной выгоды в других местах, – их вознаграждение состоит в том, что безопасность и благосостояние еврейского государства становятся прочнее. Они сполна получают вознаграждение в форме выполнения своего еврейского долга.
– Что ж, я и тогда так к этому не относился, и теперь не отношусь.
Принесли наш заказ, мы приступили к завтраку, и следующие несколько минут Смайлсбургер педантично обсуждал с молодым официантом-индийцем ингредиенты форшмака, который готовила его дражайшая покойная матушка: в каких пропорциях она брала селедку и уксус, уксус и сахар, рубленые яйца и рубленый лук и т. п.
– Ваш форшмак отвечает самым строгим требованиям, – похвалил он официанта. А мне сказал: – Вы не стали подсовывать мне туфту.
– Почему вдруг я стал бы ее подсовывать?
– Потому что, насколько могу судить, вы не прониклись ко мне той симпатией, которой я проникся к вам.
– Скорее всего, проникся, – ответил я. – Ровно такой же.
– Когда в жизни пессимиста-циника вновь поселяется эта тоска по вкусам и запахам невинного детства? А можно мне теперь, когда подсахаренная селедка растворилась в ваших жилах, все-таки рассказать анекдот? Один человек заходит в еврейский ресторан вроде этого. Садится за столик, берет меню, просматривает, решает, что заказать, и тут поднимает глаза: перед ним официант, причем китаец. Официант говорит: «Вое вилт ир эсн?» Официант-китаец спрашивает у него на идише, без единой ошибки: «Что вы будете есть?» Посетитель удивляется, но делает заказ, а официант-китаец, принося каждое блюдо, говорит: «Вот ваше то-то, надеюсь, такое-то блюдо вам понравилось», – и всегда на идише и без единой ошибки. Пообедав, посетитель берет счет и идет расплачиваться к кассе, за которой сидит хозяин – совсем как тот толстяк в фартуке сидит вон там, за кассой. Хозяин, со смешным акцентом, очень похожим на мой, говорит посетителю: «Все в порядке? Все было как полагается?» Посетитель восторгается. «Идеально, – отвечает он хозяину, – все было великолепно. А официант – вообще поразительно: он китаец, но на идише говорит без единой ошибки». «Ша, тсс, – понижает голос хозяин, – говорите шепотом: он думает, что учит английский».
Я засмеялся, а он с улыбкой сказал:
– Никогда раньше не слышали?
– Казалось бы, я должен знать уже все анекдоты про евреев и официантов-китайцев, но нет, этого не слышал.
– А ведь анекдот с бородой.
– И все-таки не слышал.
Пока мы молча ели, я размышлял, может ли быть в этом человеке хоть толика искренности, хоть какая-то страсть, которая была бы еще сильнее, чем эта подсознательная потребность в хитрых маневрах, ухищрениях и манипуляциях. Пипику стоило бы у него поучиться. А может, так и было.
– Скажите, – произнес я вдруг, – кто нанял Мойше Пипика? Пора бы мне это узнать.
– Этот вопрос задаете не вы, а ваша паранойя, если позволительно так сказать: упорядочивающая предвзятость неглубокого ума при встрече с произвольными явлениями, интеллектуальная жизнь человека, не склонного мыслить, ежедневный профессиональный риск, преследующий нас на нашей работе. Вся наша вселенная параноидальна, но преувеличивать не следует. Кто нанял Пипика? Пипика наняла сама жизнь. Если в одночасье упразднить все разведки на свете, все равно найдется достаточно Пипиков, чтобы они осложняли и ломали размеренную жизнь окружающих. Самозанятые ничтожества, нудники[93], чье предназначение – всего лишь устраивать балаган, сеять бессмысленный хаос, вносить сумятицу, – они, пожалуй, укоренены в реальности крепче, чем такие люди, как мы с вами, преследующие ясные, глобальные, благородные цели. Давайте бросим это пустое дело – лихорадочные грезы о тайне иррационального. Она не нуждается в объяснениях. Да, в жизни чего-то ужасающе недостает. Глядя на кого-то наподобие вашего Мойше Пипика, смутно догадываешься, сколько всего не хватает. Вот открытие, с которым мы должны приучить себя мириться, не подслащивая его фантазиями. Давайте-ка продолжим. Давайте поговорим серьезно. Послушайте. Я приехал сюда за собственный счет. Я приехал сюда сам по себе, в качестве вашего друга. Я здесь ради вас. Возможно, вы не чувствуете ответственности за меня, но я, как выяснилось, чувствую ответственность за вас. Я несу за вас ответственность. Джонатан Поллард никогда не простит своим кураторам то, что они бросили его в трудную минуту. Когда ФБР схватило Полларда за жабры, мистер Ягур и мистер Эйтан[94] бросили его в полном одиночестве – пусть, мол, сам выпутывается. Точно так же поступили мистер Перес и мистер Шамир. Они – скажу словами Полларда – «не предусмотрели даже малейших предосторожностей ради моей личной безопасности», и теперь Поллард отбывает пожизненное заключение[95] в самой страшной американской тюрьме строгого режима.
– Это дело кое-чем отличается от моего.
– Именно это я и стараюсь подчеркнуть. Я завербовал вас – возможно, даже ценой ложных обещаний, а теперь сделаю все, чтобы не позволить вам нарваться на неприятности, которые может создать вам на много лет вперед публикация этой последней главы.
– Говорите без обиняков.
– Без обиняков не могу: ведь я больше не «член клуба». Могу лишь сказать по своему прошлому опыту: если кто-то провоцирует такой переполох, какой непременно спровоцирует публикация этой главы в ее нынешнем виде, к этому никогда не относятся безразлично. Если кто-то подумает, что вы поставили под удар безопасность хоть одного сотрудника, хоть одного информатора…
– Короче, вы мне угрожаете.
– Отставной госслужащий вроде меня никому угрожать не в силах. Не путайте предостережение с угрозой. Я приехал в Нью-Йорк, потому что по телефону или по почте никаким способом не мог бы растолковать вам серьезные последствия вашей опрометчивости. Выслушайте меня, пожалуйста. Теперь, в Негеве, я с многолетним опозданием взялся читать то, что много лет откладывал на будущее. Для начала прочел все ваши книги. Даже книгу про бейсбол, которая – вы, должно быть, поймете – для человека с моей биографией была чем-то вроде «Поминок по Финнегану».
– Хотели выяснить, заслужил ли я, чтоб вы меня спасали.
– Нет, хотел приятно провести время. И не обманулся. Вы мне симпатичны, Филип, – хотите верьте, хотите нет. Вначале наша совместная работа, а затем ваши книги внушили мне немалое уважение к вам. И даже – что весьма непрофессионально с моей стороны – что-то типа симпатии к родственнику. Вы прекрасный человек, и мне не хочется, чтобы вам причинили вред те, кто вознамерится дискредитировать вас и очернить ваше имя, а то и обойтись с вами еще хуже.
– Что ж, в отставке или нет, свою роль вы по-прежнему играете обворожительно. И вообще вы очень занятный ловкач. Но, по-моему, вами движет не чувство ответственности за меня. Вы приехали как представитель этих ваших, чтобы заткнуть мне рот угрозами.
– Я приехал сам по себе, стопроцентно, и, честно говоря, потратил немало денег из собственного кармана, чтобы попросить вас: ради вашего собственного блага не делайте здесь, в финале этой книги, ничего сверх того, что вы проделываете всю жизнь в литературе. Немножко нафантазируйте, пожалуйста: вы же не умрете от этого. Наоборот.
– Если бы я сделал то, о чем вы просите, вся книга стала бы фальшивкой. Если назвать вымысел фактом, это все разрушит.
– Тогда назовите его вымыслом. Вставьте примечание: «Я это выдумал». Тогда на вас не будет вины в предательстве – себя, ваших читателей, тех, кому вы доселе служили безупречно.
– Это невозможно. Никоим образом невозможно.
– Ну, тогда вот вам идея получше. Вместо того чтобы заменять главу какой-то выдумкой, сделайте себе самое большое за всю вашу жизнь одолжение и просто вычеркните ее целиком.
– Опубликовать книгу без концовки.
– Да, обкорнанной, такой же, как я. Увечье, при всей его неприглядности, тоже может достигать цели.
– Не включать то, что я собирал специально, ради чего я и поехал в Афины.
– Почему вы так упорно твердите, что осуществили операцию исключительно в качестве писателя, хотя втайне знаете не хуже, чем я знаю теперь, недавно насладившись вашими книгами, что вы ее осуществили и довели до конца как еврей, преданный интересам своего народа? Почему вы так решительно отрицаете еврейский патриотизм, вы, в ком, как я вижу по вашему творчеству, еврейство укоренено глубже, чем все остальное, кроме разве что мужского либидо? Зачем так камуфлировать еврейские мотивы ваших действий, хотя в реальности вы не менее идейный, чем ваш сотоварищ-патриот Джонатан Поллард? Я, как и вы, предпочитаю по возможности уклоняться от банальных поступков, но вечно притворяться, что в Афины вы поехали только ради своего писательского призвания… Разве это меньше компрометирует вашу независимость, чем признание, что вы сделали это, потому что вы – настоящий еврей? То, что вы до такой степени еврей, – самый потаенный из ваших пороков. Это знает любой ваш читатель. Вы поехали в Афины, потому что вы еврей, и эту главу вы утаите наперекор своим желаниям, потому что вы еврей. Евреи ради вас часто шли наперекор своим желаниям. Это признаете даже вы.
– Да-а? Правда? И каким желаниям они шли наперекор?
– Сильнейшему желанию взять дубинку и заставить вас проглотить собственные зубы. Но за последние сорок лет так никто этого и не проделал. Поскольку они – евреи, а вы – писатель, они так не поступают, а вместо этого дают вам премии и почетные ученые степени. Салмана Рушди его соплеменники вознаградили несколько иначе. Кем бы вы вообще были, если б не евреи? Что бы вышло из вас, если бы не евреи? Им вы обязаны всем вами написанным, даже той книгой про бейсбол и бродячую, бездомную команду. Еврейство – головоломка, которую подкинули вам они: не своди евреи вас с ума этой головоломкой, не существовало бы вас как писателя. Пора отблагодарить их. Вам почти шестьдесят: на благотворительность лучше жертвовать, пока рука еще не остыла. Напомню вам, что и у евреев, и у христиан когда-то был распространен обычай платить десятину. На поддержку религии направлялась десятая часть доходов. Разве вы не можете уступить евреям, которые дали вам все, одну одиннадцатую этой книги? Наверно, это лишь пятидесятая часть от одного процента всех страниц, опубликованных вами за всю жизнь благодаря им, евреям, согласитесь? Уступите им главу номер одиннадцать, а затем дайте себе волю и назовите то, что останется, художественным произведением, даже если это не так. Когда газетчики начнут спрашивать, скажите им: «Смайлсбургер? Этот болтливый калека с потешным акцентом, сотрудник израильской разведки? Плод моего буйного воображения. Мойше Пипик? Ванда Джейн? Я снова обвел вас вокруг пальца. Разве могли хоть на чьем-то пути повстречаться такие ожившие обрывки сновидений, как эти двое? Галлюцинаторные проекции, полный бред – ради этого вся книга и написана». Скажите им нечто в этом духе, и вы избавите себя от уймы цорес[96]. Конкретные формулировки я препоручаю выбирать вам.
– Да-а, и Пипик, значит, тоже? Наконец-то вы ответили на мой вопрос, кто нанял Пипика? Значит, вы признаетесь, что Пипик – плод вашего буйного воображения? Но для чего он понадобился? Для чего? Не могу понять. Заманить меня в Израиль? Но в Израиль я поехал сам, повидаться с Аароном Аппельфельдом. Втянуть меня в разговор с Джорджем? Но я и так знаком с Джорджем. Заманить меня на процесс Демьянюка? Вы должны были знать, что я интересуюсь такими вещами и сам забрел бы в суд. Для чего вам понадобилось меня впутывать? Из-за Беды? Вы могли бы подыскать другую Беду. Какие у вас были резоны для сотворения этого существа? В понимании «Моссада» – а это же разведка, она ничего не делает без конкретной цели, – для чего вы смастерили этого Пипика?
– Даже имея готовый ответ, мог бы я, говоря по совести, доверить его писателю, у которого такой длинный язык? Примите мои объяснения и, пожалуйста, забудьте вы этого Пипика. Пипик – не плод сионизма. Пипик – даже не плод диаспоризма. Пипик – плод, наверно, самого могучего из всех бессмысленных влияний на дела людей, а именно, пипикизма, антитрагической силы, которая все на свете делает мелким и незначительным – превращает в фарс, банальность, ерунду, – и выстраданное нами за то, что мы евреи, – не исключение. Довольно о Пипике. Я просто советую вам, как придать логичность и связность тому, что вы скажете газетчикам. Скажите им что-нибудь немудрящее – это ведь простые журналисты. «Никаких исключений, ребята: в этой книге всё – предположение, с начала до конца».
– В том числе Джордж Зиад.
– Насчет Джорджа не волнуйтесь. Разве его жена вам не написала? Я думал, ведь вы были так дружны… Вы ничего не знаете? Это вас ошеломит. Ваш куратор из ООП умер.
– Серьезно? Это точно?
– Как ни ужасно, это факт. Убит в Рамалле. Сын был вместе с ним. Люди в масках пырнули его ножами, пять раз. Мальчика не тронули. Это случилось примерно год назад. Майкл и его мать снова поселились в Бостоне.
Наконец-то в Бостоне, на свободе – и уже никогда не узнает другой свободы, свободы от присяги на верность делу отца. Еще один сын, на котором лежит проклятие. Все эти пустопорожние страсти теперь станут для Майкла проблемой до конца жизни!
– Но за что? – спросил я. – За что его убили?
– Израильтяне говорят: убит палестинцами за коллаборационизм. Они каждый день за это друг друга убивают. А палестинцы говорят: убит израильтянами, потому что израильтяне – убийцы.
– А вы что говорите?
– Я говорю – тут всё сразу. Я говорю: может, он был коллаборационист, а убили его по заказу израильтян палестинцы, такие же коллаборационисты… А возможно, все было совсем иначе. Вам – человеку, который написал эту книгу, – я говорю: не знаю. Я говорю, что в нашей ситуации, когда намеренно создается атмосфера, в которой ни один араб не уверен, кто ему враг, а кто друг, варианты бесконечны. Нет уверенности ни в чем. Вот что мы хотим внушить арабскому населению на территориях. Они должны мало знать о происходящем вокруг них и понимать всё неправильно. И действительно, они знают мало и понимают всё неправильно. А если в таком положении оказываются те, кто там живет, то, следовательно, человек вроде вас, живущий здесь, знает даже еще меньше и всё понимает совсем неправильно. Потому-то называть вашу книгу о событиях в Иерусалиме плодом вашего воображения, пожалуй, не так уж неверно, как вы с опаской думаете. Пожалуй, вы попали бы в точку, назвав все пятьсот сорок семь страниц предположением. Вы считаете меня наглым обманщиком, так разрешите мне теперь сказать писателю, чьим творчеством я в остальном восхищаюсь, жестоко-откровенные слова о его книге. Я не настолько компетентен, чтобы судить о произведении, написанном на английском языке, но, по моему мнению, написано блестяще. Однако содержание… Скажу совершенно прямо: при чтении я смеялся, и не только тогда, когда полагалось смеяться. Это отнюдь не отчет о случившемся: вы попросту не имеете никакого понятия о том, что случилось на самом деле. Объективную реальность воспринимаете крайне смутно. Ее смысл начисто ускользает от вас. Просто не могу себе представить более наивную версию того, что произошло взаправду и что оно означало. Не решусь утверждать, что такова реальность глазами десятилетнего мальчишки. Предпочту думать, что это продукт доведенного до крайности субъективизма, картина мира, настолько характерная для сознания именно этого наблюдателя, что публиковать ее не в качестве художественного вымысла значило бы беззастенчиво лгать. Назовите это типичным образчиком творчества: вы мало погрешите против действительности.
Мы уже добрых двадцать минут как покончили с завтраком, и официант унес всю посуду, кроме чашек, которые успел, вновь и вновь подходя к столику, несколько раз наполнить кофе. Все это время я целиком был сосредоточен на нашем разговоре и только теперь обнаружил, что зал заполняется людьми, зашедшими пообедать, и что среди них – мой друг Тед Солотарофф и его сын Иван, которые еще не заметили меня и заняли столик у окна. Естественно, я сознавал, что встречаюсь со Смайлсбургером не в каком-нибудь подземном гараже, где Вудворд и Бернстайн поддерживали контакт с «Глубокой глоткой»[97], но все же, когда я внезапно увидел здесь своих знакомых, сердце заколотилось, и я почувствовал себя совсем как женатый мужчина, которого застукали в ресторане за пылкой беседой с любовницей, – надо было спешно придумать, как ее представить.
– Ваши противоречивые слова, – тихо сказал я Смайлсбургеру, – не складываются в убедительный аргумент, но, впрочем, вы уверены, что со мной можете обойтись без аргументов. Вы рассчитываете, что мой потаенный порок возьмет верх. Все остальное – развлечение, забавная риторика, слова, напускающие туман, ваши методы, которые вы применяете здесь точно так же, как и там. Вы сами-то следите за своим словесным ливнем или ленитесь? С одной стороны, в этой книге – во всем тексте, а не только в последней главе – я, на ваш освидетельствованный медициной непараноидальный взгляд, дарю врагу информацию, которая может быть опасна для безопасности ваших сотрудников и их источников, информацию, которая, если только вас послушать, может оставить Государство Израиль беззащитным перед лицом невесть каких катастроф и подорвать на века благополучие и безопасность еврейского народа. С другой стороны, моя книга – настолько искаженный и невежественный поклеп на объективную реальность, что, дабы уберечь свою литературную репутацию и избежать насмешек трезвомыслящих эмпириков или уйти от кары, которая, как вы намекнули, может быть намного, намного страшнее всего вышеперечисленного, я должен признать эту вещицу тем, чем она на самом деле является, и опубликовать «Операцию „Шейлок“» в качестве… в качестве чего? Дать ей подзаголовок «Басня»?
– Превосходная идея. Басня субъективиста. Это снимает все вопросы.
– Кроме вопроса о достоверности.
– Но откуда вам знать, что достоверно?
– Хотите сказать, я прикован к стене своей субъективности и вижу только собственную тень? Послушайте, все это чушь, – я взмахнул рукой, требуя счет у официанта, и нечаянно перехватил взгляд Ивана Солотароффа. Ивана я знаю с его младенчества, с середины пятидесятых, когда мы жили в Чикаго: покойный Джордж Зиад изучал там Достоевского и Кьеркегора, а мы с отцом Ивана, два ершистых аспиранта, вместе вели предмет «Навыки письменной речи»[98] для первокурсников. Иван помахал мне в ответ, указал Теду на мой столик, а Тед оглянулся и пожал плечами, выразив этим движением, что на свете не может быть более подходящего места для нашей случайной встречи после того, как мы столько месяцев тщетно пытаемся согласовать свои графики для совместного обеда. Тут я придумал самый надежный способ представить им Смайлсбургера, и мое сердце снова заколотилось, но теперь – победоносно.
– Давайте подытожим, – сказал я Смайлсбургеру, когда на наш столик лег счет. – Я не могу знать, каковы вещи в себе, но вы можете. Я не могу выйти за пределы своего «я», но вы можете. Я не могу существовать где-либо вне своего «я», но вы можете. Я ничего не знаю, кроме собственного бытия и собственных мыслей, мое сознание всецело предопределяет, какой мне видится реальность, но ваше сознание устроено иначе. Вы знаете мир таким, каков он на самом деле, а я – лишь таким, каким он кажется. Ваш аргумент – философия из детской песочницы и психология из мелочной лавочки, и он настолько нелеп, что ему просто нечего противопоставить.
– То есть вы категорически отказываетесь.
– Конечно, отказываюсь.
– Вы не станете объявлять свою книгу тем, чем она не является, и не будете цензурировать то, что «им» наверняка не понравится.
– Как можно?!
– А если я сошлюсь на что-то получше, чем философия из детской песочницы и психология из мелочной лавочки, – на мудрость Хафец Хаима? «Сделай так, чтобы я не говорил ничего, в чем нет необходимости…» Или я напрасно утруждаюсь, если, взмолившись в последний раз, напоминаю вам про законы лашон а-ра?
– Даже цитата из Писания не помогла бы.
– Все следует предпринимать в одиночку, исходя из личных убеждений. Вот насколько вы уверены в себе. Вот насколько вы уверены в своей единоличной правоте.
– В данном случае? Почему нет?
– А последствия того, что вы действуете бескомпромиссно, не считаясь ни с чьим мнением, кроме собственного… Вам все равно, какими будут последствия?
– А мне и должно быть все равно, разве нет?
– Что ж, – сказал он, а я тем временем схватил счет, не дожидаясь, пока его схватит он и, компрометируя меня, оплатит из средств «Моссада», – ничего не поделаешь. Жаль.
И тут он обернулся к костылям, которые покачивались в такт за его спиной, на вешалке. Я встал и обошел столик, чтобы помочь ему встать, но он уже поднялся. Разочарование, которое я прочел на его лице, когда мы встретились взглядом, никак не могло – по крайней мере, так мне показалось – быть напускным, притворным. И разве не существует – даже для него – никакого предела, за которым манипуляции прекращаются? Я испытал бесшумную, но довольно сильную эмоциональную встряску, спросив себя: а если он действительно сбросил все маски и приехал, потому что искренне переживает за мою безопасность, стремится оградить меня от дальнейших неприятностей? Но даже в таком случае, разве я должен из-за этого пойти на уступки, добровольно отдать ему фунт своего мяса?
– Вы далеко шагнули по сравнению с тем сломленным человеком, которого описываете под видом себя в первой главе этой книги. – Он как-то умудрился вместе с костылями взять свой дипломат, крепко стиснув его ручку, и я впервые заметил, что у него могучие, крошечные, мохнатые пальцы примата, несколько отставшего в развитии от человека, пальцы существа, которое могло бы, цепляясь хвостом, пронестись через все джунгли, пока Смайлсбургер доберется от столика до выхода на улицу. Я предположил, что в дипломате лежит моя рукопись. – Сплошная неуверенность, страх и растерянность – по-видимому, все это навсегда осталось для вас в прошлом. Вас ничем не возьмешь, – сказал он. – Мазаль тов[99].
– Пока да, – ответил я, – пока да. Ничто не гарантировано. Человек есть столп нестабильности. Разве не в этом суть? Неуверенность во всем.
– В этом ли суть вашей книги? Я бы так не сказал. Книга, на мой читательский взгляд, жизнерадостная. Излучает радость. В ней есть всевозможные испытания и злоключения, но это книга о человеке, который выздоравливает. Во встречах с людьми, которые попадаются на его пути, столько порывистости и энергии, что всякий раз, когда ему кажется, что процесс выздоровления забуксовал и «то самое» снова накатывает на него, он просто сам восстанавливает равновесие и выпутывается из бед невредимым. Это комедия в классическом смысле. Он из всего выкарабкивается невредимым.
– Но только до этого момента.
– Тоже верно, – сказал Смайлсбургер, печально кивая.
– Но то, что я имел в виду под «неуверенностью во всем», было сущностью именно вашей работы. Я хочу сказать, внушение всепроникающей неуверенности.
– Ах, это? Но это же вечный, неизбежный кризис, который, согласитесь, идет в комплекте с жизнью?
Таков еврей-куратор, который занимается мной. А мог бы достаться кто-нибудь похуже, подумал я. Как Полларду. Да, Смайлсбургер – еврей моего типа, он – именно то, что олицетворяет для меня слово «еврей», лучшее, что есть для меня в еврее. Искушенный пессимизм. Чарующее многословие. Страсть к интеллектуальной охоте. Ненависть. Вранье. Недоверие. Практичность от мира сего. Правдивость. Ум. Злокозненность. Юмор. Выдержка. Лицедейство. Израненность. Увечность.
Я шел за ним, пока не увидел, как Тед встает из-за столика, чтобы поздороваться со мной.
– Мистер Смайлсбургер, – сказал я, – минуточку. Хочу познакомить вас с мистером Солотароффом, редактором и писателем. А это Иван Солотарофф. Иван – журналист. Теперь мистер Смайлсбургер прикидывается садовником из пустыни, живущим по заповедям нашего Бога. А на самом деле он израильский руководитель шпионской сети, тот самый куратор, который отвечает за меня. Если в Израиле есть самая сокровенная комната, где кто-то может сказать: «В ней находится нечто полезное для нас», то Смайлсбургеры рады будут его добыть. Враги Израиля скажут вам, что Смайлсбургер в институциональном отношении – всего лишь самая острая форма нашего национального, патриотического и этнического психоза. Я же, исходя из своего опыта, скажу: если в том неистовом государстве вообще есть нечто типа центральной воли, то, по-моему, именно он за нее отвечает. Конечно, он, как и положено в его профессии, одновременно загадочен. Например, уж не разыгрывает ли он комедию, ковыляя на этих костылях? А если на самом деле он выдающийся спортсмен? Такое тоже возможно. В любом случае, он подарил мне несколько восхитительно запутанных приключений, о которых вы скоро прочтете в моей книге.