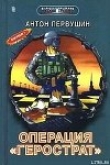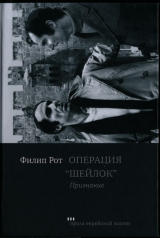
Текст книги "Операция «Шейлок». Признание (СИ)"
Автор книги: Филип Рот
Жанры:
Космоопера
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
* * *
Почему в тот день я поехал с ним в Рамаллу вместо того, чтобы отправиться на намеченную встречу с Аптером? Может, потому, что он столько раз сказал мне, что это мой долг? Мой долг – увидеть собственными глазами, как оккупанты издеваются над правосудием; мой долг – всмотреться собственными глазами в судебную систему, которой оккупант пытается маскировать тяжкое иго колониализма; мой долг – отложить все дела, чтобы пойти вместе с ним в военный суд, где самого младшего брата одного из его друзей судят по сфабрикованным обвинениям, где я увижу циничное извращение всех еврейских ценностей, которыми дорожит всякий порядочный еврей диаспоры.
Брат его друга обвинялся в том, что якобы швырял коктейли Молотова в израильских солдат; обвинение «беспочвенное, не подтвержденное даже мизерными доказательствами, очередная грязная ложь». Мальчика схватили на демонстрации и затем «допросили». Допрос состоял в том, что ему надели мешок на голову, обливали его попеременно горячей и холодной водой, а затем выставляли во двор, в любую погоду, не снимая с головы мешка, ткань облепляла его глаза, уши, нос и рот – и так его держали в мешке сорок пять дней и сорок пять ночей, пока мальчик не «сознался». Я должен увидеть, как выглядит этот мальчик после этих сорока пяти дней и сорока пяти ночей. Я должен познакомиться с другом Джорджа, одним из самых стойких противников оккупации, юристом, поэтом, лидером, которому оккупант, разумеется, пытается заткнуть рот, арестовав и подвергнув пыткам его любимого младшего брата. Я должен, предписывал мне Джордж, и вены на его шее набухали, становились толстыми, как кабель, а его пальцы беспрерывно шевелились, стремительно разгибаясь и сгибаясь, словно Джордж сжимал что-то в обоих кулаках и душил, душил.
Мы стояли у машины Джорджа, которую он оставил на узенькой улице в нескольких кварталах от рынка. На лобовом стекле лежала штрафная квитанция, и двое полицейских, поджидавшие неподалеку, попросили Джорджа предъявить удостоверение личности, техпаспорт на машину и водительские права, едва он приблизился и со скорее напускным безразличием признал, что номерные знаки с кодом Западного берега установлены на его машине. Забрав у Джорджа ключи, полицейские методично обыскали багажник, пошарили под сиденьями, открыли бардачок, чтобы ознакомиться с его содержимым, а Джордж все это время, притворяясь, будто в упор не видит полицейских, что им его не запугать, не подавить, не унизить, продолжал с таким видом, будто его вот-вот хватит припадок, говорить мне, что я должен делать.
Циничное извращение всех еврейских ценностей, которыми дорожит всякий порядочный еврей диаспоры… Именно эти непомерные дифирамбы евреям диаспоры в итоге убедили меня, что наша встреча на рынке не была случайной. Его несокрушимая уверенность, что я должен немедленно ехать с ним на фарсовый судебный процесс, состряпанный оккупантами, окончательно подтвердили мой вывод, что Джордж Зиад меня выслеживал – того «меня», которым я, как ему показалось, стал, – а те двое, курившие и болтавшие у фруктового лотка на рынке, служили в «Шин-Бет» и выслеживали его. И это обстоятельство – самая веская причина не делать того, на чем он настаивал, – убедило меня, что я должен это сделать.
Подростковая удаль? Писательское любопытство? Наивное упрямство? Еврейская тяга к проделкам? Какой бы порыв ни подтолкнул меня к этому опрометчивому решению, то, что на протяжении часа меня уже второй раз приняли за Мойше Пипика, побудило меня поддаться его уговорам так же естественно, так же бесконтрольно, как я принял от Смайлсбургера его пожертвование.
Джордж не умолкал ни на секунду: просто не мог замолчать. Неистовый говорун. Неистощимый. Говорун, наводящий ужас. Всю дорогу до Рамаллы, даже на блокпостах, где военные проверяли документы – теперь не только у него, но и у меня, – где всякий раз, непременно, в багажник его машины снова и снова заглядывали, сиденья снимали, а содержимое бардачка выгребали и швыряли на асфальт, Джордж читал мне лекцию о том, как складывалось отношение американских евреев к Израилю: им совестно, а сионисты это гнусно эксплуатируют, чтобы добиться субсидий на свой грабеж. Он их раскусил, все четко проанализировал, даже опубликовал в британском марксистском журнале статью «Как сионисты шантажируют американское еврейство», которая имела огромный резонанс; но, судя по тому, как он об этом рассказывал, после публикации ему не полегчало – наоборот, она только обострила в нем чувство униженности и бессилия и подогрела его праведный пыл. Мы проехали мимо жилых многоэтажек в еврейских предместьях к северу от Иерусалима («Бетонные джунгли! До чего же убогие здания они тут понастроили! Какие-то крепости, а не дома! Куда ни кинь – везде этот менталитет! Облицовка из каменных плит, обтесанных на фабрике, – какая вульгарность!»); мимо больших безликих современных каменных домов, построенных богатыми иорданцами еще до израильской оккупации и показавшихся мне куда более вульгарными – на каждой крыше торчала пошлая высокая телеантенна в виде Эйфелевой башни; и, наконец, выехали за городскую черту и оказались в иссохшей, усеянной камнями долине. И всю дорогу не оскудевал поток его озлобленных рассуждений: анализ еврейской истории и еврейской мифологии, еврейского психоза и еврейской социологии, каждая фраза отчеканена с настораживающей интеллектуальной игривостью, а в совокупности – едкая идеологическая мульча из трезвых оценок и преувеличений, проницательности и недомыслия, четких исторических фактов и упорного исторического невежества, рыхлый набор наблюдений, в равной мере непоследовательный и связный, в равной мере поверхностный и глубокий – меткая и бессодержательная диатриба из уст человека, чей мозг когда-то ничем не уступал другим, а теперь представлял для своего хозяина такую же опасность, как и его гнев и гадливость, которые к 1988 году, после двадцати лет оккупации и сорока лет существования еврейского государства, уничтожили дотла в его натуре всю умеренность, все практичное, реалистичное и целесообразное. Непримиримые раздоры, перманентный режим чрезвычайного положения, огромное горе, уязвленная гордость, опьяненность бунтарством – все это отняло у него способность хотя бы одним глазком увидеть правду, хотя он и оставался умным человеком. Продираясь сквозь все эти переживания, его мысли искажались и гипертрофировались настолько, что почти потеряли сходство с плодами человеческого разума. Хотя он упорно стремился понять врага, словно это сулило ему слабый проблеск надежды, хотя внешний глянец блестящего профессионализма придавал его идеям, даже самым сомнительным и исковерканным, определенную интеллектуальную привлекательность, все это нанизывалось на стержень ненависти и грандиозных, парализующих фантазий о мести.
А я молчал, не оспаривал никаких преувеличений, не старался прояснить ход его рассуждений, не возражал там, где понимал, что он сам не знает, что несет. Напротив, спрятавшись под маской собственного лица и имени, я внимательно выслушивал все гипотезы, которые плодила его невыносимая обида, разделял все страдания, которые сквозили в каждом его слове; я его изучал с хладнокровным интересом и горячечным азартом шпиона, который удачно внедрился в стан врага.
Изложу вкратце его аргументы, которые в лаконичном пересказе выглядят намного убедительнее. Не стану описывать возможные лобовые столкновения и множественные ДТП, которых Джордж лишь чудом избежал, пока произносил свою речь. Достаточно отметить, что даже во времена, когда нет массовых волнений и повсеместно вспыхивающих стычек, ехать на переднем сиденье крайне опасно, если водитель ораторствует почем зря. В тот день, пока мы добирались из Иерусалима в Рамаллу, на каждом километре случалось что-нибудь нескучное. Джордж метал громы и молнии, а на дорогу смотрел не всегда.
Итак, вот вам в кратком изложении лекция Джорджа на тему, которая сопровождает меня, как тень, с рождения до могилы, хотя, насколько могу припомнить, я на ее общество не набивался; на тему, с горячечными обсуждениями которой я всегда надеялся когда-нибудь распрощаться; на тему, которая настырно вторгается в возвышенные сферы и низкую житейскую прозу и сплошь и рядом ставит тебя в тупик; на вездесущую, затягивающую, изнуряющую тему, которая объемлет и величайшую проблему, и самые восхитительные переживания в моей жизни; на тему, которая – хотя я добросовестно сопротивлялся ее чарам – уже, похоже, превратилась в иррациональную силу и завладела моей жизнью (да, судя по всему, и не только моей)… «Евреи» – вот что это за тема.
Первый период (так Джордж подразделяет на фазы исторический цикл деградации евреев) начался с иммиграции и закончился Холокостом и длился с 1900 по 1939 год: период отречения от Старого Света ради Нового; период вытравливания в себе иностранца, натурализации, стирания памяти о покинутых семьях и общинах, забвения родителей, которых самые авантюрные из их детей бросили, чтобы те старели и умирали без призрения, безутешные; лихорадочный период тяжелейшей работы над тем, чтобы построить в Америке, на английском языке новую еврейскую жизнь и новую еврейскую идентичность. Затем, с 1939 по 1945 год, период сознательной, расчетливой амнезии, годы безмерного бедствия, когда семьи и общины, с которыми обновленные евреи, не успевшие вполне американизироваться, добровольно разорвали прочнейшие узы, были стерты Гитлером с лица земли: стерты в совершенно буквальном смысле. Истребление европейского еврейства – катаклизм, потрясший американских евреев не только своим запредельным ужасом, но и ощущением, что они сами каким-то образом спровоцировали этот кошмар, наблюдаемый ими иррационально, сквозь призму горя: ведь толчком к кошмару стало желание разделаться с еврейской жизнью в Европе, воплощенное в их массовой эмиграции, и теперь им чудилось, словно между звериной разрушительной силой гитлеровского антисемитизма и их отчаянным порывом сбежать из унизительного европейского заточения была некая жуткая, немыслимая взаимосвязь, чуть ли не соучастие. В похожих дурных предчувствиях, в самоукорах, о которых принято молчать, – только, пожалуй, еще более зловещих, – можно обвинять сионистов и их сионизм. Разве, отплывая в Палестину, они не грешили презрением к жизни европейского еврейства? Разве активисты, будущие основоположники еврейского государства, не испытывали отвращения к местечковым массам, которые изъяснялись на идише, – и отвращение это было еще сильнее, чем у прагматиков-иммигрантов, которые сумели удрать в Америку, избежав губительного влияния бен-гурионовской и тому подобной идеологии? Да, надо признать, сионизм предлагал решение посредством переселения, а не массового убийства; и все же эти сионисты тысячами способов выражали нелюбовь к собственным корням, и самое яркое тому свидетельство, что официальным языком еврейского государства стал, по их выбору, язык далекого библейского прошлого, а не позорное европейское народное наречие, которым изъяснялись их бесправные предки.
Итак, убийство Гитлером тех миллионов, которых эти евреи непредумышленно бросили на произвол судьбы, уничтожение униженной культуры, с которой они не желали иметь никакого дела, полное разрушение общества, которое иссушало их мужественность и не давало им развиваться, – все это взвалило на американских евреев, избежавших опасности, как и на дерзких бунтарей – отцов-основателей Израиля наследие, в котором скорбь отягощена неискупимой виной, искалечившей еврейскую душу на десятки лет или даже на столетия вперед.
После Катастрофы начался великий период послевоенной нормализации, когда возникновение Израиля, этого убежища для уцелевших остатков европейского еврейства, наложилось на усиление ассимиляции в Америке; период обновленной энергии и вдохновения, когда широкие массы все еще имели лишь смутное представление о Холокосте, когда он еще не заразил всю еврейскую риторику; времена, когда Холокост еще не был коммерциализирован под этим наименованием, а самым популярным символом мытарств европейского еврейства была очаровательная девочка-подросток на чердаке, прилежно делающая уроки ради любимого папы, а возможности задуматься о более страшных аспектах пока не обнаружились или еще подавлялись, когда оставались еще долгие годы до того, как Израиль установил официальный день поминовения шести миллионов убитых; период, когда евреи по всему свету стремились показать, даже самим себе, что способны на что-то более жизнеутверждающее, чем быть мучениками. В Америке то были времена пластических операций на носах, смены имен, расцвета пригородов и постепенного отмирания системы квот; началась эра грандиозного карьерного роста в крупном бизнесе, массовых зачислений в университеты Лиги плюща, гедонистических отпусков и отмирания всяческих запретов, а также появления множества еврейских детей, поразительно похожих на гоев – ленивых, самоуверенных и счастливых: предыдущие поколения вечно встревоженных еврейских родителей даже не могли вообразить, что произведут на свет такое потомство. Пасторализация гетто, назвал это Джордж Зиад, пастеризация веры. «Зеленые газоны, белые евреи – ты же писал об этом. Четко сформулировал в своей первой книге. Вот почему было столько шума. Тысяча девятьсот пятьдесят девятый. Лучшая пора еврейской истории успеха, все ново, волнующе, забавно и весело. Освобожденные новые евреи, нормализованные евреи, смешные и великолепные. Триумф нетрагичного. Бренда Патимкин смещает с трона Анну Франк. Знойный секс, свежие фрукты и баскетбольные команды „большой десятки“ – кто вообразил бы еще более масштабный хэппи-энд для еврейского народа?»
Затем – 1967-й: победа Израиля в Шестидневной войне. И вместе с ней, с подтверждения отнюдь не того, что евреи вытравили из себя иностранца, ассимилировались и перестали отличаться от других, а того, что они обрели могущество, начинается циничная институционализация Холокоста. В тот самый момент, когда еврейское милитаристское государство злорадствует и торжествует, официальной еврейской политикой становится ежеминутное, ежечасное, ежедневное напоминание миру, что до того, как сделаться завоевателями, евреи были жертвами, а в завоевателей превратились только потому, что вообще-то они жертвы. Такова пиар-кампания, ловко придуманная террористом Бегином: закрепить израильский милитаристский экспансионизм в истории, просто соединив его с воспоминаниями о гонениях на евреев; рационально объяснить – это, мол, торжество исторической справедливости, правомерное воздаяние, всего лишь самооборона – поглощение оккупированных территорий и повторное изгнание палестинцев с их земель. Чем оправдывают расширение границ Израиля при любом удобном случае? Тем, что существовал Освенцим. Чем оправдывают бомбежки мирного населения в Бейруте? Освенцимом. Чем оправдывают переломанные кости палестинских детей и ампутированные конечности мэров-арабов? Освенцимом. Дахау. Бухенвальдом. Бельзеном. Треблинкой. Собибором. Белжецом. «Какая фальшь, Филип, какая бессердечная, циничная неискренность! Оккупация территорий имеет для них одно, только одно значение: это демонстрация физического могущества, на котором держатся завоевания! Править территориями – это пользоваться прерогативой, в которой им прежде отказывали, получать опыт угнетения и притеснений, опыт правления другими людьми. Исступленно властолюбивые евреи – вот кто они такие, и никаких других свойств у них нет, они ничем не отличаются от сумасшедших властолюбцев в любой точке планеты, кроме мифологии притеснений, которой они оправдывают свою манию власти и то, как притесняют нас. Совсем как в знаменитом анекдоте: „Нет лучше бизнеса, чем Шоа-бизнес“[19]. В период нормализации евреев символ был совершенно безобидный – маленькая Анна Франк, символ пронзительно-трогательный. Но теперь, в эпоху величайшей мощи их оружия, на пике их нестерпимой спеси, теперь есть шестнадцатичасовой „Шоа“, который должен оглушить зрителей во всех странах, теперь „Эн-би-си“ раз в неделю показывает „Холокост“ с Мэрил Стрип в роли еврейки![20] А официоз еврейского истеблишмента, американские еврейские лидеры, которые сюда прилетают из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, в Шоа-бизнесе разбираются прекрасно, и те немногие израильтяне, в которых еще теплится правдолюбие и самоуважение, те, чьи уста все еще способны произносить что-либо, кроме пропаганды и лжи, слышат от них: „Не говорите мне, что палестинцы становятся уступчивее. Не говорите мне, что у палестинцев есть законные претензии. Не говорите мне, как угнетают палестинцев, не говорите, что совершена несправедливость. Немедленно уймитесь! Такими разговорами я не соберу денег в Америке. Расскажите мне, как нам угрожают, расскажите о терроризме, расскажите об антисемитизме и Холокосте!“ И это объясняет, зачем устроен показательный процесс тупоголового украинца – чтобы упрочить краеугольный камень израильской политики могущества, подпитывая идеологию жертвы. Нет, они не перестанут называть себя жертвами и отождествлять себя с прошлым. И ведь не скажешь, будто прошлое полностью игнорируется – само существование этого государства тому порукой. Но теперь их одержимость своей версией событий, по всей видимости, искажает их чувство реальности – наше чувство реальности она определенно искажает. Нам-то не говорите, что их притесняли! Это поймет любой народ на свете, но только не наш! Разумеется, украинский антисемитизм – не вымысел. Есть масса причин, и все эти причины мы знаем, они обусловлены ролью евреев в структуре тамошней экономики и той циничной ролью, которую Сталин поручил им при коллективизации, – это вещи очевидные. Но правда ли, что этот тупой украинец – „Иван Грозный“? Далеко не очевидно, да и не может быть очевидно спустя сорок лет, и потому, если у вашей страны осталась хоть капля честности, хоть малейшее уважение к закону, отпустите его. Если вам нужна месть, отправьте его назад на Украину и позвольте русским с ним разобраться – это бы вас вполне удовлетворило. Но рассматривать его дело здесь, и в зале суда, и по радио, и по телевизору, и в газетах – все это делается ради единственной цели, это пиар-акция в духе холокостоторговца Бегина и гангстера Шамира; пиар, который должен оправдывать еврейскую мощь и еврейское правление, увековечив на ближайшие сто тысячелетий имидж еврея-жертвы. Но разве система уголовного судопроизводства существует ради пиара? Система уголовного судопроизводства существует ради соблюдения законов, а не ради пиара. Просвещение населения? Нет, это задача системы образования. Повторяю: Демьянюка приволокли сюда, чтобы уберечь мифологию, которой подпитывается жизненная сила страны. Потому что где бы они были, не будь Холокоста? Кем бы они были? Именно Холокост – общее звено, соединяющее их с мировым еврейством, особенно с американским, которое живет в благополучии и безопасности, которое испытывает чувство вины за спокойное и успешное существование, и вину эту можно поэксплуатировать. Где были бы их исторические притязания на землю, если бы не связь с мировым еврейством? Не было бы никаких притязаний! Если они лишатся своего положения хранителей Холокоста, если мифология рассеяния будет разоблачена и признана фальшивкой – что тогда? Что случится, когда американские евреи отринут чувство вины и очнутся? Что случится, когда американские евреи осознают, что эти несусветные спесивцы приняли на себя совершенно нелепые, чисто мифологические миссию и значимость? Что случится, когда они осознают, что им втюхали порченый товар и эти сионисты вовсе не превосходят еврейство диаспоры, а, наоборот, уступают ему по всем критериям цивилизованности? Что случится, когда американские евреи обнаружат, что их околпачили, что фундаментом их верности Израилю были иррациональное чувство вины, фантазии о мести, а особенно – самые наивные иллюзии относительно нравственной основы этого государства? Потому что это государство лишено нравственной основы. Оно утратило свою нравственную основу, если вообще ее имело. Неутомимо институциализируя Холокост, оно утратило даже право говорить о Холокосте! Государство Израиль полностью исчерпало свой нравственный кредит, взятый под залог шести миллионов убитых, – вот что оно сделало, ломая руки арабским детям по приказам своего прославленного министра обороны. Даже мировому еврейству станет ясно: это государство, основанное на силе и сохраняемое силой, макиавеллиевское государство, которое силою подавляет восстание угнетенного народа на оккупированной территории, макиавеллиевское государство, которое, я должен признать, существует в макиавеллиевском мире и ничуть не более безгрешно, чем Чикагское управление полиции. Сорок лет они рекламируют свое государство как основу существования еврейской культуры, еврейского народа, еврейского наследия; пускают в ход все свое хитроумие, чтобы представить Израиль как безальтернативную реальность, но в действительности это лишь один из вариантов, которые надлежит оценивать по их доброкачественности и ценности. И, когда ты осмеливаешься оценивать его по таким критериям, что ты обнаруживаешь на деле? Спесь! Спесь! Спесь! А что таится за спесью? Пустота! А за пустотой – еще большая спесь! И теперь весь мир может видеть это каждый вечер в телевизоре – примитивную склонность к садистскому насилию, которая наконец-то сорвала маски с их мифологии! „Закон о возвращении“? Неужто любой уважающий себя цивилизованный еврей захочет „вернуться“ в такое место? „Собирание изгнанников“?[21] Неужто „изгнание“ из еврейства свойственно положению евреев где-либо, кроме как в этой стране! „Холокост“? Холокост закончился. Сами о том не ведая, сионисты официально возвестили об его окончании три дня назад, на площади Манара в Рамалле. Я тебя туда отведу, покажу место, где была написана декларация. Стена, к которой солдаты отвели безвинных мирных палестинцев и отколотили дубинками, превратив в кровавое месиво. Забудьте о рекламном трюке с этим показательным процессом. Конец Холокоста начертан на этой стене палестинской кровью. Филип! Старый друг! Ты посвятил всю свою жизнь спасению евреев от них самих, открывая им глаза на их самообольщение. Всю свою жизнь, сделавшись писателем, как только начал писать в Чикаго свои рассказы, ты разрушаешь их лестные стереотипные представления о самих себе. За это ты подвергался нападкам, ты подвергался поношениям, заговор против тебя, сразу же возникший в еврейской прессе, бушует доныне: со времен Спинозы ни один еврейский писатель не удостаивался таких клеветнических кампаний. Я преувеличиваю? Я знаю лишь одно: если бы гой публично оскорбил еврея так, как они публично оскорбляют тебя, Бней-Брит[22] вопила бы с каждой кафедры, в каждом ток-шоу: „Антисемитизм!“ Они называли тебя самыми грязными словами, обвиняли в самом коварном предательстве, и все равно ты чувствуешь, что несешь за них ответственность, переживаешь за них, даже перед лицом их самоуверенного тупоумия остаешься их любящим, верным сыном. Ты великий патриот своего народа, и поэтому многое из того, что я говорю, тебя возмущает и коробит. Я вижу это по твоему лицу, слышу это в твоем молчании. Ты думаешь: „Он чокнутый, истеричный, безрассудный сумасброд“. Ну что ж, если я таков, в кого превратился бы ты, окажись на моем месте? Евреи! Евреи! Евреи! Разве я могу не думать о евреях неотступно! Евреи – мои тюремщики, а я их пленник. И, как тебе скажет моя жена, в пленники я гожусь меньше всего – нет у меня такого таланта. Мой талант состоял в том, чтобы быть профессором, а не рабом хозяина. Мой талант состоял в том, чтобы преподавать Достоевского, а не утопать в озлобленности и обидах, как человек из подполья! Мой талант был в том, чтобы разъяснять бесконечные монологи его исступленных безумцев, а не в том, чтобы превратиться в исступленного безумца, который даже во сне не может прекратить свои нескончаемые монологи. Почему же я не сдерживаю свои порывы, если понимаю, что с собой творю? Этот вопрос каждый день задает мне моя бедная жена. Почему нам нельзя вернуться в Бостон, пока инсульт, сразивший причитавшего отца, не сразит причитающего сына? Почему? Потому что я не согласен капитулировать, я ведь тоже патриот, я люблю и ненавижу своих побежденных, раболепствующих палестинцев, наверно, в той же пропорции, в какой ты, Филип, любишь и ненавидишь своих узколобых, самоуверенных евреев. Ты ничего не говоришь. Ты теряешься, увидев всегда обходительного Зи в состоянии слепой, всепоглощающей ярости, и в тебе слишком много иронии, искушенности, скепсиса, чтобы великодушно выслушать то, что я скажу тебе сейчас, но, Филип, ты еврейский пророк и всегда был еврейским пророком. Ты еврейский провидец, и твоя поездка в Польшу – провидческий, отважный, исторический шаг. И за этот поступок тебя ожидает кое-что почище, чем травля в прессе, – будут угрозы, будет запугивание, вполне возможно и нападение с причинением физического вреда. Не сомневаюсь, что они могут попытаться тебя арестовать – обвинить в каком-нибудь преступлении и посадить в тюрьму, чтобы заткнуть тебе рот. Здесь люди беспощадные, а Филип Рот осмелился пойти в лобовую атаку на ложь целого государства. Сорок лет они завлекают сюда евреев со всего мира, дают отступные, заключают сделки, подкупают чиновников в дюжине разных стран с целью заполучить в свои лапы все больше евреев и заманить сюда, дабы навеки упрочить свой миф о еврейской родине. И вот приезжает Филип Рот, чтобы всеми силами отговаривать тех же евреев от незаконного проживания на чужой земле, убеждать их покинуть эту выдуманную страну, пока упрямые, болезненно властолюбивые, мстительные сионисты не сделали все мировое еврейство соучастником своей жестокости и не накликали на евреев катастрофу, от которой те никогда не оправятся. Старый друг, ты нам нужен, ты нужен нам всем – оккупанты нуждаются в твоей дерзости и твоем диаспорическом разуме не меньше, чем оккупированные. Ты не находишься в плену этого конфликта, не извиваешься беспомощно в его лапах. Ты принес концепцию будущего, свежий и блистательный подход к решению проблемы – не безумную утопическую мечту палестинцев, не кошмарное окончательное решение сионистов, а тщательно продуманную эпохальную договоренность, осуществимую и справедливую. Старый друг, дорогой ты мой дружище – чем я могу тебе помочь? Чем можем помочь тебе мы? У нас есть какие-никакие ресурсы. Скажи мне, что мы должны сделать, и мы это сделаем».
5
Я – Пипик
Военный суд Рамаллы размещался на территории тюрьмы, построенной британцами во времена, когда Палестина была британской мандатной территорией, – в приземистом бетонном комплексе, похожем на бункер, предназначение которого угадывалось сразу: видеть его – уже наказание. Тюрьма пристроилась на верхушке голого песчаного холма на городской окраине, и мы, сделав разворот на кольцевой развязке у подножия, въехали на холм и остановились перед высоким сетчатым забором с двойным рулоном колючей проволоки наверху – внешней границей участка между тюрьмой и шоссе площадью четыре или пять акров. Мы с Джорджем вылезли, подошли к калитке, чтобы предъявить документы одному из троицы вооруженных охранников. Тот, не проронив ни слова, просмотрел их и вернул, после чего нам дозволили пройти еще метров тридцать вперед, до второй проходной, где в каждого, кто поднимался по дорожке, целился из окошечка пистолет-пулемет. Мрачный небритый молодой солдат за пулеметом холодно всматривался в нас, пока мы вручали свои документы другому охраннику, а тот швырнул их на свой стол и резко взмахнул рукой – мол, можете проходить.
– Молодые сефарды, – сказал мне Джордж, когда мы двинулись дальше, к боковому входу тюрьмы. – Марокканцы. Ашкеназы предпочитают не марать рук. Перепоручают роль палачей своим смуглолицым собратьям. Для чистоплюев-ашкеназов невежественные арабоненавистники с Востока служат весьма полезной пролетарской ордой универсального назначения. В Марокко они, конечно, не питали ненависти к арабам. Прожили в согласии с арабами тысячу лет. Но белые израильтяне научили их и этому – как ненавидеть арабов и как ненавидеть самих себя. Они превратили их в своих наймитов-головорезов.
Двое солдат, охранявших боковой вход, как и те, которых мы только что повстречали, выглядели так, словно их завербовали в самых страшных трущобах какого-нибудь мегаполиса. Впустили нас – ни слова, ни полслова – внутрь, и мы вошли в обшарпанный зал суда, куда удалось бы втиснуть максимум две дюжины зрителей. Половину мест занимали израильские солдаты, которые, насколько я мог заметить, не имели при себе оружия, но смотрелись так, словно могли бы влегкую подавить беспорядки голыми руками. В грязном камуфляже и армейских ботинках, с расстегнутыми воротниками и непокрытыми головами, они сидели, лениво развалившись, но с совершенно хозяйским видом, раскинув руки вдоль спинок деревянных скамей. В первый момент мне показалось, что это молодые отморозки, коротающие время в вестибюле агентства, где трудоустраивают вышибал.
На помосте в дальней части зала, между двумя большими флагами Израиля, пришпиленными к стене за его спиной, сидел судья – армейский офицер лет тридцати пяти в форме. Стройный, с залысинами, чисто выбритый, аккуратно одетый, он внимал происходящему с проницательным видом человека мягкого и рассудительного – человека «нашего круга».
Во втором (если отсчитывать от помоста) ряду какой-то зритель поманил Джорджа, и мы оба тихонько пробрались к нему, уселись рядом. В этом ряду не было ни одного солдата. Они сбились вместе в дальней части, около двери в задней стене, которая, как я подметил, вела в отсек, где держали обвиняемых. Прежде чем дверь захлопнулась, я разглядел арабского мальчика. Даже с десятиметрового расстояния на его лице читался ужас.
Мы присоединились к поэту-юристу, брат которого обвинялся в метании коктейлей Молотова, к поэту-юристу, которого Джордж называл одним из серьезных противников израильской оккупации. Когда Джордж представил нас друг другу, он приветливо пожал мне руку. Камиль° – так его звали – оказался высоким усачом, тощим, как скелет, его черные глаза смотрели жарким выразительным взглядом «дамского угодника», как это раньше называлось, а манеры напомнили мне о той маске обходительного щеголя, которую так органично носил Джордж в Чикаго, когда звался Зи.
Камиль объяснил Джорджу по-английски, что дело его брата пока не рассматривалось. Джордж приподнял один палец, глядя на скамью подсудимых, – поздоровался с братом Камиля, юношей лет шестнадцати-семнадцати, по отрешенному лицу которого мне показалось, что он – по крайней мере, сию минуту – парализован скорее скукой, чем страхом. Всего на скамье подсудимых сидели пять обвиняемых арабов – четыре подростка и мужчина лет двадцати пяти, дело которого рассматривалось с утра. Камиль шепотом пояснил мне, что обвинитель пытается продлить арест этому ответчику, подозреваемому в краже двухсот динаров, но араб-полицейский, свидетель обвинения, пришел в суд совсем недавно. Я взглянул туда, где полицейского подвергал перекрестному допросу адвокат, оказавшийся, к моему удивлению, не арабом, а ортодоксальным евреем – крупным, бородатым, похожим на медведя мужчиной лет пятидесяти с гаком, одетым в черную мантию, с кипой на голове. Переводчик, сидевший в самом центре, чуть ниже судьи, был, как сообщил мне Камиль, друз, израильский военный, владевший арабским и ивритом. Обвинитель, как и судья, был армейским офицером в форме – этот изящный молодой человек сидел с таким видом, словно выполняет крайне утомительную работу, но, похоже, его, как и судью, развеселила реплика полицейского, только что переведенная толмачом.