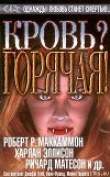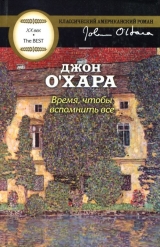
Текст книги "Время, чтобы вспомнить все"
Автор книги: Джон О'Хара
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
– Я никогда не слышала, чтобы Артуру в чем-то отказывали.
– Я знаю. Просто мистер Мак-Генри скупой, а ты – нет. Он ужасно скупой, этот мистер Мак-Генри.
– Я не хочу, чтобы, говоря о старших, ты называл их такими словами, как «скупой», и не важно, кто они такие.
– Но он именно такой и есть.
– Я же сказала, что не хочу, чтобы ты пользовался этим словом.
– Я и не пользовался. Я просто сказал, что он именно такой и есть. Я этимсловом не пользовался.
– Джо, ты хитрец, ох какой хитрец. Ты действительностанешь адвокатом.
– Когда я им стану, то, надеюсь, буду лучше, чем некоторые.
– Все! Больше ни слова!
– Мам, почему это? Ты же не знаешь, кого я имел в виду.
Выражение «не по ту сторону железной дороги» [22]22
Это выражение подразумевало, что богатые и бедные районы города обычно располагались по разные стороны железной дороги.
[Закрыть]в Гиббсвилле так и не прижилось. Граждане Гиббсвилля прекрасно знали, что пока хоть один член семьи Чапин живет на Северной Фредерик, «не та сторона» была намного предпочтительней противоположной стороны, и потому выражение это теряло всякий смысл. Например, улицы Гиббсвилля, в наименовании которых использовались названия деревьев или какого-то числа, никогда не были и не будут ничем иным, кроме адресов людей среднего класса и бедняков. На Северной Фредерик жили два сорта людей: люди издавна богатые, чье присутствие придало вес этому адресу, и все остальные.
Отправляясь в магазины, банк, к врачу или на встречу с друзьями в часть города, расположенную на западной стороне железнодорожных путей, богатые, как и все остальные, должны были проходить мимо тех же самых уродливых кварталов. И так было еще до того, как проложили железную дорогу; во времена Старого Канала это была та часть города, куда дамы и не заглядывали. И как в любом городке и почти в каждом крупном городе, район возле железнодорожной станции становился преступным, кишащим ворами, сводниками, хулиганами и проститутками. Когда путешественник приезжал в Гиббсвилль, первое и последнее впечатление – как от любого американского городка – наводило его на мысль, что в своем родном городе ему было бы спокойнее, при том что в его родном городе условия жизни ничуть не отличались от тех, что в Гиббсвилле. Железнодорожное авеню было улицей притонов, а перекресток Кристиана-стрит и Железнодорожная авеню – местным центром преступности и насилия.
И именно через этот район Шарлотт Чапин надо было пройти по дороге к Мейн-стрит. Ее визиты на Мейн-стрит были нечастыми, а пешеходные походы туда редкими, так как в ее распоряжении всегда были коляска или сани. А ее походы мимо Кристиана-стрит и Железнодорожной авеню без сопровождения случались и того реже. Но они все же случались. И она не забыла ни одного из них, а было их всего два.
Шарлотт исполнилось двадцать лет, она недавно вышла замуж, и однажды весной 1881 года, в теплый, солнечный полдень, она заявила кучеру, что в офис мистера Чапина пойдет пешком.И хотя, по прежней договоренности, Коннелли – так звали их кучера – должен был отвезти Шарлотт в офис мужа и оттуда, забрав мистера Чапина, к кому-то на свадьбу в церковь Святой Троицы, Шарлотт велела кучеру встретить ее возле офиса.
– А я, мэм, поеду за вами следом в коляске? – спросил Коннелли.
– За мной следом? Зачем? Я не собираюсь падать в обморок.
– Там же Кристиана-стрит и Железнодорожная, мэм.
– Не думаю, что среди бела дня кто-нибудь станет ко мне приставать, – сказала Шарлотт Чапин.
– Я всегда от них ожидаю самого худшего, мэм.
– Спасибо, Коннелли, что вы обо мне заботитесь, но со мной ничего не случится.
И она улыбнулась Коннелли – он был ей симпатичен.
– На здоровье, мэм, но вы все же не возражайте, чтобы я за вами следовал. Если я этого не сделаю, хозяин с меня шкуру спустит.
– Хорошо, – сказала Шарлотт.
Она пустилась в путь, и все шло гладко, пока она не дошла до угла Кристиана-стрит и Железнодорожной, северо-западного угла, на котором стоял салун «Датч Амрингенс». На лето в нем установили распашные двери, и на подвешенной над входом, выцветшей от времени вывеске красовались крупных размеров портрет козла и надпись: «Продаем пиво „Бок“». В этом квартале над тротуаром перед входом в каждое заведение нависал козырек, и хотя в Гиббсвилле это не было такой уж редкостью, здесь благодаря подобным козырькам пешеходам казалось, будто они, проходя мимо «Амрингенс» и подобных ему местечек, хотят того или нет, уже почти что внутри. Одетым в длинные юбки и изящные наряды ходить по заплеванным, усыпанным окурками кирпичным тротуарам было весьма опасно. Для песен и крикливых разговоров, не утихавших в этом квартале Кристиана-стрит по вечерам и ночам, было еще рано, но из салуна уже доносились голоса: грубая речь и буйный смех. Несколько мужчин, примостившись на пивных бочках перед входом в «Датч Амрингенс», покуривали дешевые сигары, а сплевывали на тротуар. И, как всегда, здесь с трудом можно было пройти по улице, поскольку множество мужчин стояли у кромки дороги и вдоль зданий, а некоторые, болтая, прямо посреди тротуара, вынуждая прохожих обходить их стороной. В царившей здесь атмосфере любой почтенный гражданин рассматривался как правонарушитель.
В ту минуту, когда Шарлотт проходила мимо двери, соседней с «Датч Амрингенс», из мужской парикмахерской «Ринальдо» вышел подстриженный и свежевыбритый, крепкий с виду рыжеволосый мужчина лет тридцати, одетый в дешевый, хотя наверняка свой самый лучший костюм и явно полупьяный. Поначалу казалось, что он хочет уступить Шарлотт дорогу, но когда он отклонился вправо, она нечаянно отклонилась в ту же сторону, а когда она тут же отклонилась в противоположную, он отклонился вслед за ней.
– Деточка заигрывает, – пробормотал он. – Ну-ка поцелуй меня.
– Убирайся прочь с дороги, мерзкий мужчина! – сказала Шарлотт.
– «Убирайся прочь с дороги, мерзкий мужчина». А у тебя есть такая маленькая «кисочка»? Есть, а?
Теперь он уже намеренно преградил ей дорогу.
– Прочь! – закричала она.
– Хочу увидеть твою маленькую «кисочку», – сказал мужчина.
Шарлотт развернулась назад, готовая бежать обратно домой, но толпившиеся вокруг бездельники почти мгновенно заметили эту сцену и принялись громко смеяться. Рыжеволосый мужчина, воодушевленный их смехом, потянулся к Шарлотт и схватил за руку. В эту минуту Коннелли, ехавший вслед за Шарлотт, соскочил с козел коляски и ударил рыжеволосого хлыстом по голове. Мужчина, обливаясь кровью, упал на тротуар. Шарлотт ринулась к коляске. Коннелли, пятясь и размахивая хлыстом, двинулся вслед за ней, вскочил на козлы, и коляска укатила. Они добрались до Мейн-стрит прежде, чем бездельники успели организовать ответную атаку на Коннелли, и потому атаки не последовало. Для многих из этих бездельников между Железнодорожной авеню и Мейн-стрит начиналась полицейская зона, и за границей этой зоны им немедленно грозил арест, тридцать дней в окружной тюрьме, а между арестом и вынесением приговора жестокие побои. Поэтому неприкосновенность этой границы тщательно соблюдалась.
– Я позову констебля Моргана, – сказал Коннелли.
– Ни в коем случае, – возразила Шарлотт. – Но огромное вам спасибо, Коннелли.
– Пусть его лучше арестуют. Узнать его будет нетрудно – с такой разбитой головой.
– Вы могли его убить. Вы его знаете?
– В жизни его не видел.
– Подождите, не езжайте пока в офис мистера Чапина. Мне надо подумать.
– Простите меня, мэм, но вы, наверное, уж чересчур храбрая.
– Я хочу, чтобы вы ничего не рассказывали мистеру Чапину, ни единого слова. Вы слышите меня, Коннелли? Я очень, очень рассержусь. Вы слышите, Коннелли?
– Слышу, мэм.
– Вы слышите, но я хочу, чтобы вы не только слышали, но и услышали меня, Коннелли. А теперь мы можем ехать в офис мистера Чапина.
Коннелли доложил об этом эпизоде Бену Чапину только вечером, предварительно взяв с него слово, что он не расскажет об этом Шарлотт. Ни Бен, ни Шарлотт никогда это происшествие не обсуждали, но Коннелли с того дня всегда ходил с пистолетом, а рыжебородого – погонщика мулов на одной из шахт – арестовали за пьянство и дебоширство и отправили в окружную тюрьму. Из-за ареста он потерял работу, правда, со временем нашел новую, но уже на другой шахте, в других краях. Коннелли тоже через несколько лет уехал. Он был человеком непьющим и редко посещал салуны, но он и его жена заметили, что многие приятели перестали с ними разговаривать, а придя на мессу и завидев в церкви чету Коннелли, садились в другой ряд. Коннелли прозвали шпионом, и хотя непонятно было, почему именно шпионом, у ирландца для другого ирландца худшего прозвища не было.
Только шесть лет спустя Шарлотт снова прошлась под деревянным козырьком «Датч Амрингенс». В 1888 году она садилась в Филадельфии в поезд на Гиббсвилль и на платформе перед соседним вагоном увидела и мгновенно узнала рыжебородого мужчину – он шел с сумкой на плече и явно собирался садиться тот же самый поезд. А на следующий день она прошла мимо салуна «Датч Амрингенс» по дороге из дома на Мейн-стрит, а потом еще раз по дороге с Мейн-стрит домой, но этого мужчины там не было и в помине. Шарлотт не способна была признаться себе в истинной причине своего любопытства к рыжеволосому. Однако она была способна отрицать, что истинной причиной было не одно только любопытство. Но так как Шарлотт была женщиной неглупой, то ее отрицание в конечном счете уступило место честному признанию.
Шарлотт была женщиной далеко не глупой. Из всех своих многочисленных поклонников она выбрала человека, который, помимо обладания явными достоинствами – происхождением и деньгами, – скорее всех остальных ее поклонников стал бы потворствовать ей во всем, чего бы ей ни хотелось. Она сочла, что Бен скорее всего будет нетребовательным мужем (и ее догадка оправдалась) и скорее всего способным посвятить ее в тайны физической близости. Она была чистейшей из девственниц, но при этом никак не хотела смириться с расхожей мыслью о том, что любовными утехами наслаждаются исключительно мужчины, а для женщин это не более чем отвратительная прелюдия к священным радостям материнства. Шарлотт верила в Бога и не могла поверить, что в Божественный замысел входило наградить мужской род наслаждениями, а женский – исключительно страданиями и болью. С мирской же точки зрения Шарлотт обнаружила, что ее возбуждает прикосновение к ее руке руки молодого человека, и когда она впоследствии заново переживала это ощущение, она осознавала, что возбуждение это не ограничивалось только ее рукой. Желание этого прикосновения она ощущала меж лопаток, в коленях – во всем своем теле. Она не вела доверительных разговоров со своими сверстницами, и потому у нее было существенно меньше заблуждений, чем могло быть. Логика работы сексуальных органов представлялась ей очевидной еще с детства, и единственным существенным сюрпризом оказалось различие между картинами, изображавшими нежных херувимов, и живым страстным мужчиной в лице Бена.
Бену не повезло в том, что он, оказавшись отцом двух мертворожденных детей, стал причастным к трагедии, в которой он частично или даже полностью обвинялся. Шарлотт было все равно, винить ли в случившемся Бена или их физическую близость: ее муж и физический акт слились воедино, и это слияние представлялось ей мерзостью. Но для их отношений еще ужаснее было то, что Шарлотт ничуть не волновало, удовлетворял ли Бен свои потребности с другими женщинами или нет, – главное, чтобы не было никаких скандальных историй. В первые годы их супружества, стоило Бену невинно пофлиртовать с какой-нибудь женщиной, как Шарлотт безумно его ревновала. Она никогда по-настоящему его не любила, но поначалу их брак поддерживался тем, что ей нравилось проводить с ним время и нравилась ее новая роль жены. В представлении Шарлотт, ужас и страдания после второго мертворожденного ребенка убили их отношения, и она считала, что ее заявление более чем оправданно.
Жизнь Шарлотт с выбранным ею супругом обернулась не так, как она планировала, но теперь, после второго мертворожденного ребенка, она отказалась от мужа и посвятила себя сыну. Она начинала новую жизнь, но на этот раз получала от нее то, что хотела. У Шарлотт был свой дом, выбранные ею самой отношения с ее партнером и сын. У нее был муж, который безропотно взял на себя официальную роль отца и при этом не вмешивался в воспитание сына. Отдав в свое время предпочтение Бену, она действительно сделала преотличный выбор: в этом доме безупречных манер она не встречала сопротивления ни своим поступкам, ни своим методам. И словно преднамеренно (хотя это было и не так), она полностью разрушила любовь сына к отцу. Муж теперь выглядел чуть ли не глупым, а сын – чуть ли не святым.
Проходили годы. Наступало Рождество, и они, сидя перед изысканно украшенным камином, обменивались подарками, а Бен завел традицию – но после двух попыток от нее отказался – читать в этот день повесть Чарлза Диккенса «Рождественское песнопение». На День независимости они обычно шли в офис Бена смотреть парад Великой армии республики, а потом Джо везли на детский пикник у «Потока». Фоли, кучер, сменивший Коннелли, учил мальчика искусству верховой езды и управления лошадьми и преподал первые уроки нецензурного языка. Отец помогал сыну в занятиях арифметикой, алгеброй и начальным курсом латыни, но всеми остальными учебными занятиями руководила мать. Она проверяла его правописание, слушала, как он читает, и заставляла его читать повторно, чтобы исправлять вкравшийся в его речь пенсильванско-немецкий акцент. Ее собственное произношение было безупречным исключительно благодаря влиянию ее английской гувернантки, и она была полна решимости не допустить в его речи напевности, свойственной почти всем детям Гиббсвилля, за исключением ирландских. У Бена произношение было простым, ближе всего к новоанглийскому акценту янки, хотя он и не проглатывал «р». Авторитет Бена признавался в двух вопросах: как правильно завязывать галстук и как подбирать мужские украшения, но чему он действительно научил своего сына, так это плаванию.
Как-то раз в июле, когда Джо было шесть лет от роду, Бен пришел домой из офиса в полдень – было время обеда.
– Доброе утро, папа, – сказал Джо. – У мамы болит голова.
– Болит голова? – переспросил Бен.
В гостиную вошла сестра Фоли Марта и объявила, что у миссис Чапин болит голова и она не спустится к обеду.
– Понятно, – отозвался Бен. – Скажите своему брату, чтобы он запряг в коляску Блэки и подвел к парадному входу. Прямо сейчас, Марта. Пожалуйста.
– А вы, сэр, разве не будете обедать?
– Нет. Сделайте, пожалуйста, как я вам велел.
– Папа, куда ты едешь?
– Я тебе объясню через минуту. Твоя мама спит?
– Не знаю. Наверное.
– Поднимись на цыпочках наверх, посмотри, спит она или нет, а потом тут же вернись и скажи мне.
Мальчик не привык выслушивать приказания, но отца послушался и, вернувшись, сообщил, что мать спит.
– Мы едем кататься, ты и я.
– Ты и я, папа?
– Да, ты и я.
– Но я не спросил маму.
– Я ей оставлю записку. Она не будет волноваться.
– Папа, она будет волноваться.
– Если я напишу записку, не будет.
– Папа, а куда мы поедем?
– Это сюрприз.
Бен принялся писать записку Шарлотт.
– А какой это сюрприз?
– Приятный, – сказал Бен. – А теперь не задавай мне больше вопросов, пока я не допишу записку.
– Мы куда-то уедем?
Бен неопределенно хмыкнул.
– Куда мы поедем?
– В место, которое тебе понравится, – ответил Бен.
– Коляска готова, стоит перед входом, – объявила Марта.
– Отдайте это миссис Чапин, когда она проснется. Пошли, сынок.
Отец и сын катили в коляске, и Бен отказывался выдать свой план до той самой минуты, когда стало ясно, что они едут к «Потоку».
– Мы едем к «Потоку»?
– Да.
– Зачем?
– Сюрприз.
– Папа, это пикник?
– Увидишь.
«Потоком» назывался обширный водоем, которым владела угольная компания. Берега его были усыпаны коттеджами, простыми и весьма изысканными. Коттедж Чапинов был не из простых. Бен вылез из коляски, спустил поводья и привязал лошадь к столбу.
– Что мы будем делать? – спросил Джо.
– Мы будем плавать.
– Папа, я не умею плавать, ты же это знаешь.
– Пришло время научиться.
Они вошли в коттедж и спустились вниз, в мужскую раздевалку. Бен снял с себя одежду и надел купальный костюм.
– Ну, раздевайся, сынок.
– Я не хочу. Я не хочу учиться плавать.
– Так, снимай одежду и повесь ее вот сюда.
– Я хочу домой!
– Все в свое время. Мне тебя раздеть, или ты сам умеешь раздеваться?
– Я не хочу раздеваться. Я не хочу учиться плавать! Я хочу к маме!
– Она, сынок, тебя не слышит. Делай, как я сказал, или я это сам сделаю.
Мальчик снял одежду, сложил ее стопкой и встал в ожидании.
– Молодец, сынок. А теперь пойдем окунемся.
Перед коттеджем Чапинов вода была восемь футов глубиной. И Бен бросил в нее сына, а через несколько секунд сам прыгнул в воду и схватил бултыхающегося в воде, орущего ребенка.
– Видишь? Теперь ты умеешь плавать.
Через полчаса мальчик действительно научился плавать. Когда Бен сказал, что пора идти домой, мальчик спросил, можно ли ему еще раз поплавать, и Бен ему разрешил. Они вытерлись досуха и надели одежду, в которой приехали.
– Видишь? Теперь ты умеешь плавать. Здорово, правда? Тебе понравилось? Ты доволен тем, что умеешь плавать?
– Да, да! Подожди, мы приедем, и я расскажу маме, что умею плавать.
– Только так и можно научиться. Так научили меня. Извини, что я сделал это без предупреждения, но только так и можно. И теперь ты никогда не разучишься плавать. Стоит научиться плавать, и ты уже никогда не забудешь, как это делается. Ну что, здорово?
Они подъехали к конюшне и вместе зашагали через двор к дому – отец шел рядом с сыном, обняв его за плечо.
– Наверно, мама уже встала и я смогу ей рассказать.
– Она встала. Я видел ее в окне.
Мальчик поднял голову, помахал матери, и она помахала ему в ответ.
– Поднимайся ко мне, дорогой, – позвала она.
– У меня для тебя сюрприз, – сказал мальчик.
Он вместе с отцом вошел в комнату Шарлотт.
– Расскажи мне всеоб этом, – сказала Шарлотт. – Я хочу знать все, что ты делал.
Мальчик возбужденно, со всеми подробностями рассказал ей об уроке плавания. Когда он кончил рассказ, мать спросила:
– А ты обедал?
– Нет, мама.
– Так я и думала. Что ж, беги вниз. Отец спустится через минуту-другую.
Мальчик вышел из спальни. Дверь закрылась, а они продолжали сидеть в молчании, но как только на лестнице раздался топот ног, Шарлотт поднялась с места, пересекла комнату и трижды дала Бену пощечину, а потом ударила его еще раз.
– Я бы тебя убила, – сказала она.
– Я тебя понимаю, Шарлотт.
– Ты свинья, трус, зверь. Ты соображаешь, что могло случиться? Он мог удариться головой о камень. У него мог быть разрыв сердца от холодной воды. Такого сукина сына свет еще не видывал. Ты слышишь меня? Такого сукина сына свет еще не видывал. Ты – сукин сын, сукин сын. Мерзкий сукин сын, слышишь меня? Ты – сукин сын. Я бы тебя убила. Я бы с такой радостью тебя убила и смотрела, как ты умираешь в страшных муках.
– Я это знаю, Шарлотт.
– Ты это сделал, чтобы помучить меня.
– Нет, – сказал Бен. – Я хотел научить твоего сына плавать, и я его научил.
– Ты – сукин сын.
– Тыне умеешь плавать, – сказал Бен. – Но теперь ты можешь пойти с ним к «Потоку», и он не утонет. До этого ты бы не могла его спасти. Теперь же он умеет плавать. А сейчас, прошу прощения, мне пора уходить.
Он спустился вниз, и мальчик, услышав его шаги, позвал его из кухни.
– Папа, это ты?
– Да, дорогой. Мне нужно вернуться в офис. До свидания.
– До свидания, папа, – отозвался мальчик.
Шарлотт должна была быть благодарна Бену (но не была) хотя бы за то, что он, научив Джо плавать таким жестким методом, сравнял его с Артуром Мак-Генри. Артур научился плавать точно таким же способом, но раньше, чем Джо, а матери Джо нестерпима была даже мысль о том, что Артур может что-то делать лучше, чем Джо. У нее уже и в то время были особые виды на Артура: Артур был славным мальчиком с ровным, спокойным характером, здоровым, из хорошей семьи и преданным Джо. Дружба мальчиков развивалась легко и естественно, и началась она тоже легко и просто, потому что Джо и Артур подходили друг другу. Однако Шарлотт решила поощрять эту дружбу самым тщательным образом. Она хотела, чтобы у Джо был подходящийдруг – мальчик из такой же приличной семьи, но склонный к подчинению. Шарлотт не была уверена, что в шесть лет Джо был ребенком блестящего ума, однако верно углядела в своем сыне признаки человека, способного сделать блестящую карьеру. Он был хорош собой: изящный тонкий нос, красивой формы тонкие губы, – и эти черты вряд ли изменились бы в период полового созревания или в юности. Его умение обращаться со слугами было прирожденным – такое умение нельзя было ни приобрести, ни утратить. На детских утренниках он был из тех детей, на которых матери – помимо своих собственных детей – всегда обращали внимание. Джо обвиняли в заносчивости и высокомерии еще до того, как ему исполнилось десять, но в большинстве случаев эти обвинения были несправедливы. Однако матери многих детей остро ощущали разницу между их собственными отпрысками и наследником Чапинов. Джо считался необычайно воспитанным ребенком, с прекрасными манерами, и малейшее отклонение от норм вежливости осуждалось с большим преувеличением.
На утреннике в доме Монтгомери – Джо в то время было десять – случилось происшествие, оказавшее влияние на жизнь кое-кого из присутствующих совершенно непропорционально значению слов и поступков, которые привели к этому злосчастному случаю. Играли в «Спрячь наперсток», и когда наперсток спрятали, дети ввалились в гостиную, чтобы найти его. Бланш Монтгомери, мать условного хозяина утренника, Джерри Монтгомери, как положено объявила:
– Когда я говорю кому-то: «Теплее», – это значит, что этот человек приближается к наперстку. Если я говорю: «Холоднее», – значит, человек удаляется от него. Всем понятно?
Да, всем было понятно.
Они бродили по комнате, пока одна из девочек не спросила:
– Кому же теплее всех?
– Теплее всех? Генри Лобэку, – ответила Бланш.
– Нет, не ему, – сказал Джо Чапин.
– Именно ему, Джо, – возразила Бланш Монтгомери.
– Нет, вовсе даже нет.
– Пожалуйста, без грубостей, Джо. Это невоспитанно, – сказала Бланш.
– Но теплее всех не Генри! – настаивал Джо.
– Тогда ты, наверное, скажешь нам, комутеплее всех, – сказала Бланш.
– Артуру, – ответил Джо.
– Я так не думаю. Артуру оченьхолодно.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Джо. – Артур, тебе холодно?
Артур засмеялся.
– Я горячий как кипяток.
– Ты самый горячий как кипяток? – спросил Джо.
– О, об меня можно обжечься.
– Одну минуточку, пожалуйста, – сказала Бланш.
Она двинулась в ту часть комнаты, где стоял озадаченный Генри Лобэк.
– Кто-то сыграл скверную шутку, и, я думаю, мы все знаем, кто это, – сказала Бланш.
Несколько ребят тут же подсказали ей ответ.
– Джо Чапин! Джо Чапин!
– Наперсток у тебя? – спросила Бланш.
– Нет, – ответил Джо.
– У Артура Мак-Генри?
– Да, у меня, – сказал Артур.
– Тогда отдай его, пожалуйста, и мы начнем игру сначала уже без вас, мальчики. Никакого приза ни тому ни другому.
– Но я нашел его и отдал Артуру.
– Это был бесчестный трюк по отношению ко всем остальным детям. Ты нарушитель игры.
– Вовсе нет, миссис Монтгомери. Я увидел его первым сразу, как мы вошли в комнату, – сказал Джо.
– Значит, это было до того, как началась игра, – возразила Бланш.
– Нет, это не так. Я думал, что игра началась, как только мы вошли в комнату, – сказал Джо.
– Значит, ты ошибался.
– Это несправедливо. Я первый его нашел, дал Артуру, и он был самый теплый.
– В эту игру такне играют, и ты это знаешь. И еще мне не нравится, когда маленькие мальчики дерзят.
– Я не дерзил.
– Нет, дерзил. Ты всегда дерзишь. Ты думаешь, что особенный, а это не так.
– Тогда я иду домой, – сказал Джо.
– И я тоже, – сказал Артур Мак-Генри.
– И не вздумайте! Вежливо отдай мне наперсток, и мы начнем игру сначала, но без вас двоих.
Артур отдал ей наперсток.
– Вы, мальчики, сидите здесь, а вы, дети – все остальные, – пойдемте в холл и там спрячем его снова. Все остальные в холл, пожалуйста. Нет, Джо, не ты. И не ты, Артур.
– Мы не идем в холл, мы идем домой, – сказал Джо.
– Вам придется подождать вашу коляску, – сказала Бланш.
Джо несколько секунд не сводил с нее взгляда, а потом ринулся вон из дома, не прихватив по дороге ни пальто, ни шапку, а следом за ним побежал и Артур. Женщина кинулась вслед за ними на крыльцо, крича им что-то вдогонку, но ее крик только заставил их припустить еще быстрее.
Дом Монтгомери был на Лэнтененго-стрит, на другом конце города от дома Чапинов на Северной Фредерик. Мальчики, добежав до Мейн-стрит, остановились и еще с полчаса рассматривали там витрины и забавлялись как могли: шлепали по грязи, увязая в ней ботинками и забрызгивая чулки, а также подхватывая на лету витавшую в зимнем воздухе простуду. Когда начало смеркаться, мальчики отправились по домам.
Бланш Монтгомери сидела с матерью Джо в гостиной.
– Мама, – позвал Джо.
– Я в гостиной, дорогой.
– Нечего следить своими грязными ботинками по всему дому, – сказала Марта. – Давай я их вытру.
– Марта вытирает грязь с моих ботинок! – крикнул Джо.
– Сними ботинки и иди сюда, – сказала Шарлотт.
Джо направился в гостиную, но, завидев Бланш Монтгомери, в нерешительности остановился.
– Я хочу, чтобы ты извинился перед миссис Монтгомери за то, что ушел из ее дома таким образом.
– Я прошу прощения, – сказал Джо и развернулся, чтобы уйти.
– Этого достаточно, миссис Монтгомери? – спросила Шарлотт.
– Мне очень жаль, что такое случилось и…
– Нам всем жаль, что такое случилось. Спасибо за то, что вы пришли. Очень разумное решение. Марта, будьте добры, проводите миссис Монтгомери к парадной двери, – сказала Шарлотт, лишь слегка сделав ударение на слове «парадной».
Бланш повернулась к Джо.
– Мне очень жаль, Джо, что так все обернулось. В следующем году, я надеюсь, мы…
– Конечно. Благодарю вас, – сказала Шарлотт.
Бланш Монтгомери ушла, и тогда Джо рассказал матери свою версию происшествия – правдивую.
– И это все? Ты не шалил до начала игры?
– Нет, мама. И к тому же это была первая игра. И нас даже не покормили.
– О какой еде может идти речь, когда вы ушли раньше времени. Я велела Марте накрыть тебе ужин в кухне. Я очень тобой недовольна.
– Но почему, мама? Она сказала, что мы жульничаем, а мы не жульничали. Я первым увидел наперсток.
– Я не этим недовольна. Джентльмены не устраивают сцен. Ты был в их доме гостем, и ты обязан был придерживаться правил, принятых в доме, где тебя принимают. Я сказала Марте, чтобы она не давала тебе десерт.
– А что сегодня на десерт?
– «Плывущий остров».
– Но «Плывущий остров» – мой любимый десерт!
– Что ж, очень жаль, но это твое наказание, и не только за то, что ты забыл, как ведут себя джентльмены, но и за то, что не пришел сразу же домой. А что, если бы у кого-то сорвалась с поводьев лошадь и кинулась на тротуар?
– Я бы забежал в магазин.
– Пожалуйста, мне не нужны твои готовые ответы. Я очень недовольна тобой, очень недовольна. А теперь иди ешь ужин и готовься ко сну.
В те дни семья Монтгомери была на том же социальном уровне, что и семья Чапинов и Мак-Генри, правда, Бланш была родом не из Гиббсвилля. Она родилась в Рединге и переехала в Гиббсвилль, выйдя замуж. На самом деле Бланш была дальней родственницей Шарлотт, но когда Бланш переехала в Гиббсвилль, Шарлотт пальцем для нее не пошевелила и теперь была рада тому, что отнеслась к Бланш с пренебрежением.
– У вас сейчас есть какие-нибудь дела с фирмой Монтгомери? – спросила она Бена в тот вечер.
– Что ты имеешь в виду под делами?
– Ну какие-нибудь деловые переговоры?
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
Она представила мужу свою собственную версию происшествия.
– Если ты имеешь в виду, хорошие ли у нас отношения с фирмой Монтгомери, то пусть тебя это не волнует.
– Пусть меня это не волнует?
– Ты, случайно, не замышляешь какой-то ответный удар или какую-то месть?
– Ну не совсем. Просто я хотела знать.
– Мы скорее всего будем с ними по разные стороны барьера. Они берутся за дела, от которых мы отказываемся из-за нашей связи с ассоциацией «Уголь и железо». Как же ты собираешься поставить Бланш на место?
– Ты такой догадливый, – сказала Шарлотт. – Я еще не придумала.
– Я бы не хотел быть на месте Бланш Монтгомери, – заметил Бен.
– То, что она получит, она получит по заслугам. Она на это сама напросилась. Разумеется, я не буду с этим торопиться.
– Будешь ты, Шарлотт, торопиться или нет, а она сообразит, почему ты это сделала, – сказал Бен.
– Да, но, что бы я ни придумала, было бы… проще, если бы она не знала,что это моих рук дело. Бесс Мак-Генри… Если бы она была немного тверже, но это, пожалуй, как раз в нашу пользу. Бесс довольно бесхарактерная, и Бланш никогда на нее не подумает. Дай-ка мне сообразить: а Бесс родственница Монтгомери или нет? Нет, думаю, что не родственница.
– Нет, они не родственники, – сказал Бен. – Прежде чем ты возьмешься за это дело, задай себе вопрос: не осведомлены ли Монтгомери о каких-то наших слабостях?
– Я и не знала, что у нас есть слабости, – сказала Шарлотт. – По крайней мере такие, которыми Монтгомери могут воспользоваться.
– В таком случае к черту осторожность, действуй!
– Мне понадобится твоя помощь. Возможно, ты услышишь о каких-то их намерениях, которым мы можем помешать. Я рада, что не позвонила ей, когда она сюда переехала.
– Да, теперь это выглядело бы лицемерием, – сказал Бен без тени улыбки на лице. – А может, тебе устроить большую вечеринку, а их не пригласить?
– О, Бен! До чего же мужчинам не хватает утонченности.
– Это точно. Если бы, скажем, Бланш решила завести любовника…
– Бланш? В Гиббсвилле? Никто не заводит любовников в Гиббсвилле, – сказала Шарлотт. – Где она будет с ним здесь встречаться?
– И я часто об этом думал.
– Ты думал? – спросила Шарлотт.
– Ну да, и ты, моя дорогая, тоже об этом думала, иначе ты бы не задала такой вопрос.
– Боже, Боже, Боже мой! Какие же мы сообразительные. Я знаю, где они могут встречаться. В летнем доме. Было нашумевшее дело, и тебе оно известно не хуже, чем мне.
– Да, и с тех пор ни одна уважаемая женщина Гиббсвилля не ездит в летний дом без мужа. Летние дома практически стали синонимами мест тайных свиданий. Так, все эти разговоры не по мне. Ты, моя дорогая, сама выбери форму мести, но не запускай машину в ход, не посоветовавшись со мной. У нас в кладовках тоже найдется с парочку скелетов.
– Я не люблю это сравнение.
– Это не сравнение, это метафора. Я и не думал, что ты ее любишь, но, пожалуйста, не забывай: о нас с тобой тоже можно распустить отличную сплетню. Заботливая мать, но при этом не жена своему мужу.
– Можешь, Бен, прийти ко мне в спальню сегодня ночью. Если ты испытываешь такое сильное желание, что готов рисковать моей жизнью и наверняка, наверняка наградить меня ребенком, который даже и… для такого нет и названия. У тебя есть сын, здоровый, красивый, которым можно гордиться. Но ты не видел тех других, а я их видела. Как бы то ни было, ты имеешь право на мое тело, я полагаю.