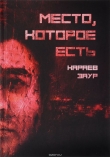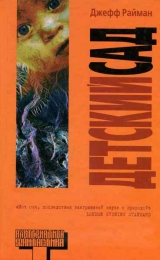
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
Глава двадцатая
А дальше что? (Оркестр из призраков)
ДЕТЕЙ ПОД БЕЛЫМИ кирпичными сводами не было. Залы Считывания пустовали: не было слышно ни задорного пения, ни гитар, ни колокольчиков. Лишь приглушенная музыка «Комедии» – ее было слышно даже здесь – и резкий свет обнаженных электрических фонарей.
Милену опустили на пол. Она почувствовала запах пыли. Майка на его стуле поставили рядом. На коленях у него лежали цветы – цветы, которыми осыпали и Майка. Они посыпались с колен, стоило ему податься корпусом в сторону носилок.
– С тобой все в порядке? – спросил он нежно.
– Все замечательно, – ответила она.
«Боли нет. Все кружится, танцует, и все равно я не могу поверить. Все еще не могу поверить, что это со мной происходит. Что я умираю».
– Они хотят сделать тебя частью Верхней Палаты, – тихо сказал Майк. – Ты знаешь, что это означает?
Милена знала. Она не хотела этого и поэтому покачала головой. Майк решил, что она не знает.
– Это означает, что они сохранят твою матрицу, – сказал он, – слепок. Схему, которую можно считывать. Ее оставляют, чтобы при случае с ней консультироваться. То есть, когда ты умрешь, ты по-прежнему будешь оставаться частью Консенсуса.
– То есть, – Милена попыталась рассмеяться, но грудь стеснило, и вышло что-то вроде муторного кашля, – это значит, что я им все еще для чего-то нужна. А интересно, что тогда происходит с Нижней Палатой?
Вопрос был риторическим: Милена знала ответ. Майк Стоун этого себе не представлял и пожал плечами.
– Их там всех стирают, – объяснила ему Милена, – подчистую.
Шорох белого платья, валуны бедер. Рут. Милена улыбнулась и изнеможенно повела головой из стороны в сторону.
– Не было ль чего паранормального, мистер Стоун? – пробормотала Рут негромко, чтобы лишний раз не беспокоить Милену.
«Разве что вся моя жизнь, – усмехнулась про себя Милена. – Разве что гала-концерт в космосе, который не должен был быть создан женщиной, лишенной простого права умереть. Разве что тарелка с отбивными, которой не было. Или Лондон. Или недруг, пляшущий у тебя в глазах и насылающий морок. Или Ангелы с Херувимами, что общались со мной по линиям гравитации».
– Еще буквально пара секунд, и все готово, – бодро взялась за дело Рут, но опомнилась и изобразила печаль. Тем не менее надолго ее не хватило, и вот улыбка уже снова расцвела на ее лице.
– Ну как ты, лапка моя? – спросила Рут, беря Милену за руку. – Как ты тут, родненькая?
Широкая добродушная улыбка заставила Милену бледно улыбнуться в ответ.
– Да как-то не очень.
– Ты уже тут была и потому знаешь, что будет дальше, ведь так?
– Так, – соврала Милена.
– Ты увидишь все разом, всю свою жизнь.
«Как утопающий».
– Нет времени, кроме настоящего, – проговорила Милена.
Помимо настоящего, ничего уже и не оставалось.
– Я в чем-то ошибаюсь? – поинтересовалась Рут. Хотя сейчас это было уже не важно.
– Да ну, – отвечала Милена, ничего особо не утверждая и не отрицая.
– Но ты всегда будешь жить здесь. – Рут подняла руки вверх. Над ними, а также везде вокруг был Консенсус.
«От Консенсуса мне, видно, деваться некуда».
– И здесь. – Руг приложила руку к сердцу.
«Но не здесь», – подумала Милена о своем теле, лежащем на кирпичном полу.
– Я хочу свободы, – прошептала она.
Рут посмотрела на нее с любовью и жалостью. Обнадеживать ее не было смысла – впереди только боль и разочарование.
– Ну так, может, ты ее и получишь, – сказала она не совсем искренне и тронула Милену за руку. – Я сейчас, – и ушелестела.
Майк, выбравшись из своего чудо-стула, подобрался к Милене на четвереньках и склонился над ней, прямо как в той небесной опере.
– Я должен тебе что-то сказать, – заговорил он. – Я подхватил от тебя вирус. Рецептор превратился в передатчик. Я уловил тебя. Ты понимаешь? Ты теперь постоянно в моем мозгу. Как у тебя Хэзер.
«Как все-таки странно. Впечатление такое, будто я разбрасываю себя повсюду, как листву».
– Так вот откуда ты знаешь про Хэзер, – догадалась Милена. – Получается, ты действительно знал. И про те гобелены.
Ее удивляла слабость собственного голоса.
Майк кивнул.
– Хэзер не умрет! – воскликнула Милена с блаженством облегчения: Хэзер останется, не уйдет вместе с ней. – Передай ей от меня привет, – сказала она. – И обязательно скажи Элу, ладно? Пускай приходит к ней пообщаться.
– Я знаю о них, – торопился Майк. – И о Ролфе тоже знаю. Я теперь знаю все. – Он указал себе на виски. – Так что тебе не надо за меня волноваться. Если я тебя вообще как-то волную. Тю-ю!
Вот она, такая знакомая, типичная Ролфина усмешечка, с непременным пожиманием плечами.
– Одному мне не быть. Для общения у меня по-прежнему будешь ты. Я и ребенку о тебе расскажу, все-все. И ты тоже сможешь с ним разговаривать. Через меня. – Он улыбнулся со всей своей наивной искренностью. – Я как раз это имел в виду, когда впервые сказал, что хочу ребенка. «Никакого вреда не будет», – сказал я. И это правда. Ведь так? Видишь, это все правда.
По-прежнему стоя на четвереньках, он наклонил голову и поцеловал ее в лоб. Милене удалось обвить его шею одной рукой, худющей, свисающей как плеть.
– Я люблю тебя, – сказала она. В первый раз.
Улыбка Майка осталась прежней. Она была такая же наивно-счастливая. Не смягчилось в своей ласковой серьезности и выражение глаз.
– А что? Может, действительно любишь. По-своему, – отреагировал он.
Жаркий нарост у Милены на плече, видимо, вызрел окончательно. Он лопнул.
– Ой, – выдохнула Милена, ощутив, что произошло. Она прикоснулась к лоскуткам разорвавшейся плоти. Кончики пальцев стали мокрыми, но это была не кровь. На них был чистый растительный сок.
– Милена, ты посмотри! – воскликнул Майк Стоун и протянул ей что-то.
Это была роза. Человеческая роза.
– Это рак, – сказала Милена. – Значит, она бессмертна. Посади ее, и она никогда не погибнет.
На этом разрывы плоти не закончились. Что-то как будто зашевелилось в рукаве халата. Милена попыталась вытряхнуть это что-то, и оттуда, оставляя сукровичный след, выбралась на пол малюсенькая черепашка. Милена рождала живые воспоминания.
Живот заскрипел, как сухая кожа. В нем словно открылась брешь. Там тоже что-то зашевелилось. Милена кое-как развела полы халата.
Это было нечто новое.
Гладкое, розовенькое, с удлиненным носиком и круглыми ушами. У Милены под грудью жухлым трупиком лежала войлочная кукла Пятачка. А из нее, словно стряхнув эту мертвую оболочку, успел выбраться новый Пятачок – живой Пятачок! Он вылез и огляделся с тревожным любопытством. Майк Стоун, потянувшись, взял его за лапку.
– Привет, малыш, – сказал он ласково.
Кукленок с комичной торопливостью слез с Милены.
Послышалось знакомое шуршание.
– Силы небесные, – пробормотала Рут, входя к ним.
Пятачок с добродушным любопытством вскинул на нее мордашку и, блестя глазенками, навострил ушки.
– Молодцы. Спасаются, пока могут, – слабо улыбнулась Милена.
Рут все качала головой.
– Ну прямо не знаю, прямо не знаю, – приговаривала она. А потом, повернувшись, вышла в Зал Считывания.
«Когда это происходит – сейчас? – недоумевала Милена Вспоминающая. – Или несколькими мгновениями раньше? Или это уже случилось? Что-то не помню. Я кто: та, что живет, или та, что вспоминает?»
– Все в порядке, – заверял Майк посторонние руки, помогающие ему выпрямиться. Носилки подняли. Майку надо было отпустить Милену. Локтем он прижимал к себе черепашку и Пятачка. Пятачок держал розу. Их всех усадили на стул Майка и понесли через залитый фиолетовым светом коридор-гармошку впереди Милены в Зал Считывания.
В помещении стоял высокий человек в белом. В прозрачной пластиковой маске.
– Вам что, мало вирусов? – неодобрительно спросил он. – Все должны быть в белом.
Доктор. Представитель высшей касты во всей иерархии Братств. Доктора надзирали за Режимом Общественного Здоровья. Они же присматривали за Консенсусом.
– А это что за ерунда? – спросил Доктор, указывая на Пятачка.
– Новая… – Майк не находил нужного слова, – новая жизнь.
«Vita Nuova»– прошептал откуда-то посторонний голос.
– Все обработано ультрафиолетом, – поспешила заверить Доктора Рут. Руку она держала у Майка на плече.
– Майк, душка, – сказала она. – Сейчас тебе надо будет выйти. Иначе два Считывания смешаются друг с другом, и получится все очень плохо.
– Мы уже и так смешались, – выдавил тот севшим вдруг голосом.
– Все будет в порядке, Майк, – попыталась ободрить его Милена.
– Да, – машинально согласился тот, – будет.
Он подошел и склонился над ней. Таким его лицо Милена видела впервые. Непередаваемо искаженное, словно растянутое в несколько сторон сразу. Он стоял, вбирая в себя ее лицо. «Он смотрит так на меня для памяти, – поняла Милена. – Смотрит, чтобы запомнить». Ободряющая, но напоминающая рука Рут у него на плече легонько сжалась и потянула назад. Майк еще немного постоял и, переваливаясь с боку на бок, побрел, не оборачиваясь, к выходу.
Милена осталась одна на полу.
«А умирать-то как одиноко! – подумала она. – Как будто бы весь мир тебя отторгает».
Ну, а дальше что?
Вспомнилась Ролфа. «С ней это было. Я видела, как волна проходит сквозь нее. Когда именно это происходит? Сознаешь ли ты это? Помнишь ли потом все, что с тобой было? И если да, то полностью или урывками?»
Наверху, смутно как во сне, землю, камень и плоть Консенсуса сотрясала музыка Ролфы. «Ролфа, Ролфа, где-то она сейчас?»
Снова послышался голос. Он нежно нашептывал Милене на ухо.
«А дальше будет вот что, —говорил он. – Ты все вспомнишь. Бояться абсолютно нечего. Покажется, что пройдет целая вечность, хотя на самом деле все будет длиться лишь мгновенье».
«Рут?»
Милена попыталась даже сесть и оглядеться. «Кто это разговаривает?»
«А теперь мне пора идти. Но “modicum et vos vitebitis me" —
“и опять вскоре увидишь меня”».
Это была Ролфа. Это говорила она.
Проникающая сквозь камень горняя музыка оборвалась. «Комедия» окончена.
Пространство замерцало. Пространство, время и мысль ожили все разом.
И тут грянула волна.
ГДЕ-ТО В ПАМЯТИ МИЛЕНА УВИДЕЛА лицо Чао Ли Суня в молодости.
«Проблема, – вещал изгнанник, – во времени».
Милена вспоминала, как она с друзьями теснится в незнакомой толпе на пешеходном мосту Хангерфорд. Рядом с ней Бирон, живой. Живой, юный; ветер ерошит ему волосы, словно говоря: «Не дрейфь, все будет классно!», а зубы, открывающиеся в улыбке, свидетельствуют о недостатке кальция. «Я никак не мог пропустить такое зрелище!» – говорит он.
«НОЛЬ! – задорно скандирует толпа. – МИНУС ОДИН! МИНУС ДВА!»
Огни вспыхивают по цепочке, один за другим, а Милена разрывается на тысячу сущностей, тысячу моментов, в каждом из которых «сейчас»– это иной, обособленный мир, а все моменты ее жизни летят стремглав быстрокрылыми птицами, каждая по своему маршруту. Причины и следствия недостаточно, чтобы свести мир воедино.
Рай присутствует всегда и везде, точно так же, как и ад. Время смешивает, сближает их настолько, что спасение и проклятие становятся фактически едины. Память – это значит быть вне времени. Она способна их разделить. Память показывает нам, что значит рай – когда больше ничего не происходит, не наслаивается. Она являет нам тот миг, когда заветное желание наконец исполнено и исчерпано до дна, после чего удерживает то, что любит, навсегда, соприкасаясь с ним отныне в извечной связи. Память порабощает нас, дотошно сохраняя весь наш ужас, притягивает магнитом и припаивает нас к нему. Память – это чистилище. Чтобы быть спасенным или проклятым, надо находиться вне времени. Надо шагнуть за пределы этой жизни.
– А-а-а! – голосила Милена, раскачивая и маша немощными своими руками-веточками. – А-а-а! – кричала она разом и от боли и от радости.
Она впервые встретила Майка Стоуна. Познакомилась с Троун Маккартни. Ее пронзила взглядом Аптекарша, а Жужелицы стайкой фламинго засеменили по илистому дну реки у Набережной. Милена остановилась перед Максом. «Большая серая книга. Что вы с ней сделали, Макс?» К ней подошел Нюхач Эл: «Человек – вселенная в миниатюре, – говорил он. – Память в действительности напоминает тенета. А подо всем этим – огонь. Там просто жжет».
Танцующие аккуратными рядами китайские принцессы синхронным движением грациозно поднимали веера перед гигантским крабом на троне. Король из «Бесплодных усилий любви» смотрел на нее распахнутыми глазами, и слезы текли по его чумазому лицу. «Все съедобное плачет, – страдальчески говорил он. – Кофе мучается, кричит». Торговка игрушками нараспев хвалила зеркальные линзы громким чистым голосом:
«Вещь, что нам доверена, историей проверена!»
Министр Мильтон рухнул лицом в крабовый салат. «Я думаю обо всех вас, – говорила Люси, – как о каких-нибудь цветах в моем саду». Откуда-то доносился шум геликоптеров.
Огонь, расправляя горячие крылья, охватывал жизнь Милены, воспламеняя одну за другой веточки ее нервов. Возможно, они ветвились по кодам «да-нет» или «один-ноль», но общая схема-матрица вела к чему-то густому и жидкому, как магма.
«Я всхожу подобно дереву, все более и более мелкими веточками, каждая из которых – очередное “я”. Но корни утеряны, корни всего моего мира утрачены. Нервы сдают, и язык от этого путается. Грамматику от этого коробит. Вот уж и впрямь Неправильная Морфология».
– Потому что Прошлое – это ты, – говорит откуда-то Рут. «Сейчас?»
Очищающий пожар бушевал в ней, освещая память.
Чистилище.
МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА, как она стоит на перроне в Чехословакии. Она держалась за руку матери. За навесом платформы, на самом-самом конце железнодорожных (точнее, сделанных из розового коралла) путей мерцала звездочка. Звездочка эта, медленно увеличиваясь, двигалась к ним. Милену охватывало небывалое волнение.
– Тфшш-тфшш, тфшш-тфшш, – изображала Милена поезд.
Заходя на станцию, поезд с большущими каучуковыми колесами озабоченно шипел, лязгал и поскрипывал. Вагоны тянулись за локомотивом, как хвост гусеницы. С карканьем кружили над соседним полем вороны.
Поезд был большой, сильный и добродушный, каким был когда-то ее отец. Как будто это он снова вернулся. Раздавался громкий, добротный стук-бряк, будто это отец рухнул на диван и затеял игру с маленькой Миленой. Только вот между ней и поездом находился зазор. Какая-то брешь, темная и большая; Милена даже могла в нее ненароком провалиться. Ведущие в поезд ступеньки были большие, выше ее ростом, – взрослые ступеньки, не рассчитанные на детей.
Вот мать подняла Милену, как она в свое время делала, передавая ее в руки отцу. При этом она сказала: «Поднимаемся! Ну давай шагай: раз, два».
– Nastupajem! Raz, dva.
«Она говорит не по-английски, – изумленно поняла Милена Вспоминающая. – Она говорит по-чешски, а я понимаю каждое слово. Даже лучше, чем я когда-либо понимала английский. Английский язык не такой: он не влечет, не захватывает меня. Английский – другое измерение, иная вселенная. Чешский язык, чешское время, чешское мировосприятие. “Поезд” – “Train”: разве можно его сравнить с чешским “vlak”. “Train” – это что-то до оскомины британское, скучновато надежное, какое-то обыденное. То ли дело “vlak” – в этом есть что-то резкое, грубовато-мощное; оно везет тебя в город, где так много всего увлекательного. А раз “vlak” – понятие уже само по себе значительное, то покинуть вокзал так просто, незаметно он не может. Нужно, чтобы там непременно толпился народ и все махали на прощанье платками. Чтобы из окон высовывались руки и головы женщин и чтобы напоследок обнимались и спешно давали провожающим какие-нибудь срочные наказы или советы. “Верните мои книги!”, “Не забудьте сказать Юлиане, чтоб обязательно проведала тетушку!” Как будто эти люди расстаются навеки и никогда уже больше не увидятся».
Милена с матерью входят в вагон, где их рядами встречают лица пассажиров, и среди них дама в очках и шубе с воротником из цельной лисы.
– Mami, proc ma ta pani na sobe mrtve zviratko?
«Мама, а зачем на той тете мертвый зверек?»
Вопрос остается без ответа. Весь вагон смеется, включая и саму даму в очках, хотя губы у нее поджаты, а глаза сужены от злости. Вопрос без ответа потому, что, если вдуматься, вразумительно на него действительно не ответить. Нельзя же, в самом деле, сказать, что дама от этого становится красивее. Эта усохшая мордочка мертвой лисы, задумчиво кусающей себе хвост, – неужели действительно стоило напяливать на себя это?
Раскаты хохота ребенка смущают и настораживают. Девочка хочет, чтобы до дядь и теть дошло: вопрос действительно не такой уж и дурацкий.
– Snedlaje napied? Mela je ochocene?
«Она ее перед этим съела? Это у нее была такая домашняя животная?»
– Milena, – казалось бы, с улыбкой говорит ей мать, а сама нервно, загнанно косится по сторонам. Никто больше не умеет произносить имя дочери с такой интонацией.
Голос матери поднимается и падает, ласкает, одновременно любя свою дочь и жалея, смущаясь и теряясь. Милена доставляет матери много огорчений. И не только огорчений – боль здесь смешивается со многими чувствами. И то, как мать произносит ее имя, воссоздает смысл, заключенный в самом этом имени.
Милена вспоминает, что имя это значит «Любящая».
«Я по-прежнему ношу это имя, только до сих пор я забыла его истинный, сокровенный смысл». Теперь с имени словно была снята маска, восстановив его значение; воскресив голос матери, вновь произносящий его с тем звучанием, какое Милена слышала в своем тогдашнем, первом мире.
Мать подтягивает Милену к сиденью, а сама говорит ей громко – чтобы услышали все остальные:
– То nikdy nebylo zviratko, Milena. To narostlo. Pestuji kozesinu jako mstliny.
«Оно никогда не было зверьком, Милена. Его вырастили. Меховые шкурки выращивают, как растения, в питомниках».
Милене хочется знать, зачем так делают. Но она боится, боится еще одного взрыва смеха. Она вся сжалась, как шагреневая кожа. Очевидно, задавать вопросы нехорошо. Вопросы показывают, что она глупая. Девочка уже знала, что она глупая, что ей нужно прятаться, сидеть тише воды ниже травы. Время от времени ей давали вирусы, но они не приживались. Ученье в готовом виде ей не давалось. У нее была сопротивляемость к ученью.
Мать поднимает Милену на сиденье. Милена чувствует, какая она маленькая и легкая – вот сейчас подкинь в небо, и полетит как перышко. Это даже занятно – быть такой легкой, такой трепетной, как огонек спички. Время кажется таким медленным и тягучим, как мед. Ножки у Милены болтаются высоко над полом. Мать усаживает ее поглубже на сиденье, и тогда ножки у нее торчат вперед, как у куклы. Почему-то у взрослых ничего не делается в расчете на детей.
Слышится легкий скрежет, и все в вагоне внезапно дергается в одну сторону. Медленно, словно нехотя, поезд начинает отходить.
– Zamavej no rozloucenou, Milena.
«Помаши на прощанье, Милена».
Мать начинает вдруг тихонько плакать. Ребенок озадачен. Ей было сказано о предстоящем отъезде, но она как-то не принимала это всерьез. Уезжать, куда? Какое еще бывает место для житья? Прага? Было бы здорово, но ведь ей же самой говорили, что в Праге опасно? Родители же вроде для того из Праги и уехали, чтобы спрятаться?
Уплывает из вида грязноватая маленькая станция. Деревню отсюда не видно. Вон деревья, знакомая речка; сквозь густеющую вечернюю дымку видно, как пасутся коровы. А вон шпиль на круглом куполе церкви. Постепенно все поглощает тьма.
«Дом, – плакала Милена Вспоминающая. – Это же мой дом». Милена-ребенок не плакала. Для нее это был просто плывущий за окном пейзаж. «Страна, которой я больше так и не увидела, – думала Вспоминающая. – Расплывающийся образ, неотъемлемая часть меня – место, которое я постоянно носила у себя в памяти, но так и не могла вспомнить. До этого момента».
Мать поднимает Милене одетую в рукавичку руку и машет ею вместо своей руки, веля прощаться – с кем? Зачем?
«Не рукавички – palcaky».
Одежда на пассажирах в вагоне, их прически и стрижки; то, как они заправляют брючины в гольфы, чтобы не попадал холод; сам запах поезда и резиновые коврики. Мятный чай и сахарные рогалики в кулечках – подкрепиться в дороге. И этот особый звук поезда – басовитое урчание, как будто какой-то бородач распевает песни диковатым, прокуренным от сигар голосом. Вот он какой, этот поезд. Как будто он, как и ее отец, тоже без конца твердит о свободе, пока вдруг не возьмет и не умрет.
«Кстати, нет: не свобода, а “ svoboda”.
И вон там не дома, а “domy”.
И это вот не поля, а “ pole".
И там вон не дрозды, а “ kosi"».
«И я – не Милена Шибуш. Миленой Шибуш я так и не стала. Она где-то там, в другом месте, в теперь уже неведомом мне краю.
Ox, lato,ox, mami,как может то, что было близким, стать вдруг таким недосягаемо далеким? Неужели жизнь растаскивает нас по частям настолько, что мы перестаем быть сами собой? А тогда – было ли оно все в действительности? И если да, то как оно вдруг истаяло, растворилось? И как, каким образом возникло снова, но уже в другом месте?»
Милена вспоминала детство.
Как она в чьем-то доме лущит миндаль. «Любящая, Любящая!» – то и дело дружелюбно поддразнивали ее. Миндалины надо было выуживать из красной керамической чашки с остывшим кипятком, так что они были горячеватые. Милена надавливала обоими большими пальцами, пока из бежевой скорлупки волшебным образом сам собой не выскакивал орех.
Была Пасха. Вместе с другими детьми Милена со смехом резвилась в большом солнечном саду, где детям дано было задание ножницами срезать шишечки и цветки у молодого лука. Там же в саду была привязана смирная лошаденка, которая теплыми мягкими губами осторожно, словно в поцелуе, забирала у детей с ладоней те самые шишечки-цветки. У Милены прикосновение губ той лошадки вызывало сладостную оторопь – у нее даже дыхание останавливалось от восторга. А потом они нашли божьих коровок и стали собирать их в миску, наложив туда травы. А в одной из комнат огромного старого заброшенного дома, в котором раньше был склад, девочки сделали тайную комнату из ящиков и коробок. Туда они поставили игрушечное пианино. Тайную комнату пришлось оборонять от набегов мальчишек; схватки проходили под бренчанье клавиш. Милене, помнится, удалось тогда побороть одного мальчика. Она одолела его в честном поединке и визжала от дикого восторга.
Милена вспоминала лица забытых друзей детства. Там была девочка в розовом платьице, с миндалевидными глазами и красивыми черными косами, перехваченными лентой. Была еще голубоглазая София с каштановыми волосами и какой-то мальчик-тихоня – помладше и слабее девочек, но не нытик, – который с молчаливым упорством все штурмовал и штурмовал их замок. Милене тогда защемили дверью руку, и она разревелась и убежала за утешением к взрослым; но не успела боль утихнуть, как она опять со смехом унеслась в сад, где уже шла игра в пятнашки, и с удовольствием присоединилась к общей беготне.
«Я была счастлива.
А Англия мне так и не стала домом. Я никогда не чувствовала себя англичанкой, никогда не ощущала себя в ней так, как они. Я знаю их язык, но не чувствую его сердцем. Я не плачу по-английски, и по-английски не смеюсь, и не занимаюсь любовью по-английски. Люди мне кажутся пустыми или жестокими, простоватыми или чопорными, излишне мягкими или, наоборот, черствыми, но до меня никак не доходит их истинная суть. И часто у меня не получается что-то правильно сделать или сказать потому, что там, внутри, у меня другая морфология. Не то чтобы что она неправильная. Она у меня чешская».
Милена вспоминала, как развивались дальше события в тот день, когда она возвращалась с родителями домой, на холм. В той самой церкви с куполом была праздничная пасхальная служба с крестным ходом, и девочку нарядили в белое платьице с прикрепленными крылышками из блестящей фольги. Сейчас девочка вместе с родителями взбиралась по склону, ведущему от деревни к их нагретому солнцем дому из известняка. Шли уже долго. Тропа петляла через сумрачный лес. Одетая ангелочком девочка держалась за руки отца и матери; задумчиво приподняв круглое пурпурное личико.
И тут она взглянула на Милену.
«Она видит меня, – поняла Милена Вспоминающая. – А я ее».
Отец потянул было ребенка за собой, но девочка уперлась. И не отрываясь хмуро смотрела на Милену, на эту странную, внушающую тревожное предчувствие согбенную фигуру.
«Я помню это!» – поймала себя на мысли Милена-взрослая.
И вспомнила, как она смотрит во все глаза на взявшуюся словно из ниоткуда старуху с увядшей пожелтевшей кожей, обтягивающей хрупкие кости. Старуха была лысой, если не считать отдельных прядей-паутинок. Ребенок взирал на нее с немым ужасом, безотчетным и вместе с тем обоснованным, как будто этот призрак был как-то связан с ее будущим.
Время замерло. Мировая ось вращалась вокруг неподвижной точки, где стояла Милена – та, что в начале, и та, что в конце.
Милена-взрослая опустилась под раскидистым деревом, видимо, чтобы отдышаться, и замерла в пятнах утратившего вдруг подвижность солнечного света. Мир на мгновение словно застыл.
– У тебя есть время? – обратилась к ребенку взрослая. Ей мучительно хотелось поговорить с ней, предостеречь.
Ребенок не понимал английской речи. «Да что ж это я – конечно она не понимает!» – спохватилась взрослая, прикрывая себе лицо рукой. Она силилась вспомнить какие-нибудь слова на чешском. Хотелось как можно скорее предостеречь, оградить, защитить эту девочку. Предостеречь – от чего? От жизни? Смерти? От того отъезда из дома? Ребенок озадаченно насупился.
– Будь счастлива, – прокашляла взрослая, которой мир больше не принадлежал. Порывшись наспех в запасе иностранных слов, она, как назло, выбрала не тот язык: « Soyez content».
Девочка потянула отца за рукав, и время возобновило свой ход.
«Задержись, хоть на минутку! – в отчаянии глядела ей вслед взрослая. – Не торопись уходить, ведь это навсегда. Твой отец умрет, а вслед за ним и мать, и ты утратишь весь этот мир! И потеряешь себя!»
Милена Вспоминающая видела лишь старое, изможденное лицо, в немом отчаянии пытающееся донести до ребенка что-то, что, скорее всего, понять невозможно, да и не нужно.
«Любящая» отвернулась и снова потянула за рукав отца, на этот раз игриво: «А ну, кто первый добежит до верха?» Отец рассмеялся и, схватив дочку, подбросил в воздух. Девочка взвизгнула с веселым ужасом и была аккуратно опущена на ноги. Вместе с родителями она двинулась дальше по лесистому склону, по прогалинам света и тени.
«Впрочем, назвать ее заблудшей, когда она пройдет свою земную жизнь до середины, тоже нельзя, – рассудила Милена Вспоминающая. – Взять хотя бы это начало: и лес полон света, и путь достаточно прямой».
Ребенок на ходу обернулся и посмотрел на нее. И, судя по его лицу, понял больше, чем она сама могла выразить словами.
«Призрак, уходи, – говорило это лицо. – Ты со мной сейчас не имеешь ничего общего. Ты думаешь, Призрак, что только потому, что ты уже в конце, а я еще в начале, ты представляешь собой нечто большее, чем я?»
На застывшей оси кружащегося мира перед Миленой предстало все ее прошлое. Она вспоминала Детский сад в день знакомства с Роуз Эллой. Вспоминала цветы из света, что она ткала в тот день, когда стояла в комнате у Троун Маккартни. Вспоминала величавую панораму Земли за окнами Пузыря; и Архиепископский парк; и тростник, окаймляющий бронзовую гладь предзакатного Болота. Вспоминала языки огня, лижущие руки Троун. Неужели что-то из этого может действительно превзойти по важности идиллическую картину: дитя, бодро шагающее между матерью и отцом вверх по лесистому склону в другой стране?
И МИЛЕНА ВНОВЬ ОЧНУЛАСЬ на упругом теплом полу Зала Считывания.
– Опять ты за свое, – упрекала ее Рут. – Я же говорила: не брыкайся.
– Брыкаюсь – значит, живу, – пробормотала Милена.
– У них никак не выходит то, чего им нужно.
«Ах вот оно что. Им нужна Ролфа».
– Ты понимаешь, матрица не имеет законченного вида!
В помещение вполз Майк Стоун.
– Пора прекратить все это, – взмолился он. – Моя жена больна!
«Мы делаемся старше, и с возрастом теряем себя, – размышляла Милена. – Зачем я вернула рак? Чтобы люди опять могли стареть?» Она подумала о Гортензии Пэтель с ее постоянными переломами из-за недостатка кальция в костях: издержки возраста. Она подумала о детях, беспечно резвившихся в том большом саду, вспомнила их самозабвенно счастливые лица. Они там, в Чехии. Им сейчас примерно столько же, сколько и ей, – по двадцать с небольшим. Но в отличие от нее они не умрут молодыми.
«Зачем я вообще это сделала?»
Рут торопливо подошла к Майку Стоуну.
– Майк, прелесть моя, дай я тебе объясню, – сказала она, настойчиво усаживая его обратно на стул. Кое-что из ее возбужденного монолога Милена расслышала. Что-то насчет лекарства и как оно помогает. А также насчет того, что все вот-вот уже закончится.
Вошел Доктор, весь в белом и с аппликатором. Милене почему-то вспомнилась собственная круглая мордашка – в самом детстве, до того как ей ввели вирус. И еще припомнились теплые, трепетные губы лошадки в саду и как занятно было срезать шишечки на луке.
Вот тогда Милена поняла, зачем ей нужно было возвратить рак.
– Теперь срок жизни увеличится, да? – спросила она. – И люди опять будут доживать до старости?
– Именно так, – кивнул Доктор, жужжа аппликатором: сейчас он введет очередное лекарство, от которого делается только хуже.
– Надеюсь, теперь, когда люди снова смогут доживать до старости, вы дадите им возможность взрослеть не сразу, а постепенно? Чтобы сначала побыть детьми, а потом уже взрослыми?
Она вернула рак, чтобы дети смогли продлить себе детство: чтобы можно было чуть подольше резвиться в садах, среди света и деревьев. Кто бы мог подумать, что Милена Шибуш умирает из любви к детям?
– А, вы об этом. – Доктор улыбнулся профессиональной, с холодком отчужденности, улыбкой. – Нет, что вы. Детство мы наконец-то искоренили. Что толку в детях? Они ничего не смыслят, их нужно опекать, заботиться о них; наконец, они элементарно жестоки. Детство было врожденной болезнью. – Он с довольным видом выпрямился и покачал головой. – Нет. Детство мы не возвратим.
Милена поняла, что проиграла. Она и не знала, что это было сражение, исход которого предопределен. Ее жизнь прошла в попытке вернуть то, чем она жила и что испытывала в детстве.
Она полагала, что жизнь у нее началась с Ролфы. Что расцвела она лишь тогда, когда ее встретила, и продолжала цвести даже после того, как Ролфа ушла. На деле же оказалось, что ее жизнь закончилась – в том смысле, что уже состоялась. Выполнив миссию, она подошла к своему логическому завершению. В Ролфе, с Ролфой она нашла любовь. И любовь стала живым воплощением всего того, что было ею в свое время утрачено: родной страной и языком; пейзажем детства, бережно хранимым в глубинах памяти; отцом и матерью; родным именем и местом, где она могла чувствовать себя счастливой. Она потеряла себя, свою сущность.