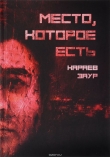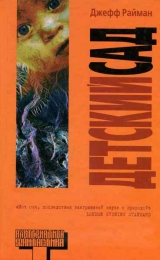
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
«Я его пугаю», – подумала Милена.
Ребенок стоял с широко открытыми глазами, поджав губы. Похоже, он собирался заплакать. Милена хотела было сказать Принцессе: «Берри чем-то обеспокоен», но решила сама выяснить, чем именно. Она попробовала его считать. Обычно малыши не считываются. То ли их мысли слишком сумбурны, то ли они слишком сильно отличаются от взрослых, отчего Считывание теряет смысл. Милена лишь смутно сознавала, что сейчас чувствует Берри. Малыш представлял собой сплошной клубок из песен. Песни эти были секретом; при взрослых он их не пел. Они были о его мире, а мир – словно неким яйцом, которое он вынашивал. Он старался поддерживать в нем тепло. Это был хрупкий, уязвимый мир, оберегаемый тайной от всех песней. Теперь наступил черед Милены смутиться.
«Он пытается защитить этот мир от нас. Что ж, у детей всегда бывают свои секреты». Милена попыталась мысленно отстраниться. Внезапно ее охватила усталость. «Мне надо бороться со своей болезнью. А у малыша свои сражения, которые ему и выигрывать». Правда, из песни можно было понять, что это, возможно, не только его битва.
Милена погрузилась в дремоту или, по крайней мере, в состояние близкое к ней, настолько, что друзья сочли ее спящей и могли теперь разговаривать без стеснения. Говорили они полушепотом. Берри было велено прекратить петь, чтобы не будить тетю Милену. И он теперь пел про себя, и его песня все равно доносилась до нее сквозь сон.
Через какое-то время Милена проснулась, чувствуя сильную жажду. Она дышала ртом, а от глаз куда-то в мозг шлейфом тянулась тупая боль.
«Только не говорите, что я больна, – заклинала она мысленно. – Не заставляйте меня чувствовать себя недужной. Дайте мне испить этот день до дна. Ну пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня понесли назад, не хочу, чтобы меня рвало, не хочу боли. Не сегодня. Пусть завтра. Завтра небо будет серым и мы не будем, как сейчас, вместе».
– Милена, с тобой все в порядке? – приподнявшись на стуле, участливо спросил Майк.
– Да, – отозвалась она. Притворяться спящей не было смысла.
Она открыла глаза. Они были полны чистой, липковатой влаги, преломляющей свет в искристые радуги. Безымянные формы света, пляшущие радужными зигзагами и взвихрениями, подобно взмахам крыльев.
Открыв глаза, она очутилась в ином мире.
«Я знаю его! Знаю это место! – словно выкрикнула Милена Вспоминающая. – Я знаю, что это: это Сейчас! Я знаю, где я!»
«Я в самом деле больна», – подумала Милена-режиссер. Это начало новой болезни. Но ее это не удручало. Она улыбалась.
Мир был сотворен из света – меняющегося местами, входящего и исходящего подобно дыханию; дыханию, воспаряющему от земли к отороченным светом облакам – со множеством оттенков, от белого до льдисто-голубого; с взвихрениями ледяных кристаллов в дыхании мира.
Аллилуйя. Осанна.
Все так же улыбаясь, Милена, пошатываясь, поднялась. Она встала и побежала по траве. На ней были сандалии на босу ногу – чувствовалось, как щекочут ступни травинки и как овевает поток воздуха, свежего от выдохов кустов, деревьев, травы. Это дыхание обдавало ее и лучезарно ощущалось на коже, сталкиваясь с родопсином, разлагавшим его на сахар и соду, от которой покалывало нервные окончания на коже, ее зрячей коже, ощущающей на себе колеблющиеся волны света.
У травы были колени и локти, и выпростанные руки, в которые Милена восторженно упала. Упала и начала с восхищением смотреть по сторонам.
– Милена! Ма! – кричали сзади взрослые.
Все было защищено, ограждено светозарными доспехами света. Она взглянула себе на руку и увидела, как она вбирает и излучает свет. Она поглядела наверх и увидела деревья – увидела, как те отворачиваются, подобно Жужелицам, сходясь и расходясь в переменчивом фокусе.
Милена рассмеялась.
– У-ху-хууу! – кричала она, взбрыкивая ногами.
Над ней склонились взрослые.
– Ма, солнышко, с тобой все в порядке? – взволнованно спрашивала Сцилла.
Милена перевернулась с боку на бок и потрясенно замерла, настолько неожиданно для нее было увидеть перед собой Сциллу. Лицо подруги было настолько изможденным, что, казалось, имело еще большее сходство с черепом, чем у самой Милены. Ввалившиеся глаза были изнурены, изнурены необходимостью разыгрывать из себя няню. «Если хочешь, можешь просто послать меня подальше», – подумала Милена.
Рядом присел на корточки Берри, попав таким образом в поле зрения. Он теперь широко улыбался. При этом малыш не отводил внимательного взгляда от лица Милены, и Милена – уже не режиссер – подумала: «Он понимает». Она ответила ему взглядом на взгляд и улыбнулась. Он не отводил глаз.
– Зачем ты так бежала? – допытывалась Сцилла. – Ты не ушиблась?
– Мы все ушиблены. Только не падением.
Милена имела в виду свое падение в траву, радушно распахнувшую навстречу свои объятия. Вместе с тем фраза прозвучала как какой-то намек. Милена обеими руками ласково погладила траву, ощутила ее шелковистость.
– А-а-а.
Трава знала. Она неспроста так раскрылась ей.
– Наверно, – произнесла она заплетающимся языком, как пьяная, – я становлюсь Жужелицей.
Она действительно так считала.
Лекарство, которое лечит, а не то, от которого заболеваешь.
– Чертовы вирусы, – хмыкнула Милена. – И почему от них так чертовски здорово?
– Милена, Миленочка, – повторяла Сцилла, истомленная, измотанная, беря ее за руку. Для нее, никогда не думавшей о смерти или ее приближении, это было непереносимо.
– Существует нить, золотая нить, связующая нас с Жизнью, – говорила Милена. – И мы ее истираем, делаем все тоньше и тоньше. Стоит ей порваться, как мы все умираем, и мир забираем с собой. И вот мы сейчас ту ниточку изнашиваем, делаем все тоньше и тоньше.
Милена, широко улыбаясь, смотрела на обступивших ее друзей.
Руки у нее сияли лучезарным светом.
– Пойдем обратно, поедим, – уговаривала Сцилла. – Ты же совсем ничего не ешь. – Голос ее перехватывало.
– Тебе ни разу не хотелось, чтобы тебя вые…ло дерево? – Милена снова хихикнула.
– Милена! – предупредительно шикнула Сцилла, незаметно указывая на сидящего рядом мальчика.
– Они, деревья, такие большие, красивые, сильные…
– Питерпол! – умоляюще позвала Сцилла, оборачиваясь за помощью.
– Слушай меня, слушай, – сказала Милена, катаясь головой по траве. – Я не хочу умирать, но и вируса их мне тоже не нужно. Я не хочу жить вечно. Здесь – не хочу.
Она сложила пальцами подобие конуса, горящего как угли, и постучала себя по сердцу. До этого она не понимала, отчего ее тело перебарывает лекарства.
– Этого достаточно, – сказала она, указывая на облекающий ее со всех сторон свет и на то, что скрытно чувствовалось за ним, за жизнью.
– Да что ты будешь делать, – в отчаянии воскликнула Сцилла, – одни косточки!
Вместе с Питерполом они подняли легкую как перышко Милену.
«Дайте мне остаться в саду», – думала Милена, растерянным, сбитым с толку взглядом провожая траву у себя под ногами. Свет, исходящий у нее от рук и лица, пошел на убыль.
«Не забирайте ее! – крикнула Милена Вспоминающая Питерполу и Сцилле. – Не давай им этого делать! – крикнула она Милене-режиссеру. – Ведь это же твое. Это то, чего ты добилась сама. Ты вернулась! Это все наяву! Они сейчас снова все заберут! Не упускай же, удерживай!»
Ее доставили обратно к стулу и бережно опустили на него. К общему удивлению, маленький Берри вскарабкался Милене на колени и обнял ее, а Милена, подняв свои слабые руки, опустила их ребенку на плечики.
Все вокруг опять стало плоским, одномерным.
– Думаю, это у нее просто спросонья, – с надеждой сказала Сцилла Майку. А сама взглядом предусмотрительно стрельнула в Питерпола: «Не вздумай говорить ему что-нибудь другое».
«Это был всего лишь вирус, – решила Милена. – Красивый вирус. Но его действие уже проходит. И было это не на самом деле. Почему вирусы бывают такими красивыми?»
Она чуть отстранила Берри от себя, чтобы лучше разглядеть. Вот он, сын Бирона, его дитя – сын ее друга. С огромными круглыми глазами, непропорционально большими на детском лице. Серовато-синие и контрастно светлые на лиловатой округлой детской мордашке. Берри, которого ей хотелось опекать. «Но я не могу тебе помочь и не могу защитить тебя. Ведь меня рядом с тобой уже не будет».
Солнце скрылось за налетевшим облаком, и свет потускнел. Все опять сделалось серым. Так что, получается, причина видения – лишь солнечный свет и лихорадочное возбуждение, ничего более. «И тем не менее все это, когда происходило, казалось по-настоящему реальным. Вот тебе и эйфория».
Берри вдруг насупился и, отодвинувшись, сел. Затянул шнурок своей ковбойской шляпы и, завозившись, с решительным видом слез у Милены с колен.
– Ну что, – сказала Милена, – пора подаваться к дому.
А на обратном пути за разговором Нюхач Эл неожиданно ей сказал:
– Это был не вирус, Милена. В смысле – то, что ты видела. Это была ты сама.Оно исходило из тебя.
Глаза у него были красноватые, будто после вспышки яркого света.
Милена, остановившись, еще раз оглядела сад, деревья и снова попыталась представить себе свет. Деревья впечатляли своей красотой, но это были уже взрослые деревья и взрослое небо.
– Давай-давай, – с улыбкой поторопила она Майка Стоуна, – догоняй.
СПУСТЯ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ пришла Принцесса и, напевая мелодию из «Мадам Баттерфляй», сообщила Милене, что какое-то время приводить с собой Берри она не будет. Она сама должна понять.
– Это его пугает, – пропела она пристыженно. – Ты мне его пугаешь.
Тем не менее у Милены оставалась память о милостиво раскрывшей свои объятия траве. И о ласковых деревьях, могучих, молчаливых и нежных, как рыбаки из неведомых прибрежных деревень. Об упругих счастливых облаках и о птицах, летящих неведомо куда. Обо всем этом, возносящемся благодаря дыханию мира. Там и тогда, но не сейчас.Она различала это лишь в памяти.
И Милена Вспоминающая поняла. Тишина и свет были единым целым.
Глава девятнадцатая
Собачья латынь (Аудитория вирусов)
«ЖИЗНЬ – ИСТОРИЯ», – говорили философы. По их представлениям, жизнь зиждется на том, что, подобно им самим, основывается на наборе готовых решений. И таким образом они выносили жизнь за скобки самой истории.
«Мозг действует подобно компьютеру», – в один голос утверждали писатели, работавшие в научно-популярном жанре, когда казалось, что мир способны изменить компьютеры. Они подразумевали, что нервные импульсы воздействуют на одно ответвление нервного узла в противопоставлении другому. Некие «да» и «нет», коды из нулей и единиц, которые они могли трактовать по своему усмотрению (чем, собственно, и занимались), получили у них название «бинарных». Хотя, что составляет живую память или как можно воссоздавать в памяти звук, свет или даже тишину, внятно объяснить они не могли.
«Мозг действует подобно набору вирусов», – заявил полтора столетия спустя Консенсус, когда уклониться от вирусов было уже сложно.
Необходимость упрощать и представлять вещи в незыблемой последовательности, а также слепая приверженность истории сделали его заложником сиюминутности – того, что происходит в данный момент.
«Время – деньги», – сказал отец Ролфы в последнюю ночь представления «Комедии». Он имел в виду, что нынешняя молодежь в Семье стала непозволительно вялой и расхлябанной и не видит прямой связи между интенсивностью своего труда и общим богатством Семьи. Зои только что спросила, не пойдет ли он на улицу посмотреть финал оперы Ролфы. Она стояла в дверях подчеркнуто аскетичной комнаты, которую отец именовал кабинетом. Зои была слегка насуплена. Новая должность Консула отца явно не красила. Она делала его пафосным и неискренним.
Сам же отец Ролфы размышлял: как все же странно, что из всех его детей именно Ролфа оказалась в итоге самой близкой ему по духу. Даром что безусловно понимала, что опера эта – не что иное, как восхваление Сусликов. Как и то, что есть на свете вещи поважнее всяких там опер – например, работа. И ведь надо же случиться так, что именно Ролфе пришло в голову создать листы временного учета. Каждый час работы одного из членов Семьи приносил предположительно сорок франков (четыре марки). Что, согласно листам, означало: каждый час его простоя тоже составляет четыре марки.
Должность Консула Семьи отец занял с началом периода Восстановления. У Семьи этот период значился как Ужесточение. Теперь у Сусликов снова появился свой металл.
Время – не деньги. Деньги – это просто деньги. Они – некое обещание, залог, и ничего более; эдакий уговор не сомневаться.Деньги – это, например, обмен железной руды на обещания. Скажем, Семья нынче получала меньше обещаний взамен на свою антарктическую руду, однако временные листы по-прежнему свидетельствовали о наличии богатства. И это радовало. А поскольку деньги не более чем обещание – некая абстракция, – Семье отчасти удавалось уверять себя в собственном богатстве. Отец Ролфы сидел за своей жужжащей машинкой и смотрел на столбцы цифр, представляющие чистой воды суеверие. Деньги реальны в той же степени, в какой реальным бывает любое суеверие. Не менее действенны, чем, скажем, боги древнего Шумера. Шумерские боги также были средством обмена – они являлись мифическим олицетворением товарных запасов. И тоже были уговором не сомневаться.Но боги низвергаются, а мифы развеиваются.
Зои покачала головой.
– Пусть хоть один из нас сходит посмотреть, – сказала она. При этом она думала о Ролфе, лишенной возможности видеть «Комедию» под чистым небом Антарктики, где не бывает облаков. А также о Милене и о странностях жизни.
– Рыбка, – пробормотала Зои себе под нос.
Отец был занят сведением баланса. Любые подсчеты, выражены ли они словами или числами, символизируют значение в той лишь степени, в какой входят в рамки внимания считающего. Бухгалтерия отца в рамки внимания Зои решительно не входила. Они разговаривали на разных языках.
Когда Зои отвернулась, с черепичной крыши над ее головой степенно слезла кошка. Лондон наполнился множеством кошек: одни кочевали с места на место, другие нализывались в подворотнях, третьи нагибались над кормушками с едой. Иные просто валялись на прохладных к исходу дня тротуарах.
Под крышей общего жилища Семьи в нескольких кухнях готовили еду семь женщин и двое мужчин, машинально нарезая овощи или невидяще глядя на кипящие кастрюли. Внизу перед видиком сидели восемь Гэ-Эмов подросткового возраста. Каждый стоил Семье две условные марки в час (время подростков шло по половинному тарифу).
В домах по другую сторону улицы лениво водила пилочкой по ногтям жена партийного работника. Еще одна домохозяйка – в другой квартире – занималась обивкой кресла. Одна супружеская пара занималась любовью; другая дралась; кто-то в это время протирал тряпицей фикус. Снаружи на улице толкали навстречу друг другу тележки торговцы кофе. Один направлялся на Найтсбридж, другой домой. Они, улыбнувшись, кивнули друг дружке в знак приветствия. Между кофейщиками сейчас царили весьма душевные отношения, с той поры как народ благополучно подсел на кофеин. В конце улицы Ролфы, там, где заканчивалась терраса, пролегал бурлящий, шумный за счет оживленного движения проспект. Волоча зад, сворачивал за угол омнибус, пуская струю спиртового выхлопа. Женщина на тротуаре, скорчив брезгливую мину, прикрыла при этом лицо шарфом. В сгущающемся сумраке ей из подворотни приветственно помахал бутылкой прокаленный солнцем забулдыга.
Лавки на углу закрывались раньше обычного. Кругленький лысый человек лет девятнадцати, но уже со всеми признаками солидного среднего возраста закрывал на окнах бамбуковые ставни. Ночной торговли в эти дни, когда с темнотой начиналась опера, фактически не было. Лысый, видимо, проживал с другими семьями в комнатах второго этажа, над лавками. На крыше жена лавочника вместе с остальными домочадцами расставляла сейчас грушевидные пуфы и столы, куда приносилось угощение на предстоящие посиделки.
В паре миль отсюда к реке стягивались рыбаки. Там сейчас на пустыре разжигались костры, и народ сходился на последнюю ночь оперы. В парках сооружались специальные бамбуковые платформы, куда «Комедия» должна была транслироваться в случае плотной облачности. С погодой во время трансляции везло не всегда, но этим вечером небо было по-осеннему высоким и чистым. Тем не менее техники были наготове и сейчас заканчивали проверку оборудования. В воздухе трепетно вспыхивали и гасли голограммы гигантских роз и человеческих рук. Платформы надлежало использовать в случае приближения теплого и влажного атмосферного фронта. За этим сейчас бдительно следили дрейфующие в вышине шары, готовые, если что, тут же подать предупреждающий сигнал.
Какой-то работяга в Архиепископском парке опорожнял в этот миг бутылку пива. Он как раз запрокинул голову в последнем глотке и увидел наверху первые звезды. Его дружок в данный момент мочился, осмотрительно встав за куст. Вниз по Темзе в направлении больницы Святого Фомы скользил челнок, покачиваясь на волнах, которые гнала идущая мимо пузатая баржа. Яркими бликами дрожали в воде больничные огни.
В двухстах девяноста двух больницах Лондона в данный момент шли роды примерно у полусотни женщин. Вот одна из них, закусив губу, с триумфальным криком вытолкнула наружу головку ребенка. Новорожденного должным образом приняли и легонько шлепнули по попке, отчего тот запищал. Запищал он как раз в тот момент, когда Зои повернулась к входной двери; когда кивнули друг дружке кофейщики; когда ржущий в пабе алкаш, поперхнувшись, повалился вдруг на пол, смахнув со стойки кружки: у него отказало сердце. А в угловой кафешке, среди кухонного грохота сковородок и кастрюль, двенадцатилетний поваренок в этот момент обварился кипятком. Как раз тогда, когда в соседнем квартале человек на балконе закончил устанавливать свое любимое кресло и расположился на нем в ожидании небесного представления. Именно в тот момент, когда через этаж от него перетаптывался с ноги на ногу в передней молодой человек, замирая сердцем в ожидании девушки, с которой едва был знаком.
Нет, это решительно невозможно. Невозможно представить или наглядно передать «сейчас»,во всех его бесчисленных деталях и проявлениях. Нам необходимо нанизать его на эдакую нить, в своеобразной имитации череды различимых нами образов прошлого. Имитации того, как мы видим в нем себя. Если пересказывать всю картину в совокупности, никаких слов не хватит. Потому вместо этого мы слагаем рассказы и истории.
«Время – деньги», – сказал отец Ролфы.
– Кем ты сегодня была? – нежно спрашивал Майк Стоун.
Милена сидела на балконе своих больничных апартаментов. Здесь, в этих комнатах, не имелось острых углов. Они были сделаны из Коралла, который рос подобно плоти. Пол балкона сам собой загибался, образуя стенку. Загибалась, переходя в потолок, и верхняя часть стены. Каждая линия смотрелась совершенно естественно, как смотрится ветка на дереве. Стены были оштукатурены, чтобы скрыть специфический запах самого Коралла.
Коралл сжевывал строительный мусор старых больничных корпусов и возводил из них новые, генетически смоделированные строения. Генетический балкон Милены выходил на Темзу. Вдоль реки были пришвартованы заполненные людьми баржи в гирляндах огней. Люди выглядывали и из окон «Веста» – песчаного цвета кораллового отрога за рекой, на том месте, где когда-то стояло здание Парламента.
Как раз внизу тянулся участок набережной, по которому они с Ролфой прогуливались в последний день их совместной жизни. Помнится, Милена как раз тогда подняла голову и поглядела на больницу. Теперь она сама находилась здесь, борясь с болезнью, а широкие тротуары внизу занимали Жужелицы. Они сидели в почтительном молчании и все как один смотрели на Милену. «Ну что ж, – думала она, – пусть сидят: как-никак заключительная ночь „Комедии”».
Вокруг по полу были разбросаны памятные дары ее жизни. Их было не так уж и много. Вот ее попытка оркестровать «Комедию» – тетрадь в переплете, с надписью на первой странице: «Музыка: Ролфа Пэтель / Оркестровка: Милена Шибуш».Вот замусоленный комок войлока, который был существом по имени Пятачок. Вот бумаги Ролфы и кое-что из коралловых украшений, которые купил ей Майк. Подаренная Сциллой бумага, на которой записана музыка, запомненная Почтальоном Джекобом. В керамическом ящичке на подоконнике – травы. Они были выращены на стене Пузыря, и Майк захватил их с орбиты на Землю. Теперь они вянут и погибают.
В желудке у Милены что-то жарко взбухало, а руки и ноги были тощенькими, как лапки у воробушка. Теперь она уже вся флюоресцировала – тусклым оранжевым свечением с яркими прожилками в тех местах, где нервы подходили вплотную к коже. А над плечом успел образоваться большой грибовидный нарост.
О том, что она поправится, ей теперь не врала даже Партия. Хотя партийцы по-прежнему настаивали, что ей еще жить да жить, отказываясь принимать то, что Милена знала сама: а именно, что силы оставляют ее. И чем слабее становилась она, тем сильнее был внутри нее вирус сопереживания.
– Так кем ты сегодня была? – спросил Майк Стоун.
– Я была… – Милена сделала паузу – что поделаешь: устоявшаяся актерская привычка, – помощницей кастелянши, там внизу, в прачечной. Кажется, той, что пониже, в паричке. Я была очень усталой – у меня же плоскостопие, – но мне придавала сил любовь к Фло. Ты же знаешь Фло, он еще постоянно говорит «Хэлло!» Может, я сама об этом толком не догадывалась, но Фло делал мою жизнь так или иначе осмысленной. Мы просто болтали, укладывая полотенца и простыни, из-за которых у нас на руках от мыла не сходила сыпь. Семья Фло живет где-то на окраине, ты не знал? Что за место, я толком не разобрала: то ли Оксбридж, то ли Бокс-бридж…
– Аксбридж, – подсказал Майк. – Это на западе.
– Никогда в такую даль не ездила, – вздохнула Милена.
– Ну почему. А когда выезжала к месту старта, на Пузырь?
– Так то на Биггин-хилл, – заметила Милена.
– Все равно довольно далеко от города.
– Так то к югу.
– А, ну да.
Майк Стоун устало смолк.
– А потом, – продолжала Милена, – я стала девчушкой с баркаса. Я была девятилетней девочкой, помогавшей матери на баркасе. Бегала туда-сюда босиком по деревянной палубе и не боялась заноз, потому что пол надраен мастикой. А по бортам у меня торчало несколько удочек, которые я то и дело вытаскивала в надежде поймать форельку или лосося. Мне еще ни разу не доводилось поймать лосося. И я просто умирала от желания его поймать. Странно, правда же? Страстно желать лишь того, чтобы поймался на удочку лосось. Но было именно так. А между делом я помогала управляться с парусами, проверяла румпель. И свистела свою собаку. Она у меня молодец: ни разу не поскользнулась, не свалилась за борт. А мама у меня пела.
Милена, погруженная в иную жизнь, прикрыла глаза.
– Из нее получится славная нить, – сказала она. Милена с Элом ткали гобелен, вплетая в него тех, кому она сопереживала. Он у них назывался «Лондонской симфонией». В него ввивался еще и музыкальный орнамент, на музыку Воэна-Уильямса.
– Гобелен, конечно, очень красивый, – сказал Майк Стоун.
Ткань висела в воздухе, чтобы ею любовались все, обладающие способностями Терминалов или Нюхачей. Майк Стоун Нюхачом не был.
– А Хэзер тебе не помогала? Не была при этом? – спросил он.
Милена пошевелилась в кресле.
– Хэзер всегда где-то рядом.
Время от времени Хэзер появлялась, она была чем-то вроде противовеса сочувственным видениям. Милена иногда ее допускала, пообщаться с Элом. Он ведь не сможет с ней поговорить, когда Милена умрет; ведь она заберет ее с собой.
– Она вам в помощь, – сказал Майк таким тоном, что можно было подумать: он и вправду все понимает.
– Ты-то откуда знаешь? – повелительно спросила она с подушек, из-под слоя одеял. Одеяла Милена обернула вокруг себя поплотнее и устроилась так, чтобы смотреть непосредственно в небо. Ей было холодно. – Я тут весь день раздумывала, как со всем этим быть. – Своей птичьей лапкой она указала на разбросанные по полу вещи. – Это все в основном Ролфы. Надо будет, чтобы бумаги перешли на хранение к ее сестре Зои. Заметь, не кому-то там из их семейства, а именно Зои. Ты понял?
– Да, – промямлил Майк Стоун, прислонясь к притолоке балконной двери. Он предпочитал не сидеть, а стоять. А также проводить время не в одной комнате с Миленой, а в смежной. Он чувствовал, что своим присутствием ее раздражает.
– Бумага, на которой написана музыка, – не партитура, дурачина, а ноты; да вот же, вот же они! Их отдать Сцилле, и никому больше. Музыку эту запомнил Джекоб, а Сцилла добыла для меня бумагу, вещь по тем временам неоценимую. А это – крестик Джекоба, и я хочу, чтобы он перешел к тебе.
– Спасибо, – прошептал Майк Стоун.
– Ну чего разнюнился, – сказала Милена. – Выпить хочу. Виски. Чистого, неразбавленного.
Милене казалось, что она прожила жизнь, опекая других. Пускай теперь и за ней поухаживают.
Майк Стоун, шаркая, заколыхал разбухшими бедрами в сторону кухни. Это шарканье Милену просто бесило. Он что, не может поднимать ноги хотя бы на миллиметр? Жар распускался в желудке зловещим бутоном и внимания к себе привлекал уже не меньше, чем поздняя беременность. Милене последнее время неоднократно снилось, что она рожает чудовищ.
– Шевелись! – крикнула она, внезапно свирепея. Ей еще никогда так не хотелось выпить.
И тут во внутреннем ухе жарко прошелестел похожий на вирус голос: «Бог определенно был самогонщиком».
– Ты что-то там сказал? – громко спросила Милена.
– Нет, – донеслось из кухни вместе с шарканьем.
– Начнется уже вот-вот! – Милена теряла терпение. Песнь Тридцать Третья. Данте с его чертовыми звездными номерами. Того и гляди, в них запутаешься.
«Шарк-шарк, топ-топ». Ну куда он там запропастился?
– Тебя за смертью посылать, – язвительно сказала она, физически чувствуя, как лицо у нее скукоживается, будто старый башмак, на который попала соль со снеговой каши зимнего тротуара. Ей хотелось думать и излагать мысли приятно и красиво, но не было времени. Хотелось шагнуть вспять и обозреть свою жизнь целиком, но этого не давал сделать целый сонм разных раздражающих мелочей, эти одеяла, эта боль и истома, которые грызли, как мыши. Точнее, как те клещики, что сейчас сглатывали последние крохи ее жизни.
– Спасибо, – сказала Милена, принимая стопку, и, поджав губы, вдохнула запах виски, а затем глотнула. Стоило пригубить, как язык защипало, и она закашлялась.
– Тебе удобно, родная? – спросил Майк. Как же он медленно волочится; валун и тот двигался бы быстрее.
– Да удобно мне, удобно. Садись давай, а то еще ушибешься ненароком.
А что вообще в итоге приплюсовывается к жизни? Набор воспоминаний – хаотичных, разрозненных, скрытых так глубоко, что по большей части уже и не всплывают на поверхность? Особой отметины после человека в общем-то не остается. Ну, какие-нибудь предметы для раздачи да горстка пепла, которая развеивается над любимым местом. Пепел самой Милены должны будут бросить в реку.
Сделав еще пару мелких глотков, Милена почувствовала, что ее мутит, и отставила стопку.
«А было время, ты пила только чай», – сказал голос.
– Что хочу, то и пью, – отрезала Милена вслух.
– Что-нибудь еще принести, родная? – спросил Майк Стоун.
– Да не надо мне ничего, – отозвалась она раздраженно. – Ты же мне уже притащил. Кстати, не виски, а дерьмо. Не суррогат, часом?
Майк завозился на стуле, пытаясь встать.
– Да сиди ты! – сорвалась на крик Милена, при этом сердясь на собственную несправедливость к Майку. – Сиди!
«Не надо было пить эту гадость», – запоздало пожалела она, чувствуя, как сверху словно опускается тяжкое бремя, вдавливающее ее глубже в кресло. Ощущение было такое, будто кресло приходит в движение на манер центрифуги. На редкость жуткое ощущение. Милена, сопротивляясь, собрала в кулак всю свою волю.
Сжав губы, она, дернувшись, оторвала голову от подушки.
– Ну почему не начинается-то? – воскликнула она.
Внизу зашевелились Жужелицы. Что странно, разговаривали они при этом вразнобой, не в унисон.
Майк Стоун, что-то вспомнив, с трудом нагнулся и поднял с пола замусоленный комочек войлока. Куклу он пристроил Милене на живот. Милена начала привычно поглаживать Пятачку уши. По вечерам они всегда смотрели «Комедию» вместе, как будто Ролфа при этом отчасти была по-прежнему с ними.
В небе зазвучала труба. Начиная с июня, с интервалом через день, она возвещала начало очередной Песни.
На горизонте северным сиянием ожили зыбкие сполохи чудесного света.
И вот, словно новая планета, взошла и развернулась на небе очередная панорама «Комедии». Каждый вечер в начале представления проигрывалось окончание предыдущей Песни.
Зрителю предстал Данте, как бы взбирающийся по краю мира. В предыдущей Песни он проходил самый верхний круг Чистилища, сквозь огонь, очищающий души тех, чьим единственным грехом была любовь. По кругу в направлении, противоположном движению всех остальных, следовали приверженцы однополой любви. «Грех Цезаря», как это называл Данте. Грех любви был грехом наивысшего порядка, то есть тем, что нуждался в искуплении в последнюю очередь. Любовь исходила пламенем, и наступало восхождение в земной Рай, Эдем.
Здесь, в Эдеме, Данте испивал вод Леты, и память его очищалась от греха. Утрата памяти даровала ему свободу.
– Не надо было мне пить то виски, – произнесла Милена вслух. Жужелицы загомонили еще оживленнее. Они о чем-то спорили. «Она хочет его увидеть!» – выделялся среди гвалта высокий женский голос, не стесняясь того, что мешает наблюдать зрелище.
Данте восходил, а вместе с ним в Рай попадал и зритель. Небо наверху заполняли древесные кроны. Эдем оказался Архиепископским парком около Ламбетского моста.
Это был парк в том виде, в каком его запомнила Милена в день своего рождения. Под плавное течение музыки Ролфы деревья вбирали и источали свет. Но теперь там было еще одно дерево, новое.
Оно накладывалось на памятный образ парка, отчего было слегка расплывчатым – огромное дерево с грациозно свисающим занавесом из ветвей и мозаично пестрой корой. Листья напоминали кленовые, только были немного поменьше. И в «Комедии», и на самом деле дерево это называлось Древом Небес. При виде его на глаза Милены безотчетно навернулись слезы – хотя она и не помнила, где могла видеть это дерево раньше.
К Древу Небес была цепью прикована телега уличного торговца. Она символизировала Истину. А у Данте она была символом католической церкви и затем уносилась древним змием в виде дракона. Данный вариант «Комедии» состоял из двух аллегорий – старой и новой, – из которых обе были доступны зрительскому пониманию благодаря вирусам-суфлерам.
Старой телегой завладевали Вампиры Истории и Зверь, Который Был и Которого Нет [30]30
Откровение Иоанна Богослова, 17:11.
[Закрыть]. Кожа у древнего змия матово лоснилась, отражая в своих чешуях мимолетные сцены былого и призрачные лики. Змей символизировал историю, и он же символизировал память. Под взвихрения и раскаты музыки Ролфы он похищал Истину. Так закончилось краткое представление предыдущей Песни. Сейчас должна была начаться новая Песнь, заключительная.