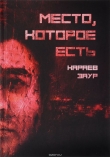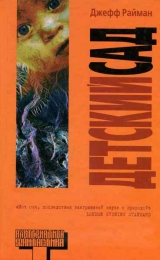
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
– Куда?
– К звездам, – отвечал Боб. – Консенсус хочет, чтобы потом ты стала Ангелом. Он хочет, Милена, чтобы ты несла его образ туда, сквозь галактики, пока у него не произойдет встречи с тем, другим.Помнишь свою давнюю эпопею с вирусами, солнышко? У тебя их не было, они к тебе даже не прививались, но ты работала над собой, чтобы не отставать от тех, кому были привиты вирусы. И потому – пусть силой, пусть упорством, но все же пробилась сквозь годы в Детском саду. Ты сама заставляла себя наверстывать то, что другим вводилось в готовом виде через вирусы. Сама выработала неимоверную емкость памяти и научилась удерживать в ней образы такой мощности, что другим и не снилось.
«Вся история моей жизни. Вся правда обо мне, вся сущность. Теперь на нее хочет наложить руку Консенсус».
– Боб. У меня ничего нет. Ты оставил меня ни с чем. Зачем ты мне это рассказал?
– Затем, что тот, у кого ничего нет, должен хоть что-то получить. Прежде всего эту информацию. Ну, и кое-что еще в придачу. Например, Майка Стоуна в качестве мужа, – хмыкнул Ангел Боб.
ВОТ ТАК МИЛЕНА И ОТПРАВИЛАСЬ вверх, а потом вниз, а потом вышла замуж за Майка Стоуна.
Прыг-скок.
Глава пятнадцатая
Народная артистка (Вся правда)
МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА ТРИБУНУ в саду на Набережной. Рядом сидел ее муж. По другую сторону находилась какая-то столь важная персона, что Милена предусмотрительно забыла ее имя. Стоял июль. Лето было щедрым на продувные ветра, но теплым, наконец-то теплым.
Со своего складного стула она ступила в пространство куба, который должен был увеличить ее и усилить ее голос, превратив Милену в артефакт. Позади нее хлопали на ветру знамена – длинные, с круглыми портретами социалистических героев. Впереди на столбах тоже реяли знамена – алые, из шелка и бархата. Шевеля листвой, словно двигались деревья и скользили тени облаков, как будто весь мир, ожив, вдруг пришел в движение.
Снизу на нее смотрели лица зрителей. Многих из них Милена знала. Некоторых сейчас буквально распирала гордость за нее, а также за себя – ведь они с ней знакомы! На других читалась унылая раздраженность от обязаловки, которая отвлекает их от исполнения важных служебных дел, ну да ладно: обстоятельства вынуждают. Были и такие, у которых за внешним скепсисом угадывалось брюзгливое любопытство: дескать, ну и что эта мышка может такого сказать?
«Что ж, я скажу», – подумала Милена, глядя в небо.
Всюду вокруг стояла тишина. Она буквально ощущала ее кожей. Незаметно для людей тишина и свет менялись между собой местами. Милена посмотрела на землю, спрятанную под наростами зданий и тротуарным настилом. Помимо собственно отведенных им функций, здания и тротуары, казалось, служили воплощением неких идей и идеологий. В этой тишине Милена стояла и улыбалась.
Так она стояла достаточно долго, глядя на алые полотнища знамен, думая о том, зачем их столько, к чему они здесь вообще и что они на самом деле для нее значат. Аудитория начала ерзать. Тем не менее от улыбки Милены, спокойной и уверенной в том, что еще рано что-то говорить, спрашивать, отвечать, публика понемногу стала оттаивать и улыбаться в ответ. Послышались даже отдельные смешки.
– Ну что, – произнесла она наконец. – Вот и я.
Еще одна пауза, сопровождаемая легкими дуновениями ветра, играющего полотнами знамен; звук чем-то напоминал хлопанье крыльев. И Милена поняла, что она хочет сказать.
У нее был заготовлен текст – обстоятельный, с тезисами, поясняющими роль артиста в достижении общих социалистических целей. Этот текст, напечатанный на тисненной золотом бумаге, она сейчас держала в руках. Бумага по-прежнему использовалась редко, по традиции считаясь средством фиксации чего-то сакрального. Копии речи лежали и на стульях аудитории, придавленные для верности камнями, чтоб не сдуло.
У Милены не хватило терпения держать в руках бумагу. И она ее выпустила, легким движением подбросив листы в порыв налетевшего ветра. Игриво кружа, они по спирали взлетели вверх и рассеялись над Раковиной, играя на солнце золотистыми бликами.
– Оп-ля! – проводила их жестом Милена, нарушая заведенный порядок. Публика разразилась смехом.
– Я думаю, – сказала она, – что же все-таки означает термин «народный артист»? Собственно с народом – то есть с людьми – я не так уж часто сталкивалась. В моей жизни всегда главной была работа. Я сама стремилась, чтобы она руководила мной. Меня тянуло укрыться за ней как за ширмой, создать уютный, безопасный мирок, в котором бы я тихо пряталась, как в коконе. Чтобы ни о чем не беспокоиться. И честно сказать, чтобы меня тоже никто не беспокоил. А вышло по-другому. Покоя не получилось, безмятежности тоже. Жизнь сама вынула меня из кокона. И вот она я. Среди вас.
Среди публики послышались негромкие озадаченные смешки. Речь получалась какой-то странной и очень личной.
– Слово «народный» здесь, видимо, означает то, что мой труд используется в политических целях. Чтобы люди при этом чувствовали и думали именно так, как им положено думать и чувствовать. В этом смысле он мало чем отличается от вируса.
Последовал неожиданно дружный взрыв смеха, как будто что-то долго набухало и теперь лопнуло.
– Но в отличие от вирусов я всегда задумываюсь о великих задачах социализма, что бы я ни делала.
Смешки стали более непринужденными, но менее уверенными и короткими: а не попахивает ли от таких речей крамолой?
– Когда мы работали в выездном театре, я считала, что все наши пьесы способствуют тому, чтобы люди проникались любовью к себе и к тому Лондону, в котором они живут. Мне кажется, наш нынешний Лондон не менее интересен, чем в те времена, когда были написаны и впервые поставлены все эти знаменитые пьесы. Я хотела, чтобы все Братства прониклись гордостью и симпатией друг к другу: Риферы, Дубильщики, Буксировщики, Заготовщики с Болот, вообще все. Ведь все мы – неотъемлемая часть Лондона. Хотя, в общем-то, я не ставила перед собой цели, чтобы все люди как один полюбили Крабов размером с десятиэтажный дом.
Снова смех, теперь уже облегченный и благодарный. Нет, игры на грани фола не предвидится, никаких провокаций вроде быть не должно.
– Хотя, в общем, почему бы и Крабов не полюбить. Главное, чтобы они при этом хорошо пели.
Пауза. «Пели»?Что значит « пели»? Уж не намек ли это?
– Те из нас, кто работает в Зверинце, часто неожиданно для себя влюбляются кто в поющих Бестий, кто в других, не менее крупных животных.
Теперь уже это был не смех, а хохот. Но листва на деревьях словно шептала: «Хватит».
– Так можно сделаться чересчур заумным, высокопарным. Нужно все-таки быть естественней; если хотите, относиться к себе проще. Жизнь сама по себе не заумна. Если у нее вообще есть ум, то, можно сказать, за последнее время она из него немного выжила. «Атака Крабов-монстров» была просто развлечением, забавой. Поводом нагромоздить максимальное количество ставших нам доступными голограмм.
«Нам – то есть тебе и Троун», – качнувшись, словно вздохнули деревья.
– Иногда забава оказывается ценою в жизнь. Женщины, с которой я работала над «Крабами-монстрами», с нами больше нет. Женщина, положившая на музыку всю «Божественную комедию», тоже ушла из нашей жизни. Одно время я считала, что это я их обеих уничтожила. Теперь же я думаю, что обвинять себя – это лишь очередной способ подчеркивать свою явно преувеличенную значимость.
Пожалуй, самое социалистическое, самое лучшее из того, что мне удалось сделать, – это добиться от людей помощи нашим больным, вместо того чтобы шарахаться от них, сживать их со свету, а затем сжигать их тела. Мне очень помогли и Мильтон Джон и Мойра Алмази. Однако к званию Артиста это не имеет никакого отношения.
Милена остановилась, очевидно задумавшись над тем, что сказать дальше. И спокойно сказала:
– Так артистка ли я вообще? Я не знаю, что означает это слово. Я делаю, что могу; делаю так, как могу, когда у меня есть какая-то идея. Кстати, неизвестно мне и то, откуда берутся идеи; известно лишь, что у меня самой их нет. Я подразумеваю при этом то «я», которое – насколько я знаю – ими толком не располагает. Оно все пытается их придумывать, но они не приходят. Похоже, что идеи являются сами по себе, в свое, удобное им самим время, без моего участия. Поэтому приписывать их себе я на самом деле не вправе. А также нести за них ответственность. Жизнь мне их просто дает или ссужает. Вот вы, мои друзья, сидящие в переднем ряду. Вы давали и продолжаете давать их мне. Вы и этот город. И история, создавшая его и меня в том числе. Так кто же в таком случае артист? Есть ли он вообще?
Она вдруг широко улыбнулась.
– Может, нам бы лучше стоило обменяться этой наградой, здесь и сейчас. Просто потому, что мы здесь собрались. Единственная возможность стать Народным артистом – это быть собой, насколько это возможно. Только тогда он может взволновать других.
И, обращаясь уже к самой себе, к деревьям и ветру, Милена мысленно произнесла: «Я люблю тебя, Ролфа. Я хочу жить с тобой, спать с тобой. А не могу. Не могу и сказать этого вслух. Сказать им это – значит раскрыть всю правду. А как можно рассказать всю правду целиком? На это не хватит ни слов, ни времени».
Зал еще не остыл – смешки стихли не до конца.
– Может, это и не вся правда целиком, – повторила она вслух. – Ведь если б я попыталась рассказать всю правду, мне бы и слов не хватило. – Она беспомощно пожала плечами. – Спасибо.
Ей аплодировали искренне и радостно. Сцилла, Принцесса, Питерпол, Мойра Алмази – вот они, все встали. Мойра хлопала и улыбалась, слегка выпятив челюсть. Сцилла лучилась улыбкой так, что ей едва хватало лица. Питерпол аплодировал с серьезным видом, твердо глядя ей прямо в глаза. Толл Баррет, хлопая, легонько кивал, как бы в знак согласия. Даже Чарльз Шир и тот хлопал.
И тут у Милены в голове словно шевельнулся малюсенький крабик.
«А у тебя здорово получается задвигать речи, Милена. Этим можно пользоваться».
И еще один голос – низкий и негромкий:
«Ты сейчас смотрелась лучше, чем есть на самом деле. Кто бы мог знать».
Спокойная и непринужденная внешне, она стояла в легкой растерянности, скромно потупив взгляд. Может, это и преувеличение, что спесь и гордыня губительны для таланта, но кто знает. Так что лучше постоять со смиренным видом. Такая вот тактическая уловка. Милена эксплуатировала себя столь безудержно, что иной раз приходилось ограждаться от себя самой.
Интересно, от скольких собственных сущностей, от скольких голосов?
«Будь проще, Милена. Вот оно, солнце, вот аплодисменты, и свет, и тишина».
Глава шестнадцатая
Дружбе конец (Мертвые Пространства)
МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА, как она шла к больнице Святого Фомы. Ее сопровождал санитар. Рослый, лет семнадцати, спокойный и улыбчивый. Она вспомнила его гладкие пурпурные щеки, ясные глаза – само воплощение здоровья. Он шел непринужденной, размашистой походкой, в ладу с собой и с миром.
– Здесь, наверное, обойдем вокруг, – сказал он, когда они пересекали дорогу. Милена невольно любовалась его ровными жемчужно-белыми зубами и золотистыми локонами.
– Как вы догадались послать за мной? – спросила она. – Она вам сказала?
– Терминалы сообщили, что она имеет отношение к празднованию Столетия и что вас надо искать на Болоте.
Санитар открыл дверь, и они вошли в Барьерный риф.
Больница полна была туннелей и отсеков, напоминающих естественные пещеры. Стены Рифа мягко фосфоресцировали – чтобы здесь всегда было светло и умирающие не просыпались в темноте со страхом, что их уже больше нет на свете. Раковый Корпус – так называли это место. Здесь держали пациентов, умирающих от того, что у них не было рака.
В каждом из отсеков лежало по три-четыре человека, как молодых, так и тех, кому уже лет по тридцать–тридцать пять: быстро угасающие люди, в одночасье сбитые болезнью. Ни с того ни с сего эти люди вдруг начинали терять вес, а по мере отказа иммунной системы подхватывали целый букет всевозможных заболеваний. Один за другим у них атрофировались и отказывали органы: сердце, легкие, печень, почки.
– Это что, эпидемия? – спросила Милена, стараясь говорить тихо.
– Этому явлению пока еще и названия нет, – отвечал ей эталон здоровья, придерживая дверь, чтобы она вошла. Милена почувствовала слабый, но внятный в своей удушливости запах болезни, а также лекарств, сырых бинтов и дезинфектанта.
Медики пока еще не могли совладать с кодом Леденца, блокирующего гены, отвечающие за рост и созревание клеток. Они по-прежнему пытались изыскать способ синтезировать создававшиеся раковыми клетками белки, способствующие продлению жизни. «Мы не задумываемся, – размышляла Милена, – а точнее, просто гоним от себя мысль, что не доживаем и до половины срока, причитающегося нам от природы.
Исключение составляют разве что Кадавры, и Люси в том числе. Эти и рады бы помереть, да все никак не могут».
– А что случилось с Люси? – спросила Милена. О ней ничего не было слышно уже несколько месяцев. Наверное, и вправду дела плохи.
Санитар на ходу пожал плечами.
– Да ничего такого. Она поправляется.
– Да, но от чего?
Тот лишь опять пожал плечами.
– Да как сказать. – Он добродушно улыбнулся. – Не то от старости. Не то от человеческого состояния. Потому как она постоянно… не то не в себе, не то… слишком уж в себе, что ли. Хотя ничего сверхъестественного в этом вроде бы и нет.
«Сверхъестественного?»
Сопроводив Милену до конца коридора, он кивком указал на вход в палату, словно представляя ей пациентку.
«Эх, эталон, эталон, – вздохнула мысленно Милена при виде этих свежих улыбающихся щек, – и тебя не минует чаша сия».
И вошла в палату.
Кроме Люси, здесь никого не было. Она сидела в кровати. Милена уже в первую секунду, с порога, заметила, насколько разительно она изменилась.
Люси держалась спокойно, с достоинством, даже с некоторой величавой строгостью. Волосы у нее уже не были оранжевыми. Они были цвета сухой, пыльной земли; потемнели даже их корни. Более гладкой и упругой выглядела теперь ее морщинистая старческая кожа, совсем не такая, как прежде.
Люси взглянула на нее с затаенной улыбкой, и что-то в ее взгляде подействовало на Милену так, что у нее перехватило дыхание.
– Я тебя знаю, – произнесла она.
– Привет, Люси, – сказала Милена. Ее словно застигли врасплох. – Как ты тут?
– У тебя нет времени, – заметила та все с той же строгой улыбкой. Отвернувшись, она посмотрела в окно на реку. – У тебя нет того времени, которым располагаю я.
Люси потерла ладонью о ладонь, и кожа в том месте, отслоившись, скаталась колбаской, как бывает иной раз после солнечного ожога. Новая кожа под ней была бурой, плотной и пористой, без каких-либо морщин или линий. Хироманту здесь делать нечего – он не прочтет решительно ничего. Милена смотрела на Люси в профиль.
Он чем-то напоминал древнеримскую монету: черты лица были несколько искаженные, и вместе с тем заостренные, что придавало лицу строптивый вид. «Она похожа на какой-нибудь экзотический корнеплод. А запах, запах от нее какой замечательный. Как от свежего хлеба».
– Однажды, – заговорила Люси степенно, – все возвращается, а ты вдруг оказываешься в другом месте. Скажем, сейчас. Я могу любую карту нарисовать, вот этой самой рукой. Могу пальцами зажечь сигарету. Имей в виду, я не говорю, что все сложится само собой, как мытого хотим. Я лишь говорю, что глаза полые, они могут смотреть яблоками внутрь… и свет идет из глаз внутрь, а никак не наружу. Когда-то все суммируется.
«Заговаривается», – решила Милена.
– …Все суммируется однажды. Складывается воедино – все те мелочи, кусочки. И ты очищаешься. Памяти не остается. Блаженное ощущение. Как в теплой ванне. И ничего больше не надо.
«Или перешла в какое-то иное состояние, – сообразила Милена. – Люси, что ты пытаешься мне сказать?»
– Я высотой двести метров, – говорила Люси. – Вы могли бы укрыться в моей тени, если б только видели мою листву.
Она со вздохом подняла стоящий рядом на кровати поднос. На тарелке находился большой кусок мяса с поджаристо-золотистыми жиринками, а также соус и… мороженое?
Нет – картофельное пюре. Баранья отбивная и горка пюре с ямкой, где находилась мятная подливка. И пара-тройка зеленых шишечек брюссельской капусты.
«Этого здесь сейчас не было, – в замешательстве подумала Милена. – Не было, я точно уверена».
Люси, пожевав, сглотнула.
– Эти маленькие следы идут повсюду, – степенно рассказывала она, аккуратно зачерпывая вилкой пюре. – Первое время их толком и не видишь, пока не побудешь слепым годков пятьдесят–шестьдесят. По крайней мере, я не замечала их примерно столько лет. Как вдруг потом по всей голове у меня ободом прошла боль, и зрение улучшилось. Глаза начинают видеть все лучше и лучше, и все предстает в ином свете. Совершенно ином. А так как зрению тебя не учат, на исцеление уходит время. Чтоб выздороветь, надо вначале ослепнуть.
Она приветственно подняла вилку с порцией пюре.
– И знаешь, чего бы я хотела, – сказала она, жуя. – Посадить себя лет на сто. В почву, как дерево. Питаться, как дерево, солнцем и дождем. Чтоб расправились все эти складки в мозгу. Тогда бы у меня и кости совсем исцелились. Тебе не говорили? У меня ж кости теперь становятся лучше, крепче. И наросты все тоже отслаиваются.
Она говорила без тени лукавства или подвоха. «Она утратила свой старый Лондон, – догадалась Милена. – Сбросила его, как змея сбрасывает старую кожу».
– И еще, – сказала Люси, – я беременна.
При этом она жевала отбивную, которой здесь еще минуту назад явно не было.
– Метастаз. Кусочек от него отслоился и начал расти у меня в утробе. Один шанс из десяти миллионов, но опять же, кто считал, сколько у меня миллионов этих самых шансов? – Она не то хмыкнула, не то усмехнулась. – Сколько нужно, все мои. Моя дочка, она тоже будет раковой. Я уже четко знаю, как буду ее растить. Сорок–пятьдесят лет пускай побудет дитем. Построим с ней плот и будем на нем жить посреди океана. А питаться будем рыбой, которая выпрыгивает из воды, когда ты неподвижно затаишься, слившись с пейзажем. Работой я ее донимать не буду, вообще никакой. Выберем себе пару островков и будем на них жить-поживать в свое удовольствие. А что-то там делать, возиться – зачем оно нам? А когда ей ребенком быть надоест – что ж, сделается чем-нибудь другим, новым. Мы время от времени будем меняться, становиться толще в обхвате, здоровей.
Усердно жуя, отчего щеки у нее ходили ходуном, Люси поглядела на Милену и негромко рыгнула. Спрашивать было не время, но Милена должна была знать ответ.
– Люси, – обратилась она, произнося каждое слово с нарочитой четкостью, как будто бы та частично забыла родной язык. – Помнишь, ты говорила, что готова поучаствовать в опере? В «Божественной комедии»? Говорила, что сможешь сыграть Беатриче? Так вот, ты готова спеть ее вокальную партию?
– У-у-у, – даже в каком-то негодовании протянула Люси и, потянувшись, жестко потерла Милене макушку. – Да ты что, детка моя, – посмотрела она на Милену как на дурочку. – Я ж ее уже записала, ты не помнишь, что ли? В другом времени.
«Тронулась», – окончательно решила Милена. С ней они ничего не записывали; Люси тогда как в воду канула, ее так и не смогли отыскать. Они обе посмотрели друг на друга с жалостью, каждая по-своему.
А Милена Вспоминающая подумала: «Можешь ее жалеть, можешь не жалеть, но ты придешь домой, и окажется, что вся ее партия записана. Ты увидишь, как она поет с Данте, возводя его на небеса. И будешь потом внушать себе, что она каким-то образом умудрилась проникнуть в павильон и все там записать в твое отсутствие. Причем весь актерский состав будет дружно утверждать, что ни разу ее там не видел и вместе с ней не пел. Разве что во сне. Мир не таков, каким мы его себе представляли. И той тарелки с отбивной там на самом деле не должно было быть, и ее записи. Как, может, и всего того мира вообще.
– А ты все такая же, – заметила Люси, качая головой. – Все о чем-то печешься, беспокоишься. Я думаю обо всех вас, – говорила она, снова смотря на Милену взглядом, от которого становилось не по себе, – как о каких-нибудь цветах в моем саду. Да, красивых цветах в саду. Когда вы молоды, тела у вас так красивы, упруги, свежи, полны живительного сока. Так и хочется собрать вас в мою книгу, уложить между страницами, просто чтобы сохранить на память. Но вот потом я открываю ту книгу и с горечью вижу, что вы все высохли, пожухли, утратили цвет.
Люси взяла Милену за руку. Кожа у нее была толстая, эластичная, словно обитая чем-то вроде пенорезины.
– Здесь какая-то ошибка, – сказала она шепотом. – Я бы на твоем месте попыталась вникнуть, разобраться. Знаешь, ты не должна была умереть. Никогда.
И МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА СЕБЯ молодой и полной сил, бодро взбегающей по ступеням Раковины. Не было того саднящего венца на голове, свойственного Терминалам. В ногах невероятная легкость. Она повернула за угол и вспомнила, как наткнулась на бездыханного Джекоба, умершего тем прекрасным весенним утром.
Он лежал, слегка завалившись на бок, с задумчиво приоткрытыми сухими глазами.
Какую-то секунду в ней жила надежда, что это он просто в очередной раз отключился. С Почтальонами такое бывало всякий раз, когда память у них перегружалась.
– Джекоб? – пролепетала она, как будто это могло его разбудить. Надежда растаяла, уступив место нелегкой уверенности. – О, Джекоб, – жалостливо произнесла она.
Взгляд остановился на его ботинках. Он надел в то утро свои старые поношенные ботинки, быстро пришедшие в негодность от беспрестанного хождения по лестницам; с расслоившейся подошвой и дырочкой, опоясанной серыми следами протертости.
«Я еще и тот, кто первым застает вас, когда вы умираете».
«Эх, Джекоб. Вот в этот раз ты ошибся».
Она села возле Джекоба на лестницу и взяла его за руку. Рука была все еще мягкой и влажновато-теплой. Нельзя сказать, что ощущение было неприятным – просто требующим некоей осмотрительности, как запах какого-нибудь незнакомого экзотического фрукта, который предстоит попробовать.
Из его ладони в ладонь Милены выпало маленькое золотое распятие на порванной цепочке. Вышло так естественно, будто Джекоб сам его ей передал. Милена взглянула на лопнувшую цепочку. Он, должно быть, схватился за крестик, словно тот мог его удержать. Видимо, он чувствовал приближение смерти, как чувствуют все тяжелеющее бремя. Схватившись за крестик, Джекоб удерживал его, пока не лопнула цепочка и он не упал.
В том, что ты христианин, ничего зазорного не было. Просто считалось, что ты бесхитростная душа. Золотым распятием Джекоб обзавелся явно не сам. Оно наверняка передавалось из поколения в поколение, из одной умирающей руки в другую. Кому же собирался передать это распятие сам Джекоб? У него была крохотная каморка на первом этаже, с печуркой и узкой койкой. Женат он не был. И всю свою жизнь работал на износ, пока не сгорел. И каким-то образом у Милены сложилось иррациональное непоколебимое убеждение: «Это распятие предназначалось для меня».
Она погладила Джекобу голову, словно касаясь всех тех памятных посланий и отзывчивой доброты, что были в ней заключены. Ей не хотелось оставлять его, хотя по инструкции надо было незаметно вызвать дежурных по этажу, которые бы оперативно связались с похоронным бюро. Нет, она останется здесь. Останется, и будет присутствовать при всех процедурах, связанных со смертью Почтальона Джекоба.
Ухватив за лодыжки, Милена оттащила его из угла на середину лестничной площадки, где, казалось, ему должно быть поудобнее. Уложив там Джекоба, она скрестила ему руки на груди.
«Так мы с тобой, Джекоб, и не поговорили. Так и не успела я тебя расспросить о том, каково это – водить знакомство с таким количеством людей, держать столько информации в голове. Однако я догадываюсь, что это все равно что чувствовать, как тебя давят, душат своими беспрестанными требованиями.
У меня, Джекоб, требований оказалось больше всего. Я не помню, чтобы ты хоть раз обращался с требованиями ко мне.Поэтому я буду просто сидеть здесь с тобой, Джекоб. И уделю тебе хоть немного времени, которого ты заслуживаешь; хоть чуть-чуть времени на понимание того, чего тебе это стоило – продираясь сквозь время и расстояние, спешить по Раковине раз за разом, из комнаты в комнату, постоянно напоминая людям о долгах и репетициях, о свиданиях и чтобы они не забыли вовремя принять лекарство. Молился ли ты в тиши по ночам? Ходил ли ты в церковь – ту самую, где задорные спиричуэлсы веселили твое больное сердце, отгоняя на время печаль? Есть ли специальная церковь для Почтальонов? А те приступы, от которых ты терял сознание и отключался?
Люди рассказывали, что тебя не раз перезагружали после отключения. Почтальоны отключаются лишь тогда, когда работают не щадя себя. Ты отключался трижды, Джекоб; трижды твой мозг переполнялся так, что мог лопнуть. Ты мне рассказывал, что это подобно умиранию. Что каждый раз при этом ощущение такое, будто разум меркнет и холодеет часть за частью, словно город, где выключается освещение. Тогда тебе давали вирус, который приводил тебя в чувство и заново пояснял, кто ты и кто твои клиенты. И снова за работу. Трижды ты начинал заново, но свежее от этого не выглядел. Возле глаз у тебя всегда были глубокие, скорбные морщины от смертельной усталости.
Что я могла тебе сказать, Джекоб? Чтобы ты внимательней следил за своим здоровьем? У них были вирусы, пожирающие память, от которых Почтальон приходит в себя пустым и открытым для новой информации. Но ты был слишком занят нами, своей заботой о нас. Чем мы заслужили такую заботу, Джекоб? Ведь мы же ничего, ровно ничего для тебя не делали – ну разве что соблюдали правила элементарной вежливости: «здрасте», «до свидания».
Я рада, что не видела всего этого, Джекоб. Говорят, ты ползал на четвереньках. Когда начинались приступы, ты ползал и пена выступала на губах. Ты рвал на себе волосы. Ты боролся, рассказывали мне. Ты корчился, пытаясь пересилить нестерпимую боль. Ты выл: «Нет, не-ет!» и рвал на себе рубаху – нежный задумчивый Джекоб, живое воплощение учтивости и сдержанного достоинства!
И вот, получается, этот последний приступ тебя добил. Ты умер во время очередного отключения, Джекоб. Так в чем же здесь смысл?
А смысл в том, я считаю, что ты был унижен. Твой ум. Твой драгоценный ум швыряли почем зря туда-сюда, как фаянсовый горшок, подлаживая его под чужие цели. Но ты приноравливался, ты всякий раз приноравливался. И находил в жизни те радости, те отдушинки – уж какими бы крохотными и скудными они ни были, – те немногие светлые моменты, которые тебе отпускала жизнь. Радость от осознания того, что ты приходишь ко многим людям, и им от этого хорошо, и ты им нужен, что тебя по-своему признают; радость от близкого знакомства с таким множеством людей.
Но и это у тебя отнималось – и знание и память. И ты был вынужден начинать заново, изнуренный, полумертвый, карабкаясь по этим постылым ступеням.
– Доброе утро, Милена.
– Доброе утро, Джекоб.
– Как у вас нынче дела?
– Замечательно, Джекоб, замечательно.
– Прекрасная погода, Милена, не правда ли?
– Не совсем, Джекоб. Холодновато как-то.
– О да, холодновато, Милена, но, в общем-то, и тепло.
– У вас есть ко мне какие-нибудь сообщения, Милена?
– У вас есть ко мне какие-нибудь сообщения, Милена?
– У вас есть ко мне какие-нибудь сообщения, Милена?
– У вас есть ко мне какие-нибудь сообщения, Милена?
Только одно, Джекоб, только одно. Ты заслуживал лучшей доли, чем в конце концов упасть вот так, мусорным кулем, в заношенных ботинках и своем единственном старом костюме, а никто и не спохватится, и не принесет цветов на могилу, и даже не проводит тебя в последний путь. И если в этом есть смысл, Джекоб, если смысл только в этом, то я, черт возьми, должна упираться. Лезть, черт возьми, из кожи вон, опять и опять. Потому что если мы все кончаем подобным образом, то, значит, что-то в этом не так; значит, это какая-то ошибка, и ошибка эта моя».
Милена Вспоминающая вспомнила, что распятие по-прежнему при ней – вот оно, теплое, можно взять его в ладонь и держать.
И передать в следующие руки.
А ЕЩЕ БЫЛ МАЙК, с его педантичной походкой, прямой как стрела спиной. Он зажигал свечи в их доме, их общем доме с уютными запахами еды, которую он готовил, на фоне окна со свинцово-серой водной рябью и с отражением черной завесы дыма от печей крематория.
– Ну чего, чего? – весело допытывалась Милена, которую было нетрудно развеселить, по крайней мере Майку. – Чего ты там удумал? А? А ну рассказывай!
Тонкие губы Майка были сжаты, он с трудом сдерживал улыбку. Он заставил Милену сесть, заставил ее есть, налил ей вина и лишь после этого сел сам.
– Милли, – произнес он. – Я много об этом думал. Нам нужно иметь детей.
«Оп». – Милена отложила в сторону вилку.
– Ну так иди, обзаводись.
Как все тогда было просто, свободно и легко!
– У меня вот какая мысль, – поделился Майк Стоун. – Я подумал, поскольку ты так занята и тебе не нравится секс, то, может, ты бы дала яйцеклетку, а я сперматозоид, а то, что получится, мы бы прикрепили к стенке моего кишечника.
– У тебя это звучит как рецепт в аптеке, – воскликнула Милена, вдруг заволновавшись. – Нет уж, Майк.
– Мне бы очень, очень хотелось. В этом есть смысл.
Милена вспоминала его наивные, по-детски доверчивые глаза.
– Это очень опасно, – напомнила Милена.
– Не опаснее, чем летать в космос. Так что я бы лучше занялся этим. Меня это больше интересует.
«Майк. Ну зачем ты такой… милый? Людям нельзя быть милыми, это опасно. Что, если ты невзначай слишком сильно подчинишься мне? Я этого не замечу, и ты не заметишь. А потом окажется, что слишком поздно».
– Майк. У меня был один друг…
– Я знаю. Бирон. Ты рассказывала.
– Он тоже был милым и смелым. Но у него в итоге, уже при родах, оторвалась плацента. Он истек кровью. Она хлестнула до потолка. А потом остался тот ребенок.
Милена удивилась, какое живое сочувствие вызвала в ней сейчас мысль о том малыше.
– В уговор это не входило. О ребенке должен был заботиться Бирон. А Анна его не хотела, не могла поначалу даже на него смотреть, пока Питерпол не взялся помогать. Вот тебе три разрушенные жизни. Нет уж, Майк, нет.
– Я же не с бухты-барахты, – увещевал тот. – Я спрашивал, консультировался с людьми. Продумывал всякие новые способы, как лишний раз подстраховаться. В том числе и у людей, которые через это проходили.
– Ага, и каждый при этом говорил: «Да не дрейфь, все у тебя будет тип-топ!» А ради чего все это?
– Ради нашего красавца ребенка.
– Я такую ответственность на себя не возьму. Хватит с меня и того, что я видела. Ты думаешь, Бирон по деревьям прыгал, как Тарзан? Он вел себя предельно осмотрительно, и довел дело до родов, и даже уже родил. И тут на тебе, им не удалось удержать плаценту. Один рывок, и всё: кровь хлынула как из бочки, его хватило буквально на несколько секунд.