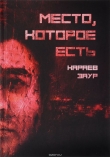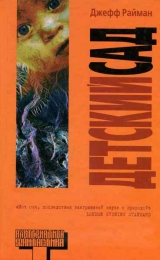
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
Мир на мгновенье погрузился в тишину и темноту.
«Из безмолвия в безмолвие», – произнес голос у Милены в ухе.
– Ты перестанешь болтать или нет! – крикнула она, оборачиваясь к Майку Стоуну. Тот непонимающе на нее уставился. «Это не он», – спохватилась Милена. Но тогда кто? Она прижала ладонь ко лбу.
Послышались голоса. Это были Наяды, поющие на народной латыни, которую называли «собачьей». Вирусы знали: они символизируют семь главных и три библейские добродетели. У Милены они представали в виде реальных людей. «Мы сами себе добродетели».
Тут были Король Билли и Бирон. А еще Гортензия. Рядом стояли Джекоб и Мойра Алмази, а с ними Питерпол, и Эл, и Хэзер. И Смотритель Зверинца. И даже Чао Ли Сунь.
“Deus venerunt gentes” [31]31
“Deus, venerunt gentes” (лат.) —«Боже, пришли язычники» (начало 78-го псалма).
[Закрыть],– пели они.
«Не хочу я сейчас это слышать», – подумала Милена. В голове у нее плыло. Казалось, пению вторят сами стены, сам воздух, а свет рябит, как при мигрени.
Я слишком больна, у меня нет сил терпеть». Можно перебраться внутрь, в спальню, но и там не будет спасения ни от света, ни от звука.
И она вынужденно смотрела, улавливая при этом все огрехи. Вот здесь слишком резкий переход (чуть моргнул фон при переключении). А здесь, в отличие от текста самой «Комедии», псалом пропевается полностью.
Наяды пели 78-й псалом. Насчет того, в каком объеме его петь, не было намека ни у Данте, ни в партитуре самой оперы. Ролфа в том сером фолианте ограничилась лишь скупой ремаркой: «См. постановку псалма».
«Где? Какую постановку?» – постоянно недоумевала Милена. Когда же прибыла оркестровка Консенсуса, псалом там был изложен полностью. Откуда он взялся?
Милена все поглаживала Пятачку уши.
Войлочная кукла совсем уже износилась. Неожиданно под воспевание добродетелей у Пятачка разошлась на спинке молния, и оттуда, к изумлению Милены, выскользнула крохотная черная книжица.
Нечто темное, безмолвное, скрытное. Золотом отливали литеры на обложке: «СВЯЩЕННАЯ БИБЛИЯ».
Рука у Милены флюоресцировала, и в ее свечении вполне можно было читать. Она открыла книжку. «Старый и Новый Завет», – гласила надпись.
А внизу приписка, от руки: «Для аудитории вирусов».
«Боже, боже мой», – прошептала Милена.
Она перелистала страницы. На каждой из них, совершенно микроскопическим почерком, были прорисованы линейки с нотами. До каких, интересно, пределов может доходить у Ролфы эта бисерность? До каких бесконечно малых, бесконечно скрытых величин? Ролфа словно состязалась сама с собой, каждую последующую часть выводя мельче предыдущей.
– Майк! Майк! – закричала Милена. Дрожащими руками она показывала ему раскрытую книжицу. – Майк! Она снова, снова себя показала! Теперь она переложила на музыку всю Библию,разрази меня гром!
Майк, взяв книгу, смотрел в нее с ошарашенным видом. Каждое слово Послания Иакова (где сейчас открыта была страница) сопровождалось нотами.
И Милена поняла: эта книга не единственная. Есть и другие.
– Майк, – сказала она. – Пусть устроят обыск, обшарят весь ее дом. Там обязательно отыщутся другие книги. Весь Шекспир. «Дон-Кихот».
И «В поисках утраченного времени» Пруста. И еще и еще.
Милена откинулась на подушки. Ее опять мутило.
Она, «Комедия», не была предназначена для исполнения. Замысел Ролфы был оригинальней. «Надпись указывала: “Для аудитории вирусов",а я не поняла. Слушать просто музыку – можно помереть со скуки. Ролфа сказала это напрямую, а я, дура, не поняла. Ноты были написаны не для исполнения! Она это сказала и тогда, при нашей последней встрече.
«Комедия» не была новаторской оперой. Она была просто новой книгой.
Книгой, которую читаешь, а вирусы сами тут же кладут ее для тебя на музыку. Как слова, которыми Сати снабжал свои фортепианные опусы, – они служили лишь для развлечения пианиста, а не для декламации на публике [32]32
Эрик Сати (1866–1925) – французский композитор, по мнению многих музыковедов намного опередивший свое время. Любил печатать ноты красной краской и писать к своей музыке абсурдные на первый взгляд пояснения.
[Закрыть].
А спектакль – это все моя затея».
У Милены снова мучительно кружилась голова, как тогда в невесомости. И огненная жидкость в желудке горела огнем.
– Сейчас, наверно, сблюю, – выдавила она.
Майк забарахтался, поднимаясь за тазиком и полотенцем. Но так и не успел.
У Милены, к собственному удивлению, не хватило сил даже снять ноги с кресла. Рвота по подбородку стекла на одеяло и платье. Досталось и Пятачку (будет теперь попахивать срыгиванием не только детским, но и взрослым).
– Ох, Милена-Милена, – сочувственно приговаривал Майк.
– Чертовы Наяды, – ворчала та, не пытаясь ему помочь.
Беспомощно полулежа в своем кресле, она смотрела на Люси. Люси в роли Беатриче, с задумчивой улыбкой поющую старческим голосом:
Modicum et non videbitis me;
Et iterum…
«Вскоре вы не увидите меня;
И опять, любимые сестрицы, вскоре увидите меня».
Люси, канувшая тогда как в воду, неведомо как сумела записать для «Комедии» всю свою партию. Вот такая странность. Очередная странность.
Милена неподвижно лежала, в то время как Майк очищал заляпанное рвотой одеяло. На подобных вещах внимание теперь особо не заострялось. А вот на лице Беатриче оно заострилось. Эта Беатриче успела состариться, и продолжала стареть. Она больше не была красивой – разве что той фактурностью, какую морщины сообщают лицу, подобно тому как время придает монументальность источенному ветрами камню. Она выглядела бессмертной, словно продолжала плыть по волнам времени, превозмогая людские слабости, отбрасывая за ненужностью красоту юности. Королева Дантовой души, его любовь, напоминание о божественном. Суровей скал, глубже самой Земли, не меркнущая в памяти любовь, что восстает вдруг в своем нынешнем обличии на вершине стоящей над лесом горы.
«Нет, люди так не любят, – подумала Милена. – Не бывает так, чтобы на всю жизнь, да еще при этом только в памяти».
«Здесь, на вершине холма в лесу, – послышался голос в ушах, – маленький мальчик будет всегда, всегда играть со своим медвежонком».
– Это не та опера! – вскричала Милена.
И тут появились геликоптеры. Воздух содрогнулся от свистящего шума лопастей, и на землю пала тень, словно материализовавшись из мрака и лунного света. Сине-черные глянцевые машины разворачивались над тротуаром, разбрасывая пыль и вздымая на Жужелицах листву, шелестящую, подобно волне прибоя.
– Оставьте их! – слабым голосом умоляла Милена, не в силах пошевелиться на своем кресле. Жужелицы никому не причиняли вреда; после каждого спектакля они тихо разбредались. Сейчас заключительная ночь; ну зачем вторгаться именно сейчас?
Два геликоптера. Вот они приземлились, упруго подпрыгнув на своих полозьях и оттеснив Жужелиц от тротуаров к ограде и стенам. Лопасти продолжали сечь воздух. Милена чувствовала, как воздух обдает ей лицо, словно она сама мчится на бешеной скорости.
– Майк? – подала она голос, но слова утонули в шуме винтов.
Майк стоял, глядя с балкона.
– Не-ет! – словно выдохнуло людское море снаружи.
– Они схватились! – изумленно крикнул Майк. – Они дерутся с «Гардой»!
– Гау-у-у! – залился у входной двери то ли лаем, то ли воем Пальма, как собака обычно реагирует на звон колоколов.
– Что там? – забеспокоилась Милена, у которой вместе со словами изо рта словно вырвался горячий пузырь.
– Ляг, Милена, ляг. Не беспокойся. Я здесь, с тобой.
«Астронавт ты мой, – горько подумала она. – Да что ты можешь против Консенсуса?»
– Они идут в помещение, – насторожился Майк.
Пальма взвыл еще пронзительней. Вой, сорвавшись, перешел в человеческий крик. В комнату, покачиваясь, на коленях заполз Пальма. И, медленно разогнувшись, неуверенно встал в полный рост. На двух ногах он двинулся к креслу.
– Ми… Милена! – выкрикнул он вполне внятно. – Милена!
Пальма вновь обрел дар речи.
– Пальма, – шепнула она.
Человек с плачем бросился ей в ноги. У нее еще было время погладить его за ушами.
А затем в дверь вошли люди в белых комбинезонах и прозрачных пластиковых масках. Полосуя по темной комнате росчерками фонариков, они с неожиданным проворством направились к Милене. Их подчеркнуто элегантная поступь смотрелась слегка комично. Изящными вкрадчивыми движениями мимов они проворно опутали Милену тенетами. В ноздри вставили какие-то трубочки, в рот сунули прозрачную облатку, отчего у Милены тут же отнялся язык.
– Что вы делаете? – спросил Майк Стоун с какой-то печальной беспомощностью.
Словно из ниоткуда возникли полотняные носилки. Милена – повисшая безвольным кулем, не в силах сопротивляться, с трубками в ноздрях – почувствовала, что ее поднимают. Поднимают и бережно, стараясь не сделать больно, перекладывают на носилки.
– На Считывание, – отозвался наконец один из людей в белом, стоя на одном колене к Майку спиной. – Поймали в последний момент. Но вовремя.
Носилки отнялись от пола медленно, будто сама земля не хотела их отпускать. Один из людей в белом, щелкнув пальцами в резиновых перчатках, кивнул на стул:
– Этого тоже взять.
Голова у Милены по недосмотру запрокинулась за край носилок, и она увидела, как Майка усаживают обратно на его стул. Двое людей в белом уже стояли рядом на коленях, что-то там прикрепляя.
Пальму оттащили за ошейник. Он хрипел и рвался.
– Не уходи! Не уходи! – вопил он вслед.
Рука в перчатке аккуратно подняла Милене голову.
В небе пела Люси, грациозно глядя себе через плечо:
Брат мой, почему бы
Тебе сейчас не расспросить меня?
Фразы лились на языке великого флорентийца.
Милену понесли.
Спуск по больничной лестнице сопровождался надсадным воем Пальмы. Он перестал быть слышен только тогда, когда носилки поплыли под сводами коридоров. Жгуты света от рук «Гарды» стегали по гладкой, обтекаемой поверхности Коралла, отскакивая желтоватыми трепетными бликами. Коралл приглушенно вторил звуку песни. «Комедия» пронизывала его, увязала в нем, звеня эхом людских голосов. Стены резонировали, как топот буйного соседа за стеной. «Какой чудовищный эгоизм, – думала мимоходом Милена. – Просто чудовищный: вот так затоплять музыкой любую свободную щелку, изгоняя тишину, барабаня по головам детей, немощных, больных. Кому это надо? Кому вообще нужны все эти Наяды, эти средневековые аллегории?»
Люди в белом вынесли ее в кромешный ад.
Оклеенные тенетами Жужелицы, извиваясь, бились по больничным стенам, по ограде. Трубки выстреливали свои путы вслепую, оплетая Жужелицам руки и ноги и выволакивая их бесформенной грудой в пятно света, падающее от огромного, поющего с печальной улыбкой лица Люси.
– Милена-а! – потерянно стенали несчастные узники, простирая руки к Милене. – Не уходи-и!
Сцепившись друг с другом руками, Жужелицы окружили геликоптеры. Вперед выступили двое людей в белом. В руках у них появились предметы, напоминающие застывших ящериц. Ящерицы полыхнули светом. Те Жужелицы, в которых бил его напор, валились как подкошенные, шелестя листвой. Образовался неширокий проход, сквозь который незамедлительно ринулись те двое, что с носилками. Проворные руки выстреливали между тем из трубок, проворные ноги ступали по поверженным телам.
Но тут вокруг них, гневно взметнув руки, сомкнулась волна тел. Жужелицы били «Гарду» прямо по пластиковым маскам, тесня своей массой. Любая боль, причиняемая ими, отзывалась в них самих. «Прими боль, стерпи боль», – говорили они друг другу, продолжая теснить «Гарду». Какая-то женщина пыталась вырвать у человека в белом носилки. Лицо у нее было при этом искажено страданием, руки крупно дрожали.
– Они забирают тебя! Консенсус жаждет тебя поглотить!
Милена лишь беспомощно распахивала глаза. «Нет, я не хочу всего этого, – измученно думала она. – Нет». Рак в ней – жарко взбухающий, тяжелый, победоносный – обдавал Жужелиц эманациями своей страшной жизни. Чувствуя близость Милены, ее сторонники падали на колени или простирались ниц, как под ударами. Точно так же упала и та женщина.
Резким толчком носилки впихнули в грузовой люк, где их сразу же подхватили. Где-то под спиной защелкнулись крепления, фиксируя носилки на полу. Лопасти винта заработали громче.
Побежденные Жужелицы принялись скандировать ту самую песню, которую они оборвали после обещания Милены не покидать их. Теперь, упуская свою мессию, они разразились той песней вновь:
Милена Шибуш
Шибуш Шибуш
Шибуш рак наш
Милена рак наш
Рак наш рак наш
В какую-то секунду вертолет оторвался от земли и, набирая высоту по наклонной, взмыл над крышей соседней партийной многоэтажки.
Рак наш цветик
Цветик рак наш
Пела и старуха Люси:
Cosi queste parole segna a vivi
Del viver ch’e un correre a la morte
Мои слова запомни для наказа
живым, чья жизнь лишь путь до смертных врат.
Сверху крыши многоэтажек казались крытыми черепицей горными пиками. Небо было полно света, играющего на листьях райских кущ. Крыши уходили вниз под сияющую, искристую музыку Ролфы, звучание Эдема и его неспешных чистых рек. Геликоптер в полете накренился, и Милене стала видна главная река Лондона, мать Темза.
Она увидела сад своей жизни, целиком. Вон Раковина – несколько кирпичей-зданий в объятиях двух каменных крыл с переходами между ними; теми самыми, что она в свое время исходила вдоль и поперек. А вон Зверинец с бамбуковыми спичками лесов и ступенями лестницы, где они с Ролфой встречались и вместе шли на обед. А вон тот парк на Набережной, где они устраивали пикники.
Улицы Кат больше не было. Старые здания наконец снесли, превратили в груды мусора. Теперь на их местах кочанами разрастались Кораллы, чуть ли не вплотную упираясь в старый кирпичный мост. Одна сторона Лик-стрит была теперь перекрыта. Все меняется. Кат смотрелась темным аппендиксом, зато бывший железнодорожный мост был залит светом и полон движения. Милена разглядела мост Хангерфорд, где они вместе с Бироном ждали первого включения электричества. Как и тогда, сейчас он был запружен народом. Люди смотрели вверх, как будто искали ее взглядами, словно Милена по-прежнему находилась среди людей. Вон знакомая гирлянда огней тянется вдоль Набережной, отчего река сияет золотистыми бликами. Весь город подернут трепетными зеленоватыми оттенками – из-за света в небе, из-за «Комедии».
Милена подняла взгляд наверх, где небо занимал такой же сад, что и внизу. Люси и Данте рука об руку выходили из расселин света, представляющих Архиепископский парк.
Вместе они миновали вымощенную кирпичом улицу Вергилия. А откуда-то издали, словно из глубин памяти, доносился призрачно реющий вокал: голос Ролфы в ту ночь, когда Милена пыталась отыскать ее после Дня собак.
Беатриче и Данте пели о своей долгой, пронесенной сквозь время и испытания любви. Данте пел:
Si come cera da guggello…
И я как оттиск в воске или глине,
Который принял неизменный вид;
Мой разум вашу речь хранит отныне.
Ролфа продолжала петь без слов. Голос ее теперь не уйдет вплоть до окончания оперы – сиплый и разъяренный, эхом доносящийся из устья улицы Вергилия. Тогда, в День собак, Ролфа пела концовку первой Песни; одна, в темноте.
Где-то по ходу «Комедии» Данте говорил, что не припомнит такого мгновения, чтобы он хоть в мыслях отрекся от Беатриче или же опорочил ее имя.
«Вирусы поймут, что это означает», – думала Милена.
Он отпил из вод Леты, а потому забыл все неправедное, что мог совершить в своей жизни.
Он не помнит, чтобы отрекался от Беатриче. Это означает, что отречение от Беатриче было грехом.
«Как и то, что я потом не общалась с Ролфой. Не любила ее». Руки Милены поглаживали что-то мягкое и влажное. Оказалось, что в суматохе она так и не выпустила Пятачка.
А снаружи геликоптера, на одном с ним уровне плыли черные шары, запущенные с моста Ватерлоо. Туго надутые, они неслышно напевали для себя музыку, которая до них доносилась. Их кожа отражала свет. Лики памяти перемежались на их поверхности.
Музыка не спеша проникала через райские кущи, созданные из старого кирпича. В ней говорилось о жизни в камне, земле, воздухе. Воздух трепетал, подобно деревьям и траве; кирпич по прочности подобен был камню. А каждый камень – даже в старой части Лондона – лучился, благоухал и дышал историей. Касания минорных созвучий и диссонансы вызывали в нем грусть и встревоженность. Отдельные пасмурные нотки оседали капельками света на падающих листьях. Музыка становилась призрачным танцем, как будто Сад незримо пускался танцевать сам с собой, сам по себе. А для нас он был потерян.
По Вестминстерскому мосту Беатриче и Данте прошли на улицу Кат. Путь туда теперь был закрыт, а с ним закрыта и дорога в то Лето Песен, где в веселой рыночной толчее жили знакомые люди: и парень с лицом персонажа Хогарта, и гибкий продавец одежды со своей смазливой женкой, и торговка зеркальными линзами. Слышен был хор. Впервые за все время пропевались и слова рассказчика. Здесь пелось о солнце в зените, о полуденной поре на высотах Чистилища.
Лондонская Яма, кратер Ада и склоны восходящей к Раю горы были в «Комедии» одним и тем же местом. Чистилище и все прочие круги кверху и книзу от него накладывались один на другой, образуя мир, идущий слоями.
«Понятно ли это? Донесла ли я? – терялась в догадках Милена. – Поймут ли они эту мою низкопробную, приземленную “Комедию”?
Получился ли у меня Рай именно как Дантов “Paradiso”? А рай земной – нашла ли я его? Кто окончит “Комедию”? Должен ли каждый закончить ее для себя по-своему, или же истинный конец должен существовать лишь на страницах книги Ролфы?»
Затем она подумала о маленьком Берри, который все время пел. Музыку «Комедии» он пел еще тогда, когда младенцем лежал у Милены в комнате; еще прежде, чем произнес свое первое слово. И тут, как будто в горло ей вонзили меч, Милена ощутила металлический вкус уверенности. Это будет Берри, маленький Берри. Это он окончит «Комедию». Он будет поддерживать в ней жизнь. Милена словно увидела, как передает ему ее. То, что она успела ему передать, – лишь ее мизерность, а не величие. «Комедия» тогда была размером с цветок.
Милена почувствовала, как вспыхнула ярким светом. Им сейчас сияла вся ее кожа. Настолько, что озарилась вся кабина геликоптера и открытая дверь. Снизу свет заметили люди: они разглядели в вышине сияние в форме женщины. Издалека снизу донесся многоголосый восторженный рев.
С души словно камень свалился. Вертолет пошел на снижение.
Посадочную площадку окружали необычайно толстые пурпурные листья, которые захлопали словно крылья и раздвинулись, давая дорогу. Из леса Консенсуса Милена в очередной раз посмотрела вверх. На ее глазах Данте и Беатриче вышли из Лик-стрит и направились к реке. Хор пел о семи дамах, остановившихся в прохладной тени. Данте с Беатриче вошли в затенение Раковины.
Снова бесовская пляска «Гарды» с отстегиванием креплений и выемкой носилок из геликоптера. А повсюду уже заходились пением Певуны, неистово скандировали Жужелицы. «Милена, дай нам болезнь! Милена, дай болезнь!» Кто-то ухитрился лизнуть ей руку, чтобы рак перешел на него. Пока разворачивали носилки, в окнах Маршем-стрит Милена разглядела людей. Народ стоял и на ступенях, и под мясистыми деревьями. Целое столпотворение. На Милену полетели цветы. Они сыпались дождем, и обычные и человеческие.
«Что за шум, – устало, но довольно думала она, – что за гам из-за второсортного режиссеришки». Но она знала: дело здесь не только в раке, но еще и в «Комедии». Одно неразрывно связано с другим.
Данте в вышине задумчиво шел вдоль берега Темзы. У моста Хангерфорд он по ступеням спустился к воде и забрел в нее. Воды Темзы текли подобно истории. Теперь это была река Эвноя – та, что восстанавливает память о добре, содеянном душою при жизни; о ее усилиях любви.
Ниже по Маршем-стрит начали петь одну из песен Ролфы Певуны. К ним, не устояв, присоединились Жужелицы. Песня звучала на «собачьей латыни». Как вдруг где-то в самой чащобе Консенсуса открылся некий зев и тоже влился в общий хор:
Modicum, et non videbitis me;
Et iterum
Sorelle mi dilette
modicum et vos videbitis me.
Вскоре вы не увидите меня;
И опять вскоре увидите меня.
«Нет, теперь уж точно не увидите», – усмехнулась мысленно Милена. И тут поверх всего этого многоголосья послышался еще один голос, поющий совершенно иную песню:
Эта песня – скулеж.
Если хочешь, он рядом с тобой побежит по дороге,
Верный, преданный друг
Без болезненных мыслей и чувств.
Голос был слабым и казался отдаленным. «Кто это?» – удивилась Милена. Сил повернуть голову и посмотреть не было. И тут до нее дошло: это же поет она сама. Песню Старого Лондона, которого больше нет. Нечто совершенно не связанное ни с шумным скандированием вокруг, ни с небесным хоралом в вышине. Она пела в память о «Летящем орле» и об уличных базарчиках; о толкающих пивные бочки кабатчиках и об ютящихся в древесных кронах скворцах; о ветшающих зданиях и о тяжелых, отороченных мохнатым плюмажем копытах ломовиков; о малолетних разносчиках кофе. Она пела о детях, о Берри; о глубокой старости, до которой им отныне суждено дожить.
Эта песня – скулеж.
Он не знает, бедняга, как песенку эту закончить:
Никому, даже песне
Не хочется друга терять…
Чувствовалось, как подрагивает похоронный паланкин, занося ее на язык Консенсуса. Сквозь мясистые стволы и путаницу листьев она еще раз взглянула вверх, на игру света. Весь мир был словно погружен в воду, чистую и полную жемчужных пузырьков. Воды Эвнои, памяти. Музыка Ролфы сплачивалась для заключительного удара. «Вот тот последний момент “Комедии”, что я застаю», – думала Милена. Тем не менее скучать она будет не по ней, и не по своему завидному посту, и не по Зверинцу или этому вот цирку.
Эта песня – скулеж,
Он и дальше с тобой побежит, если только захочешь.
Так давайте споем
Ее хором опять…
Живой язык Консенсуса неспешно втягивал внутрь, и вместе с тем гасли звук и свет.
Но тишина оставалась.