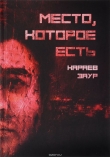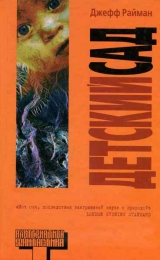
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
И опять это невыносимое, издевательское «тю», со смешком.
Милену охватывает ярость – кстати, вполне понятная и объяснимая.
– Ролфа! Ну почему ты всегда смиряешься с поражением?
Глаза у Ролфы, обернувшейся уже с порога, гневно вспыхивают. «Ты не путай, – словно говорит она. – Это уже другая Ролфа. Эту так просто не возьмешь».
Глаза у нее сужаются, и она вдруг, возвратившись, присаживается.
Садится на сразу же сплющивающийся пуф и подается вперед, явно желая объясниться.
– Послушай, я очень даже ценю все твои усилия, – говорит она. – Но ты должна понять: для меня все переменилось.
Вздохнув, она откидывается и с расслабленным видом потягивается.
– Какое-то время мне было даже не по себе: как это – становиться кем-то другим. Теперь же мне это очень даже нравится. У меня все наладилось с отцом. Я теперь для него его главная умница, звездочка, гордость. Я переустроила ему бухгалтерию. Разработала новую систему учета. Теперь время каждого работника засчитывается отдельно. А время – деньги. Для тебя в этом ничего особенного нет, а я вот горжусь.
Ролфа по-боксерски поводит покатыми плечами.
Вид у Милены сейчас, судя по всему, бледноватый. Она сидит, с несчастным видом уставясь в пол, что, видимо, несколько раздражает Ролфу.
– Милена, пойми: мне неинтересно то, что делается с «Комедией». Я не задумывалась над ней, как над чем-то серьезным, не готовила ее к исполнению. Да, меня, конечно, впечатляет та работа, какую ты проделала, чтобы ее поставить. Но! – не говорит, а будто фыркает она – это самое «но» заменяет ей теперь «тю», причем «но» выходит резче и внушительней. – Но «Комедия» теперь вряд ли может представлять для меня что-то новое, и уж тем более занимательное.
– А трудно тебе было перестраиваться?
Ролфа, заложив руки за голову, какое-то время с отстраненным видом раздумывает.
– Пожалуй, да. Поначалу. Я все никак не могла толком понять, какие частицы у меня поотпадали, а какие словно бы приклеились на место. Зои и Анджелу я какое-то время прямо приводила в ужас и терроризировала. Называла их «тупыми коровами». Вообще некоторое время я чувствовала, что баб на дух не могу переносить. Было у меня несколько собутыльников, в основном мужиков, и иногда – ни с того ни с сего – я вдруг сдуру на них западала. И это тем неожиданней, что ведь раньше, до той поры, я всегда соотносила себя с мужским полом. Они сами рассказывали, что это как будто твой же кореш начинает вдруг к тебе клеиться. Ничего такого, понятно, между нами не было.
Милена посматривает себе на запястье. Смотрит, как на поверхность кожи выскакивают малютки-клещики и начинают барражировать, все еще спрашивая: «Где Ролфа?» Хочется приложить запястье к ее руке, ощутить кожей ее тепло, шелковистость меха. Вот оно, начинается. Любовь, оттаивая, пробуждается вновь.
– Правда же, было здорово? – спрашивает Милена робким, умоляющим голосом. – Те три месяца?
– Да, разумеется, – отвечает Ролфа с раздраженной снисходительностью. – Давно, правда, это было. Помню, как я торчала днями у тебя в комнате, как в полудреме. Совсем расклеилась, квашня квашней. Ты уж извини насчет того бардака.
– Да что ты. Мне даже нравилось, – шепчет Милена.
– Могла хотя бы пол подмести в твое отсутствие, – хмыкает Ролфа.
– Ты теперь аккуратная?
– Ну, пытаюсь по мере сил, – говорит Ролфа со смешком.
«Явзываю к тебе через широкий глубокий каньон, и слова мои уносит ветер. Он уносит от меня тебя».
– Ты думаешь навестить там свою мать? – спрашивает Милена, неожиданно закашлявшись. – В Антарктике?
– Конечно. Вы с ней стали друзьями, да? Союзники против Семьи. – Ролфа обнажает в улыбке новые, белые зубы. Клыкастые. – Да, здорово будет проведать старую перечницу. А то неловко даже. Ни письма, ни весточки. Дочь называется.
У Милены от обиды и разочарованности сами собой стискиваются губы. Только то, что Гортензия сама вполне могла величать себя «старой перечницей», не дает ей всерьез рассердиться.
Ролфа замечает это и лишь еще раз насмешливо фыркает.
– Мать у тебя просто замечательная, – говорит Милена. – Я переживаю, как там она. Что-то от нее ничего не слышно.
– Да и мы тоже ничего не слышали, – замечает Ролфа. – Может, запила.
Письмо в запечатанном пакете на тот момент еще не пришло. «Но ты уже знаешь, Ролфа, о решении Семьи вернуть Гортензию в Лондон. Ты просто считаешь, что это не моего ума дело. И улыбаешься своими новыми клыками».
– Когда ты уезжаешь? – спрашивает Милена.
– Э-э, недели через три.
Беседа идет на убыль. За истекшее время событий произошло столько, что даже говорить толком не о чем.
– А ты… у тебя… появился какой-нибудь… ну, друг, спутник? – спрашивает Милена как бы невзначай, но голос беспощадно выдает себя тоненькой дрожью.
– Нет, – отрезает Ролфа.
Картина разрушения довершена. Ни у тебя, ни у меня так никого и нет. Режиссер чувствует холод одиночества. Жизнь ее, Милены, состоит в работе. Каким-то образом в ней всегда присутствовала память о Ролфе – в работе, в музыке, в самом ее звучании. Работа и сам факт того, что Ролфа где-то есть – пусть не здесь, пусть где-то в дебрях Лондона или где-нибудь еще, – оживляли, одушевляли эту незримую связь. Сама «Комедия» делала ее живой, ощутимой. Но артист и артистический миф – не одно и то же. И эта Ролфа, что сейчас перед ней, – уже не миф.
– Ролфа. Мне очень, очень, очень жаль, – произносит Милена, подразумевая: «Мне жаль, что я тебя разрушила».
– Чего меня жалеть, – Ролфа опять по-боксерски поводит плечами. В этой обновленной Ролфе, кстати, действительно гораздо больше мужского. – Не надо эту Ролфу жалеть; ее и не было бы без того прошлого. Хотя к той, прежней Ролфе я не возвратилась бы ни за что на свете. Опять эта слезливая хандра? Сопливая сентиментальность, творческие метания-искания, запись-перезапись партитур? Жить чем бог послал в наивной надежде на лучшее? Что бы, интересно, вышло в итоге с той Ролфой, а? Спилась бы, да в том же кабаке и подохла; всего делов.
– Или бы создала еще одну «Комедию».
– Да, или «Комедию», – кивает Ролфа с протяжным вздохом. – Только все это уже позади.
– Ролф, у меня такое ощущение, будто ты умерла. И убила тебя я.
– Ой, не распускайте по мне сопли, мадам, – ворчливо отвечает Ролфа. – Терпеть не могу соплей последнее время. Не вижу в них толку.
– Но ты же все равно это чувствуешь. Могла бы и признаться.
– Ну и признаюсь. Только в тягомотину играть не хочу. Кстати, вот почему опера меня последнее время раздражает: слишком медленно разматывается сюжет. Ходят, поют, хотя и так все ясно; нет чтобы сразу пожениться или разбежаться. Так нет же: два часа глаза и уши мозолят. А толку-то?
– Ну а если им есть что сказать… – Милена прерывает себя на полуслове. – Слушай, я… у меня вообще-то есть время забежать в кафе. Может, ты поесть хочешь?
Рот у Ролфы кривится в скептической ухмылке.
«Она боится, что меня все еще к ней тянет, поэтому хочет поскорей отделаться. Она и пришла сюда затем, чтобы разрыв был полным и окончательным».
– Да нет, мне до дома надо добраться; там и поем.
Ролфа, хлопнув по пуфу, решительно поднимается и водружает на голову шляпу.
«Наверно, уже жалеет, что вообще пришла».
– Спасибо, что зашла навестить, – говорит Милена. По телу разливается холод одиночества.
– Да ну, – приветливо отвечает Ролфа. – Типа, по старой дружбе. Извини, что как снег на голову, от дел отвлекла.
– Всех дел не переделаешь, – упавшим голосом произносит Милена.
– Да уж, – с беспощадной сердечностью соглашается Ролфа, – ты ж у нас звезда.
Пауза. Милене все холоднее.
– Кстати, у меня тут осталось кое-что твое.
Неожиданно что-то вспомнив, она поднимается с пуфа и идет к встроенному шкафу (в ее новой партийной квартире мебель в основном встроенная), где что-то ищет в ящике среди всяких баночек и запасных батареек. В порыве отчаянья она, разбрасывая банки, выдергивает оттуда какой-то предмет. Комок грязного войлока, пахнущий детством. Милена поворачивается и протягивает его Ролфе.
– Вот.
– Ой, Пятачок, – удивляется Ролфа.
– Забирай, он мне не нужен, – говорит Милена уже со злостью.
Ролфа протягивает руку и берет его. Она стоит, задумчиво гладя ему ушки, трогает животик, словно удостоверяясь, что это на самом деле он, тот самый. А затем, как-то вздрогнув, словно прикоснулась к чему-то холодному, возвращает куклу Милене.
– Я его специально оставила. В подарок, по старой дружбе, – и пожимает плечами в полной растерянности.
Они смотрят друг на друга. Наконец Милена забирает Пятачка обратно.
– Ну ладно, там меня уже заждались, поди, ужин провороню, – произносит наконец Ролфа, протягивая руку. – Ну, пока, что ли.
– До свиданья. – Милена отвечает на рукопожатие.
Ролфа, устрашающе большая, она склоняется над Миленой, как взрослая над малышом. Милене хочется драться.
«Ну зачем вообще все эти слова? Что, нельзя так уйти?»
Пригнувшись под притолокой кукольного домика, Ролфа выходит на лестницу. Милена стоит в проеме, чувствуя себя отверстой, зияющей раной. Ох уж эта неизбежная дань вежливости, лучше б всего этого вообще не было.
Вот Ролфа оборачивается и улыбается своей новой белозубой улыбкой – красивой, широкой, которой прежняя Ролфа похвастаться не могла.
– Эх, вот кайф, – восклицает она. – Как я оттянусь в Антарктике!
Милена вдруг наглядно видит эту картину: косматые лайки, и лед, и звезды. Видится, как оно действительно могло бы быть: Гортензия со своей дочерью, обе счастливые, стоят на льдине, белой, как новая улыбка Ролфы. Антарктическая улыбка.
Из одного глаза у нее, смачивая мех, сочится влажный след.
– Винни-Пух с Пятачком отправляются на поиски Южного Полюса, а? Кто б мог подумать? Я в Антарктику, ты в космос. Так что если думаешь, что у нас здесь, внизу, ад, то поберегись: вдруг там, наверху, чистилище?
Ролфа, хохоча крякающим смехом, делает вид, что пихает Милену в плечо.
– Так и не сумели нас с тобой тут удержать, не на тех напали, верно? У-ху-ху-у!
Она вразвалку пятится по площадке.
– Ну, старушка, давай, держись, – продолжает она шутливо, излишне шумно напутствовать Милену, не без риска покачиваясь над лестницей. – Давай, береги себя. Дело свое исправно делай. А за меня не переживай, со мной все нормально будет. Нам что зной, что дождик проливной, так ведь? По-ка-а!
Пятясь по своему обыкновению, Ролфа начинает спуск с лестницы, по-прежнему не сводя с Милены глаз; такая же неуемная, как раньше. Мало кто может состязаться с ней в громкости – особенно учитывая, что крик этот доносится через тундру – леденящую вечную мерзлоту. Через Мертвое Пространство.
– Живи-поживай да добра наживай, а коли не свезло, так чтоб хоть было весело! Помни, завтра – первый день твоей оставшейся жизни! А?! А-ха-ха-а!
По мере того как Ролфа спускается с лестницы, шаг за шагом убывая из поля зрения, ее голова продолжает безудержно хохотать.
Крик еще продолжается.
– Не бери в уплату деревянных медяков, ха! Старая канадская поговорка! Не путай хрен с морковкой! Чтоб все у тебя было в шоколаде! Все, все, все! – В ее голосе звенит надежда. На этом она, закашлявшись, обрывается.
Милена пытается заняться сборами. Надо же когда-то к ним приступать. Работы непочатый край. Но она смотрит в окошко, где уже успело стемнеть; смотрит на Ролфу, как та вразвалочку, спиной к Милене, идет на пристань.
«А я, Милена Вспоминающая, знаю. Знаю, что вижу сейчас Ролфу в последний раз. Вот ее спина, походка, округлые плечи, голова чуть наклонена вперед и книзу. Все такое знакомое. Знакомое настолько, будто мы все еще живем вместе».
И – о! Ролфа вдруг на ходу разворачивается и машет, машет с берега Болота, где ее все еще дожидается челнок.
– По-ка-а-а! – глухо доносится издали, как через ледяную пустыню.
И маленькая Милена нерешительно машет в ответ. Свет не зажжен, и в комнате темно. Видит ли ее Ролфа? Наверно, нет. Хотя почему: вполне может статься, что и видит.
У меня же теперь на ладони светящееся пятно. Интересно, светится ли оно сейчас? Видит ли она его? Горю ли я?
Об этом мне уже не узнать. Ролфа заходит в лодку, но не садится, стоит. И, покачиваясь, все еще остается в этой позе и тогда, когда челнок начинает рывками отходить от берега. В руках она вращает шляпу. Милена стоит у окна, поглаживая пахнущие детством уши Пятачка, и потерянно размышляет: «Как быть теперь? Что я могу поделать? Я старею, становлюсь суше, черствее, а мне так нужно, чтобы кто-то был рядом. Кто-то настоящий и живой, а не просто память».
«Это я, – отвечает Милена Вспоминающая. – Я знаю, что ждет впереди. Впереди – космос и Майк Стоун».
А позади – любовь.
«Я помню комнату Роуз Эллы в Братстве Реставраторов, стремившихся воссоздать облик прошлого. Помню китайские шкафчики с панельками-барельефами, где часть изображения отсутствует – башмаки, кусок халата, сами фигурки. Пустые места, из которых населявшие их когда-то персонажи исчезли. Мертвые Пространства, видя которые можно лишь домысливать, что они, те люди, чувствовали, что испытывали, чем жили.
Ах, если бы, если бы им удалось как-то уцелеть, сохраниться».
АНТАРКТИКА – ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ мест в мире, откуда было невозможно увидеть «Комедию».
И ВДРУГ МИЛЕНА УЖЕ В ПУЗЫРЕ. Она прощается. В окно видны звезды – крупные, осязаемо увесистые. Звезды для нее как якоря – твердые незыблемые крючья, на которые можно что-нибудь вешать или закреплять. Она зовет Боба, вызывая колебания струн мысли, пронизывающих эфир.
«Улетаем», – сообщает она. Все прочие чувства – грусть расставания, надежда на возвращение, – резонируя, отзываются в линиях гравитации. Она передает и получает их напрямую.
«Эх, милая моя», – слышно, как Ангел словно чутко задевает в ней струны.
И она задает вопрос, который оформить в слова ей не хватило бы духа. Личный вопрос о нем; вопрос, который вместе с тем является и сокровенной тайной для нее самой. Вопрос, связанный в том числе и с незыблемыми звездами.
Ангел Боб отвечает: «Мы заключены в плоть». Он имеет в виду плоть Консенсуса, и Милене на мгновенье представляется подобие горообразного, опутанного хаотичной сетью сгустков и прожилок трюфеля в невероятном, причудливом коконе из линий гравитации.
«Но когда мы его оставляем, – рассказывает он, – то есть, как только мы становимся Ангелами, мы воплощаемся в линии. И продолжаем кружить-плясать уже по ним». И Милене наглядно представляется, как сущность может вытекать по Каналам скольжения Чарли. Ее живое присутствие выдается лишь возмущением в линиях тяготения. Гравитация притягивает энергию из ничего, из вакуума. В питании Ангелы не нуждаются. Таким образом, сущность благополучно, без ущерба для себя осваивается во Вселенной.
Милена вспоминает: «Я смотрю через глаза плоти на темноту меж звезд; на небольшую часть Вселенной, открытую взору плоти. И думаю о том, что мы тоже заключены во плоти, но потом можем сделаться Ангелами.
“До свидания, – вздыхает Боб, но ощущение от его слов иное: – Ты вернешься, девочка, ты снова сюда вернешься”.
“Ну что, пора”, – говорит Майк Стоун, еще за много месяцев до того, как я выйду за него замуж, и, нырнув в Пузырь – тот, что поменьше, – защелкивает последние крепления на стеллажах с моей аппаратурой. Я пристегнута ремнями к креслу, и Майк Стоун, словно в шутку, целует меня в макушку. Щекотно – как будто бабочка касается крылышками, – и я даже толком не знаю, хочу я смахнуть эту бабочку с волос или нет.
А вот он, мой будущий муж, стоит прямо там, где смыкаются в поцелуе отверстые рты обоих Пузырей, уже всосавшиеся один в другой. Он, поторапливая, легонько машет мне пальцами, самыми кончиками, как игривый ветерок.
Затем раздается шипение, и рот большого Пузыря герметично смыкается, образуя за нами плотную стенку. Я смотрю из окна на звезды. И думаю о линиях и бороздящих пространства Ангелах. Эфир полон пляшущих человечков».
СЛЕДУЮЩАЯ СЦЕНА.
Вот он, тот жаркий апрельский полдень уже другого года, с другой Миленой. Она идет медленно, раздумывая, как лучше представить «Комедию» Земле. Животных сыграют артисты Зверинца; души мертвых предстанут в виде той обвислой, с пустыми рукавами одежды с Кладбища. А как быть с облаками для влюбленных? Стоит ли представлять вершину Чистилища в апогее орбиты Пузыря?
Раздается смех детей, лихо качающихся и карабкающихся по лесам. Мартышки. А вон стайка Жужелиц на солнышке газона Зверинца.
Они, кстати, успели за это время кое-чему научиться. Может, им помог Пузырь. А может, я им ненароком подсказала. Они теперь с помощью мысли могут изменять гены. От этого у них из спины стали распускаться листочки – широкие, упругие, на жилистых стеблях, все равно что лиловые резиновые растения.
Сидят и безмятежно улыбаются. Вон какая-то женщина с зелеными зубами и глазами, распахнутыми от восторга. Рядом такой же блаженного вида паренек с ботвой до пояса. Все счастливы.
Из какого-то наслоения времени слышен крик, исполненный пылкой надежды: «Чтоб все у тебя было в шоколаде! Все, все, все!»
Шмели, указывая на меня, одновременно тычут пальцами и победно кричат:
– Рак, рак, рак!
Как какие-нибудь птицы.
Глава семнадцатая
Терминал (Недуг от Любви)
ЕСЛИ БЫ РАК НЕ ПЛАВАЛ в том же море, что и мы, он вызывал бы восторг примерно такой же, какой вызывают у нас акулы. Мы восторгались бы его простотой и приспособленностью, настойчивостью и умением достигать цели; его смертоносной красотой.
Рак – это нарушение процесса роста. Некоторые раковые клетки производят свой собственный гормон роста, подавая самим себе сигнал делиться и размножаться. Другие увеличивают число рецепторов к гормону роста на клеточной мембране или копируют внутриклеточные медиаторы, подающие команду расти. Они не отвечают на сигналы других клеток о перенаселенности. Им нужна кровь для питания, и они выделяют белки, побуждающие организм выращивать для них новые кровеносные сосуды.
В отличие от нормальных клеток у них нет необходимости прочно прикрепляться к межклеточному веществу. Они могут отрываться от основной опухоли и, свободно дрейфуя по системе кровообращения, находить новые места для роста. Раковые клетки представляют собой нарушение функции, которая называется дифференцировкой. Они не созревают в полноценно функционирующие клетки крови, или костей, или мышц, или кожи – то есть не дифференцируются. Находя себе новые участки в различных видах ткани, они могут разрастаться и там. Они способны распространяться. Это называется метастазами. А сама опухоль – злокачественной.
Кроме того, раковые клетки не умирают. Где-то между пятидесятым и сто пятидесятым делением нормальные клетки перестают делиться. Они стареют. А раковые продолжают расти.
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ в мире чрезмерного богатства и крайней нищеты случилось нечто ужасное. Вследствие перестроек в генах ДНК-вирусов появились новые виды рака, распространяющиеся с легкостью и скоростью обыкновенной простуды. В протоонкогены встраивалась новая ДНК и изменяла их функцию. Иногда уже через две недели после инфицирования опухоли начинали расти практически с хореографической слаженностью, развиваясь и уверенно укореняясь во всех тканях.
Появление действенного средства от рака стало вопиющей необходимостью.
Рак вносит нарушения в ключевые гены хромосом. Эти гены называются протоонкогенами. Они кодируют белки, вовлеченные в рост или дифференцировку определенных типов клеточных структур. К ним можно добавлять генетический материал – как, например, при вводе нового генетического материала ретровирусами. Из них можно изымать генетический материал: подобное происходит при облучении. Может также произойти ошибка при делении, в результате чего их последовательность будет обращена вспять или сами они будут перенесены в другие цепочки генов.
Протоонкогены нормальны. Но испорченные добавлением, изъятием или изменением, они могут превратиться в онкогены – гены, вовлеченные в развитие рака.
Все вероятные протоонкогены были идентифицированы. Панацеей от всех видов рака стало бы нечто, что смогло бы защитить эти ключевые гены от любых генетических изменений.
Спираль ДНК состоит из чередующихся фосфатов и сахаров. Между ними существуют ступеньки, что-то вроде веревочной лестницы из нуклеиновых кислот. Ответ крылся в том, чтобы покрыть сами ступеньки сахарами и фосфатами – и тем усилить спирали ДНК.
Покрытые сахаром гены были защищены от попыток встроить в них новый генетический материал. Они были теперь крепко связаны с усиленной спиралью и не могли быть испорчены или выбиты из последовательности. Ни облучение, ни химические вещества не могли изъять из них генетический материал. Они могли взаимодействовать с обратной транскриптазой и матричной РНК. Связь была односторонней. Заключенные в сахарную оболочку, они были недоступны для изменений.
Люди прозвали лекарство «Леденцом». Искусственно разработанные ретровирусы вводили леденцовые гены во все клетки организма, включая и зародышевые. Леденец стал частью генетического материала человека.
Клонированные супрессоры опухолей справились с существующими разновидностями рака. Рак исчез. Он просто не мог больше возникать. А с ним исчезли и белки, которые выделялись раковыми клетками.
Никто не подозревал, что от рака была польза. Раковые клетки выделяли огромное количество препятствующих старению белков с крайне низкой молекулярной массой. Эти белки легко проникали в другие клетки.
Раковые клетки препятствовали старению других клеток. Небольшие предопухолевые повреждения продлевали человеческую жизнь до ее привычного предела. Без рака продолжительность жизни сократилась вдвое.
Попытки скопировать препятствующие старению белки давали лишь местные результаты. На них отвечали лишь некоторые участки тканей.
А протоонкогены и леденцовые гены спокойно спали за сахарной стеной.
ЖУЖЕЛИЦ РАК ПРИВОДИЛ в восхищение – из-за его жажды жизни, его красоты. Примерно так мы восторгаемся цветами. Они ощущали его как некое белое сияние. Его неповиновение общей рутине функционирования организма они воспринимали как восстание, как борьбу за свободу отдельных клеток.
За Миленой они ходили словно в трансе.
– Он поет, – умильно вздыхали они.
– Милена! Ты настоящая оранжерея! – восторгались Жужелицы. – Сад, полный цветов!
Они шли за ней и к больнице Святого Фомы, где ее тестировали в Раковом Корпусе. И далее к Читальным Залам на Маршем-стрит, куда Милена была вызвана лиловым лесом Консенсуса. Она была Терминалом, и по дороге несколько раз задала ему один и тот же вопрос: «Зачем меня сюда вызвали? Какую информацию мне собираются сообщить?» Но Консенсус хранил молчание.
Милена вспоминала то ожидание в комнатах из белого кирпича, где она поймала себя на мысли: «Все дурное в моей жизни происходит именно здесь».
Дверь открылась, и под своды комнаты вкатилась Рут, Терминал.
Опустив плечи, она не отрываясь смотрела на Милену, покачивая головой. Рут, болтунья Рут не знала, с чего начать.
– Ох, детка моя, – сказала наконец она.
Где-то из коридора доносились веселые звуки сада. Там было оживленно: звенели гитары, гудели дудки, хлопала в ладоши и пела детвора, ожидая своего часа посвящения в мир взрослых.
– Детонька, у тебя рак, – проговорила Рут и, бессмысленно разведя руками, так же бессмысленно их опустила.
Милена смотрела на белый кирпич стен, на голый электрический свет.
– Что значит «рак»? – не поняла она. – Как такое вообще возможно? Рака нет, он вымер.
– У тебя нет Леденца, – пояснила Рут. Подойдя к сидящей на единственном стуле Милене, она с одышкой опустилась на одно колено и взяла ее ладонь в свою. – Ты можешь играться с генами, радость моя, переставлять их с места на место. И вот ты их перебирала, перебирала, покуда не нашла ген, который сделал транскриптазу нового рода. Она передалась по ступенькам спирали и растворила вокруг них защитный сахар.
– Нет, этого не могло быть, – категорично заявила Милена, вынимая из ее ладони свою.
– Да ты не знала. – Губы у Рут сложились печальным сердечком. – Не знала, что ты именно делаешь. – Потянувшись, она попыталась погладить Милену по голове. Та уклонилась. – Мы как огромный океан, на котором качается утлая скорлупка. Скорлупка – это то, что мы про себя знаем. А сам океан – он там, внизу.
– Вздор какой, – фыркнула Милена и попыталась было встать, но Рут удержала ее за плечи.
– Нет, лапка, не вздор. – На лице у нее читалась вполне искренняя симпатия. – Ты взломала код Леденца, а затем, чтобы все мы могли видеть, изменила себе гены так, чтобы в них смог вернуться рак. Ты как та героиня из книги, что ради спасения людей навлекает опасность на себя. Ты как будто позвала: «Рак! Видишь, вот она я, Милена!» Ты воскресила рак и навлекла его на себя, чтобы спасти нас, чтобы мы все могли жить!
Милене кое-как удалось оттолкнуть ее от себя. Встав, она двинулась к выходу, будто это могло помочь ей уйти от того, что с ней случилось.
– Благодаря тебе мы теперь все можем доживать до старости! – радостно голосила Рут. – Сможем видеть, как растут наши детки!
– Я не хочу, чтобы люди доживали до старости! – почти кричала Милена. – И я ненавижу детей! Ну за что, за что на меня эта напасть, а?!
– Мы сможем скопировать этот новый ген, который ты создала. Мы добавим его в новые ретровирусы и сможем всех вылечить!
– Это после того, что вы уже успели натворить за все это время?! – Милена, стиснув кулаки, потрясала ими перед Рут. – Ты все еще несешь мне эту околесицу после того, что вы уже успели понаделать! Кто знает, может, в этот раз вы им вообще всех погубите! – крикнула она и, отвернувшись, обхватила себя руками за плечи. – А я? Что же будет со мной?
Слышно было, как Рут шурша поднимается на ноги и, с присвистом ерзая ляжками, спешит к Милене. Теплыми пухлыми ладошками она со спины обняла ее за плечи, прижалась рыхлыми подушками живота и грудей.
– Милена, лапонька моя! Не переживай, деточка, не беспокойся. У нас есть вирусы, блокирующие новые кровеносные сосуды. Есть гены, прекращающие ненужный рост. Мы их введем тебе, и тебе полегчает.
– Вы что, хотите меня превратить в еще одну Люси? – холодея от одной этой мысли, вскрикнула Милена, вырываясь из назойливо участливых рук.
– Мы не можем сказать точно, как будут развиваться события, – ответила Рут, качая головой.
– Я не хочу быть как Люси! – объятая кромешным ужасом, замотала головой Милена. Не хватало еще дожить до того, чтобы не узнавать и не помнить о мире ничего, кроме того что все и вся, кого ты знала и любила, мертвы. Милена от отчаяния впилась себе ногтями в голову.
– Ч-ш-ш, ч-ш-ш. Ну не хочешь, ну и не надо. Подумаешь, ведь все в твоих руках. Ты же можешь изменить свои клетки, все у себя переставить, что-то подрезать, что-то добавить. Ничего из того, чего ты сама не хочешь, с тобой не случится. Ты же Милена, у которой есть иммунитет.
– Какие? Какие у меня разновидности рака?
Рут беспомощно развела руками.
– Говори сейчас же!
– Все, – совершенно спокойно ответила Рут. – Все, о которых только известно.
Комната вокруг словно зашипела, будто стены продырявились и из них начал выходить воздух. Вирусы тут же пришли на помощь, со злой беспечностью разворачивая в уме обширный перечень:
«Кожа – сквамозный эпителий, базальный, с пигментными клетками – сквамозная и базальная карцинома, злокачественная меланома;
Пищеварительный тракт – сквамозные эпителии губ, рта, языка, с воспалением пищевода – сквамозная карцинома;
Пищеварительный тракт – столбчатый эпителий желудка, тонкая и толстая кишка – карцинома…»
Милена поймала себя на том, что хихикает.
– А не многовато? – мелко тряся головой, спросила она. – Может, было бы достаточно чего-то одного?
«Нет, – отозвались вирусы. – Надо было восстановить весь баланс целиком. А для этого надо было воссоздать все разновидности рака».
– Лапонька, душенька моя, мы все будем с тобой, все-все, – растерянно увещевала ее Рут. – И Терминалы и Ангелы, мы неотлучно будем с тобой. Будем помогать тебе бороться, петь в самом твоем сердце, твоей кровушке.
«Носоглотка, гортань и легкие – бронхиальный эпителий – карцинома…»
– Надеюсь, раку нравится музыка, – сказала Милена. Ее трясло, как от смеха. Она обнаружила, что прижала ладони к лицу. На носу ощущались мелкие угорьки.
– О Милена, если б ты знала, как мы тебя за все это обожаем!
– Да уж, для меня это в корне меняет дело, – съязвила Милена. – А то я все думала: зачем это индианки из племени майя позволяли сбрасывать себя со скал? Теперь мне понятно: чтобы все их за это любили.
– Тебя никто не будет сбрасывать со скал. Ты непременно выздоровеешь! – с болью воскликнула Рут.
«Система мочеиспускания, включая мочевой пузырь, – уротелиальные клетки – карцинома…»
– Ага, – усмехнулась Милена.
– Главное – в это поверить, – настаивала Рут.
«Твердые эпительные органы – эпителиальные клетки печени, почек, щитовидной и поджелудочной железы, гипофиза и т. д. – карцинома…»
– Заткнитесь! – рявкнула Милена вирусам, чтобы те наконец смолкли. Рассказать ей о назначении каждого гена, каждого из протеинов могли именно они, и лишь тогда она могла что-то предпринять. На миг возникло какое-то подобие стоп-кадра, вслед за чем развертывание перечня продолжилось: видимо, она подсознательно хотела узнать все до конца.
– Ну, так как вы собираетесь меня вылечить? – осведомилась она.
– Первым делом вы перебираетесь в госпиталь, в больницу Святого Фомы. И там живете – ты и мистер Стоун; он беременный, ему это тоже на пользу. Затем мы приступаем, участок за участком. Прежде всего, начинаем с блокировки кровоснабжения. Затем вводим ретровирусы, которые заносят в опухоли супрессант, подавляющий их рост. Они начинают регрессировать.
– Сколько времени пройдет, прежде чем я поправлюсь?
На лице Рут опять проглянула беспомощность.
– У нас нет опыта борьбы с раком.
– То есть не знаете.
Рут молча покачала головой.
В животе Милена ощутила тошнотную слабость и вынуждена была сесть на тот единственный стул.
– Я хочу увидеть своего ребенка, – устало произнесла она. Жизнь уже тянула ее вниз своими условностями. – Я никогда не думала, что у меня будет ребенок, и я хочу его видеть. Его или ее. Я хочу окончить «Комедию». Мы разработали материал только по первым двум книгам! Я хочу снова полететь на орбиту и закончить «Комедию»!
– Обязательно закончишь, – с нажимом заверила ее Рут. – И «Комедию», и не только ее.
– Если я умру и Майк умрет, то ребенок останется сиротой. Именно то, чего я никак не хотела допустить!
– Да не умрешь ты! Зачем, ты думаешь, мы тебя сюда пригласили? Я, Доктора, Консенсус – мы всё спланировали, именно для того, чтобы тебя излечить.
Милена подняла невидящие глаза.
«Я снова это сделала. Сделала именно то, чего от меня хотел Консенсус. Мне даже думать не приходится».