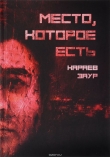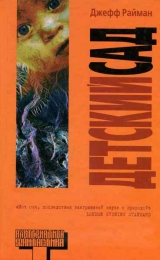
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Чужиепытались говорить. Они пытались говорить внутри Милены – голосами приглушенными, как сквозь утробу. Чувствовалось, как они шевелятся верткими червячками. Слова откладывались у нее в голове личинками и начинали, киша, множиться.
Угроза была ее миру, и она пыталась его спасти.
«Ne! – крикнула она мысленно, противясь чужакам. – Ne, ne!»
Чужие слова ткались полотнами из неких нитей. Эту нить Милена чувствовала, касалась мыслью. Нитки переплетались очень плотно. Сначала чувствовалось лишь то, какие они жесткие – как колючее одеяло. Затем ощущение стало яснее. Это были не нити, а скорее лестницы – крохотные, ячеистые. Лестницы росли спиралями, и обвивали друг друга двойным витком.
«Ne!» – велела им Милена, и личинки замирали. Чувствовалось, что меняются и лестницы. Они прекращали рост, покорные ее мысли. Она посылала свои мысли охотиться за ними. Она устремлялась в погоню через паутину своих нервных окончаний. «Ne!» – кричала она захватчикам, и те тут же утихомиривались, покорно дожидаясь, когда их заполнят.
Вирусам предназначалось заполнять Милену, но вместо этого она заполняла их сама. «Ne» было словом отторжения; словом независимости, свободы. Это срабатывает, когда в тебе достаточно сил.
Ребенок Милена касалась ДНК-вирусов, меняя их по своему усмотрению.
«В таком молодом возрасте? – удивлялась взрослая Милена Вспоминающая. – Я знала так много, будучи еще такой крохой? Сколько же еще мне было известно до слов?»
Вирусы замирали. Теперь они просто складировали информацию. Милена таким образом наращивала собственную память. Созидая более емкое, молчаливое «я». Более крупное «Нет».
Она открыла глаза.
Комнатка с пупсиками и куклами по-прежнему смотрелась недужной и зловещей; головной болью мрел оранжевый свет. Даже лицо матери Милены, с мешками под глазами, выглядело больным, усталым.
«Ты, – подумал ребенок. – Тысделала это!»
Это было предательством, от которого ребенок зашелся горьким плачем.
ДЛЯ МИЛЕНЫ ВСПОМИНАЮЩЕЙ каждый сдвиг памяти делал мир более подконтрольным и безопасным. Он стал и более взрослым, и напоминал уже не хаотичные слои разбросанной листвы, а скорее бабочек, пришпиленных аккуратными рядами под стеклом. С каждым смещением взрослому становилось в нем более сподручно, легче было ориентироваться. Эмоции уже имели свои имена, легче контролировались и переносились. Милена-ребенок теперь знала слова. Только слова эти она выучила сама. Они принадлежали ей.
Комната теперь представала лишь в одной сфокусированной форме: четыре стены. Деревянный стол, печурка, кресло и скрипучие стулья, мешки с фасолью на полу, нитка чеснока – вот, пожалуй, и все, что помнила Милена-взрослая из обстановки. Они представали в одном-единственном ракурсе. За окнами вовсю сиял день. Помнилось и тиканье часов с их бездумной педантичностью: время тик-так.
– Милена, – негромко позвала мать, – отец хочет с тобой поговорить.
“Tatinka” – так называла его мать. Слова вызывали ощущение потери. Милена-взрослая ощутила подспудный груз отчужденности, утраты. Милена-взрослая утратила свой первоначальный язык.
Почувствовалось, как где-то внутри разверзается еще одна пропасть. Время швырнуло ее прочь от матери, прочь от ее языка. Еще одна мощная крутящаяся воронка.
Ребенок смотрел на материнское лицо. В мире сейчас чувствовалось что-то мрачное и серьезное. Мать от этого преисполнялась спокойствия и благородства, и у Милены сердце зашлось от любви. Мать была молодая и красивая, а сейчас еще и изысканно благородная. Мать взяла ее за руку и провела из ее старого мира в новый – комнату родителей, отделенную дверью. Сюда Милена приходила иной раз ночами, когда ее пугала темнота. Сейчас в комнате было темно. Милену охватила паника.
– Это что, ночь? – спросила она. Ребенок жил в мире, где день мог без предупреждения становиться ночью.
– Нет, Милена. Это просто ставни. Ставни закрыты.
Комната пахла кисло, как лимон. Милене-ребенку был известен этот запах. Он начинает исходить от тела, когда все путается, когда мир становится больным.
Стены были коричневыми, бурыми были простыни, все казалось каким-то измятым, и предметы против обыкновения были разбросаны. Коричневым и измятым был распятый на кровати отец. Черные волосы липли ко лбу. Теперь, когда Милена стала постарше, у людей было одновременно только одно лицо. Слова, даже чешские, давали всему только одно лицо. У этого лица была черная щетина и темные круги вокруг глаз.
Мать подтолкнула ее к кровати. Она остановилась возле него, на уровне лица, и ее обхватила жаркая влажная рука. Он горел. Милена тогда поняла, что у него болезнь, от которой горят и трясутся. Он отчужденно посмотрел на нее глазами незнакомца. Милена глянула на него с опаской. Может, отцу взяли и вставили чьи-то чужие глаза?
– Svoboda, —выдавил он.
Как и “Ne”,слово означало свободу. Но слово это было чешское, и никак не могло подразумевать то же, что и на английском. “Svoboda” —это слово казалось каким-то первозданно естественным, как яблоки, как земля.
«Ты можешь с этим бороться, Tato.Ты только посильнее думай и дави на него, и оно изменится. Ведь ты же можешь, Tato?» Милена хотела объяснить, но не смогла. Ведь он же, наверно, и сам об этом знает. Ей уже сказали, что взрослые всегда знают больше и лучше, чем она. Tatoвзял ладонь Милены в свою. Милена почувствовала ее запах.
– Будь хорошей, Милена, – с трудом выговорил он.
Взрослые всегда говорили ей быть хорошей. Но при этом никак не поясняли, что именно это значит. Значение этого слова постоянно варьировалось. Милена знала, что быть «хорошей» она обещать не может: ей неизвестно, что именно значит это слово. Лгать ей не хотелось, и вместе с тем она знала, что не может сказать «нет». Поэтому Милена лишь кивнула в знак согласия. Она знала, что это неправда, но сказать вслух не решалась. Быть хорошей Милене хотелось, но если сейчас ее спросят, а она не ответит – получается, хорошей она уже не будет? Чтоей надо сказать, чтобы действительно считаться хорошей? Никто этого толком и по существу никогда не объяснял. Слово «хороший» аморфно расплывалось, сливаясь с коричневыми стенами.
– Милена, ответь отцу.
Они собирались вынудить ее сказать «да». «Да» было словом признания чужой воли, словом бессилия.
«Да», – тихо промямлила Милена. Мать заставила ее повторить громче. Рука матери лежала у нее на плече, постоянно подталкивая ближе к отцу, который горел и пах. Они оба от нее чего-то хотели, хотя непонятно, чего именно, как ни старайся. Она бы с удовольствием все сказала и сделала, лишь бы ее не пихали.
«Будущее, – поняла Милена Вспоминающая, – они хотят какое-то обещание будущего».
– Поцелуй отца, – велела ей мать.
Он пах и был влажным; этот незнакомец уже не мог быть ее отцом.
– Милена, не озорничай. Отец хочет тебя поцеловать.
В голосе матери было что-то ужасное. Он уже не был голосом матери. Мать ей тоже как будто заменили на другую. Рука сжимала Милене плечо как когтями. Милена боялась. В любой момент она от страха могла расплакаться, а это плохо. Она ссутулясь подалась вперед поскорее приложиться вытянутыми губами к щеке лежачего. Но его рука тянула, а рука матери подталкивала, и его жаркое, липко влажное лицо словно поглотило ее; оно пахло простынями, болезнью, а раскрытые губы были жаркими и мокрыми.
Это ощущение было ненавистно Милене. Она отступила, внутренне содрогаясь. Больше всего ей хотелось вытереть себе лицо, губы, лоб, орошенный чужим потом. Более всего ей хотелось подальше убежать от этого неузнаваемо меняющего людей недуга. Ее отпустили, и она умчалась на свет, из темноты в сад, туда, где солнце и воздух.
ОНА ВСПОМИНАЛА длительное (даже колени занемели) стояние возле церкви. На Милене была новая белая одежда, пошитая матерью из простыней. Церковь была белой, маленькой, приземистой, с толстыми стенами и шпилем на куполе. Купол покрывали старинные свинцовые пластины; Милена любовалась ими, прикидывая, какие они сейчас теплые от солнца. Ей нравилось, как матово сияет на них свет. Пластины были из металла, а металлические предметы доводилось теперь видеть не так уж часто.
Милена спросила у матери, что такое свинец, но в ответ ее лишь сердито одернули. Мать недолюбливала, когда Милена на людях задавала вопросы.
Мало-помалу Милена начинала подозревать себя в недостатке ума. У других детей, как она убеждалась, головы были переполнены ответами. Когда Милена задавала вопросы, в глазах у матери сквозили растерянность и отчаяние, и она слегка поджимала губы, как будто сердилась. Чтобы вывести мать из себя, достаточно было просто задать вопрос. Она знала, что мать тайком подкладывает ей в еду какие-то штучки, от которых потом болеешь, – все для того, чтобы Милена задавала поменьше вопросов.
Сейчас мать недвижно стояла возле нее, вся в черном. Время от времени она незаметно сжимала Милене ладонь, чтобы привлечь внимание дочери к похоронному обряду: вон к той яме в земле; к ящику, который готовились туда опускать; к человеку в черном, который уже долго о чем-то рассказывает.
Процедура была бесконечной и какой-то бессмысленной. Тщательность здесь мешалась с важностью. А в небе кружили птицы, с щебетом свиваясь стремительной спиралью и стремглав нарезая круги. Вот интересно, что удерживает их вместе? Может, они связаны между собой какой-то проволочкой? Почему птицы могут летать, а люди нет?
Птицы были важны, важным был и свет на куполе. А суровая, молчаливо угрюмая сосредоточенность взрослых на мертвом ящике и мертвой дыре важность уже утрачивала. Когда взрослые наконец закончат всю эту процедуру, дыра и ящик уже не будут иметь значения. Милена знала, что мертвый ящик и дыра связаны с ее отцом. Она знала, что его больше нет, он ушел. И сожалела об этом. Она об этом уже говорила, совершенно искренне. И зачем повторять это снова и снова. Свет солнца струился словно мелкий дождь. Свет-дождь не горевал. И Милена тоже. Именно это, считали взрослые, было ужасней всего.
Мать в очередной раз раздраженно стиснула ей ладонь: в землю опускали ящик. Снова это бормотание, и покачивание воды в чаше. Милена смотрела на свет в воде: красиво. Как та резиновая леечка. Будто бы отец сделался вдруг растением, за которым надо будет теперь ухаживать, поливать.
– Она не понимает, – тихо говорила кому-то мать, словно бы объясняя и извиняясь. Милену-ребенка вдруг удивительно остро кольнуло что-то похожее на гнев.
«Это я-то не понимаю? Да все я понимаю, как и ты, – подумал ребенок. – Просто понимаю по-другому, по-своему».
Но и на этом процедура, оказалось, еще не закончилась. Надо было еще бросать в яму комья земли, а потом яму закапывали, нагребая холмик. Один за другим стали выходить вперед селяне, говорить что-то извинительное и брать при этом мать за руку, а над Миленой наклоняться и произносить какие-то фальшиво жалостливые слова. Семью Милены никто из селян толком не знал. Они для них были получужими, странноватыми незнакомцами с холма на отшибе. Один из них потом подвез Милену с матерью на телеге обратно к дому. Милена сидела сзади, у мешков с зерном, и хотела лишь, чтобы взрослые ушли – оставили ее в покое, наедине со своим миром.
Наконец телега уехала, а мать ушла в дом переодеться, оставив Милену одну в саду, напротив калитки. А за калиткой было поле.
ВОЗЛЕ КАЛИТКИ РОСЛО ДЕРЕВО. Листья у него мягко поблескивали, ствол был изрезан глубокими трещинами. На ветвях висели источающие аромат соцветия – вроде ниточек, скрепляющих все воедино.
Милена и дерево стояли чутко застыв, словно готовые к бегству.
И тут что-то заговорило.
– Lipy, —присвоил голос имя дереву. При этом все вокруг, казалось, потемнело, как будто бы солнце скрылось за облако. – Tilia platophyllos, – добавил голос, втискивая дерево в рамки научности.
К ним в дом с озабоченным видом приходили женщины в белом. Там они приглушенными голосами общались с матерью. Что ни визит медсестер, то эти перешептывания. Это мать допускала, чтобы они проделывали с Миленой все те вещи, от которых потом болеешь. Между ними шла молчаливая война.
Милена закрыла глаза и двинулась в темноте на ощупь, будто слепая, пока наконец их не коснулась. Вирусы были жаркие, кишащие и туго переплетенные. Она на них набросилась. Вирусы кинулись в стороны, словно стремясь вырваться. Милена их заткнула, и теперь ждала с закрытыми глазами, не попытаются ли они подать голос снова. Вирусы могли затмевать словами мир. У Милены было ощущение, что она спасает этот мир – мир, а не себя.
Помедлив, она снова открыла глаза.
Милена и мир как будто вместе выбрались из укрытия. Солнце вышло из-за облака; цвет живительным источником прянул из сердцевины каждой вещи. Все было объято светом, как сияющим нимбом. Свет входил во все и выходил изо всего. Он, подобно времени, курсировал разом в двух направлениях, обменом между всеми сообщающимися вещами. Свет, вес и само сознание – они как будто притягивались, ориентируясь друг на друга. Деревья, трава, деревянные ворота – все они ориентировались на Милену, потому что она на них смотрела. Они, казалось, стремились подойти к ней ближе. Всем своим весом льнуло и липовое дерево – к Милене, к полю. Мир мягко сиял в безмолвии.
И как будто бы тихо вышел и встал перед Миленой отец, неотъемлемой частью этого света и тишины. И словно такой же тяжелый и безмолвный, как это липовое дерево. Он как будто бы тоже тянулся в сторону поля.
«Милена, пусти меня», – казалось, просил, он.
Поле было под запретом: оно было небезопасно. Один его конец резко обрывался – там, где начинался лес. Ряды лиственниц окаймляли его, как распушенные хвосты белок, приготовившихся к прыжку.
Милене не верилось, что там небезопасно. А потому она, привстав на цыпочки, завозилась со щеколдой. От внезапного порыва ветра калитка распахнулась как живая.
С деревьев в небо взнимались птицы. Длинные травы в поле мерно колыхались, словно маня к себе. Милена шествовала по миру вдвоем с отцом, при этом отец Милены был ветром.
Ветер взметал с собой свет и звук. Звуки травы и деревьев поднимались с земли к птицам, легким дыханием воспаряли к небесам. А облака струили мягкий свет, нависали тончайшей дымкой; и все дышало теплом песни земли. И дух отца как будто воспарил, развеявшись по всему свету, будто составлявшие его элементы обрели наконец волю и воссоединились с миром.
Милена сорвалась на бег. Она словно бежала за своим отцом, неуклюже ковыляющей у земли жабкой, все разгоняясь вниз по склону. Она с криком выбросила над собой руки, вторя движению кружащегося перед глазами мира. Когда она упала, то трава, раздавшись, нежно подхватила и приняла ее, как будто руками. Подхватила, словно со смехом, и бережно обняла. “Svoboda”, – говорила ей земля.
– Милена! – послышался голос сзади. – Милена-а!
Страх грянул сверху стаей крылатых обезьян.
Милена почувствовала, как ее отрывают, отбирают у травы, которая тянулась к ней, будто заступаясь за Милену. Милена между тем оказалась перевернутой вверх тормашками, как совершенно лишенная веса. От резкой смены положения тела перед глазами тошнотворно поплыло. Ей не хотелось смотреть, не хотелось видеть лица матери.
И мать ее ударила. Это было что-то новое. Мать ударила ее по попке, этому грязному месту непрличности и стыда. От этого нового ужасного ощущения Милена взвыла. После этого ее, по-прежнему воющую, поставили на ноги. Мать заговорила с ней голосом, полным яда и ненависти. Милену схватили за белую ножку, потрясали перед ней ее белой туфелькой. На туфельке и на белых штанишках оставила свой зеленый росчерк трава: таков обмен. Нельзя же двигаться по миру так, чтобы он при этом с тобой не соприкасался. Ну и что такого дурного в отметинах травы? По крайней мере, трава никогда ее не ударяла.
Милену как смерчем взнесло обратно на холм и бросило через забор. Она опять оказалась ввергнута туда, где была всегда: за калитку. Мать ворвалась во двор и, хлопнув калиткой, щелкнула щеколдой. Милена видела лишь колонны ее облаченных в штанины ног. Милену снова огрели по попке и рывком развернули за плечи. Воя от ужаса, она, шмыгая носом, была вынуждена по окрику матери посмотреть на нее. И посмотрела со всей свойственной ребенку беспощадностью.
Вот оно, это высокое серое туловище. Устроено оно совсем не так, как у Милены, – сплошь острые выступы и углы. Когда оно движется, от него веет какой-то удушающей неуверенностью. Словно оно никак не может определиться: переместилась ли уже в будущее или все еще в прошлом?
А где же, где мое Сейчас?
Это тело никак не могло занять нужного положения. Оно шло, останавливалось, снова шло, снова останавливалось, то забегало вперед, то тащилось позади, но никак не могло толком угодить в Сейчас.
Как во сне, где худшее вот-вот должно произойти и его уже не отвратить, ребенок начал постепенно поднимать взгляд – вверх по сухим столпам ног, по мешковатому свитеру со щупальцами рукавов. А руки, руки! Их испещряли вены, какие-то пятнышки и крапинки. Они не были уютно пухленькими, мягкими, ласковыми. Сама кожа на них была жесткой, шершавой, как будто ороговела и переросла в кожуру. Руки-крабы, голодные, ищущие работу.
Теперь к лицу.
И, едва успев увидеть всю его опустошенность, Милена-ребенок вновь зашлась воем и вскриками ужаса.
Лицо было морщинистым, кожа да кости, с совершенно неуместным мазком алой помады. А глаза – неживыми, как будто намалеванными на натянутой поверх лица маске. В них сквозили смятение, утрата, беспомощность и злость. Злость и горе. Кожа дряблая, будто иссушенная битвой с собой и с миром. Кожа начала подрагивать, как листки на деревьях.
И тут мать вдруг сгорбилась, согнулась тугим комом, как будто ее подломили. Словно сама силясь снова стать ребенком; словно она дитя, нуждающееся в утешении и защите. Руки-крабы обхватили спину Милены, притянули к себе. На детскую гладкую щеку Милены дождинками брызнули горячие слезы. Почувствовалось, как мать содрогается от утраты, тяжесть которой превосходит разумение Милены.
Милена ощутила этот странный, запутанный клубок, который представляла собой ее мать. Почувствовала несказанную горечь невыразимой словами утраты и тоже разрыдалась: по матери, по отцу, по любви и боли, по войне между ними, по миру, по всему-всему. А за забором по-прежнему светились мягким светом поля. Только калитка была на запоре.
– ЕЕ НАЗВАНИЕ, – говорила Милена-режиссер, – «Атака Крабов-монстров».
Она сидела в кабинете Смотрителя Зверинца. Милену очень заботил ее новый серый костюм. Она сидела, скрестив ноги, на набитых мешках, и ее новые брюки на коленях могли, чего доброго, отвиснуть или сморщиться. Мысли о помятости одежды вызывали беспокойство; хотя сейчас ее занимало в основном не это, а реакция окружающих.
Они смотрели на Милену с непроницаемыми лицами. Все тоже сидели на мешках. Мешки именовались грушами,а сидящие были все как один грушевидной формы – получалось, груши сидят на грушах, выпятив животы. Напротив Милены находилась крупная, мосластая женщина. «Сама Мойра Алмази!» – поражалась Милена Вспоминающая, удивленная переменой. Волосы у этой женщины были не так седы, лицо не так морщинисто, как будто она вдруг поправилась после болезни. Сейчас она определенно выглядела моложе.
Ассистент Мильтон разносил на лакированном подносе чай в чашечках. Чашечки позвякивали, а Мильтон при этом слегка улыбался: дескать, не обессудьте. В углу сидел Министр, не выделяясь, как бы устранившись от обсуждения. Глаза у него были прикрыты, а сам он сидел совершенно неподвижно, держа руки на сомкнутых коленях.
«Спокойствие», – велела себе Милена-режиссер. А вслух сказала:
– Опера повествует… – и, после небольшого колебания: – О вторжении внеземных существ из космоса. Они похожи на крабов, но умеют разговаривать. В смысле петь. Идея заимствована из старинного видеофильма, который смотрела Троун Маккартни.
Иначе как застывший ужас выражение на лицах Грушописать было невозможно.
– Людям нравится легкий жанр, развлекаловка, – продолжала между тем Милена. – Фактически это то, что им нужно. Она безвредна и непретенциозна. На самом деле люди по ней изголодались. Публика попросту устала от так называемого высокого искусства. Думаю, если спросить об этом Консенсус, мнение будет точно таким же.
Милена-режиссер незаметно посмотрела на Министра. Тот сидел неподвижно: сказанные слова никак его не трогали.
– Лучше всего, если бы Консенсус сам высказал свое мнение, – предупредительно заметила Мойра Алмази.
– А какие еще общественные блага сулит нам этот ваш проект? – спросил еще один из числа сидящих. – За исключением того что это, как вы называете, развлекаловка? – У него было открытое обаятельное лицо, широкая улыбка и бьющая по лбу челка. Чарли Шир.
«Вообще-то, Чарли, ты был действительно неплохим парнем, – подумала Милена Вспоминающая. – Просто у тебя были для продвижения другие проекты, и тебе нужны были деньги на них. А насчет моего таланта ты придерживался скромного мнения. Может, ты был и прав».
– Прежде всего, – сказала Милена-режиссер, – никто из актерского состава не будет прибегать к вирусам. Об этом я заявляю со всей открытостью. Нечего народ пугать: люди стали их бояться. – Это было не самое трудное. – Во-вторых, это поможет людям справиться с… – Милена-режиссер подумала, как бы это выразить поделикатнее, – с традиционным недоверием к китайцам.
Комната застыла. Чуть слышно хрюкнул Чарльз Шир.
«Но ведь это так, разве нет, Чарли?»
– Ни для кого не секрет, что многие люди британского происхождения недолюбливают китайцев. Они чувствуют, что те их обошли и все подмяли под себя. А легкий жанр вносит во все это мажорную ноту. Вот. Эта развлекаловка… – Милена сделала паузу, чтобы восстановить дыхание и дух. – Это произведение сделано в духе классической китайской оперы. Музыка и танцы, все это будет представлять собой классическую китайскую оперу.
– И крабы тоже? – подковырнул Чарльз Шир.
Мойра Алмази заулыбалась.
– А как же, – невозмутимо ответила Милена. – В классической традиции существует множество прецедентов с гигантскими поющими зверями – например, с драконами. Космический корабль будет фактически оформлен в виде дракона. Он приземляется во внутреннем дворе Запретного Города – это будут голограммы в исполнении Троун Маккартни. Да! На таком уровне, или на таком расстоянии, голографические сцены не создавал пока никто. В качестве основной сцены мы предлагаем использовать Гайд-парк. Это даст нам возможность на полную мощность использовать новую технологию проецирования умозрительных образов. – Милена кашлянула. – Спектакль, – произнесла она с нарочитой уверенностью, – вызовет в обществе широкий резонанс.
– Мисс Шибуш, – опять подал голос Чарльз Шир. – Лично у меня нет слов. Вы буквально превзошли себя. Послушаешь такое, и ваши идеи поставить всего Данте кажутся почти реальными.
«В этом-то все и дело, – отметила про себя Милена. – Я вижу, мы понимаем друг друга, Чарли. Иногда и между недоброжелателями устанавливается внутренняя связь».
Министр сидел совершенно неподвижно, словно предоставляя вселенной вращаться вокруг себя. Росчерки стилизованного тростника на ширмах уже не смотрелись даже декоративно, таким толстым слоем их покрыла пыль.
«Да уж, для вас, Смотрителей Зверинца, все должно иметь социальный смысл и высокую цель. Служить идеалам общественного прогресса.
Я-то все это делаю ради Ролфы. Ну а Консенсус – что нужно ему?»
– Это вписывается в рамки того, что мы здесь обсуждали ранее, – подвела итог Мойра Алмази низким спокойным голосом.
Карикатурные тростники вокруг безмолвно распадались в прах.
– А СДЕЛАЮ-КА Я САДИК! – с детской игривостью пропищала Троун Маккартни.
Перед ними стояла новая машина. Суть ее состояла в том, чтобы, перехватывая умозрительные образы в головах людей, преобразовывать их в свет. Реформационная технология– так это называлось. Продукт эпохи Восстановления.
Освещение в комнате у Троун Маккартни представляло собой хаотичную мазню. Свет клубился в воздухе, подобно смеси разноцветных жидкостей, не подлежащих смешению. Кое-как, зыбко, очертилась из памяти невнятного вида орхидея. Всплыла и приложилась к кусту с ветками-змеями. Шевелящиеся нечеткие ветки внезапно застыли. Секунду-другую они с цветком еще как-то держались, но потом растаяли: память подвела. Смутно проступала и трава – мутно-зеленым пятном, как на плохонькой акварели. Виднелся плетень с несколькими торчащими из-за него листиками. По небу громоздились закатные облака невообразимых форм и расцветок.
«Да сколько можно!» – негодующе думала Милена-режиссер. Вместе с Троун они стояли на свободном от цвета пятачке посередине комнаты. Вокруг ни звука, ни красок, ни четкости образа. «И это все, что ты помнишь о цветах и деревьях? – поражалась Милена. – И ничего не можешь увидеть четче?»
Ей все никак не удавалось переступить грань и поговорить с Троун начистоту. Она терпеливо улыбалась, хотя на самом деле, кроме гнева, ничего не испытывала. Постоянно отпускала комплименты, как будто в утешение. И от этого сама от себя приходила в отчаяние.
«Ну почему, – недоумевала Милена, – почему я не могу наконец все высказать?»
Троун запустила в сад свой собственный образ. Наконец-то на фоне общей мазни появилось что-то, что она видела отчетливо. Но эта Троун была не такая, как в действительности. Эта была высокой, стройной, в безупречно белом платье. Незаметным образом у нее изменилось и лицо. Оно теперь было красивым, хотя и с зеркальным эффектом. И с тщательно устраненными недостатками.
Эта Троун как будто скользила по воздуху – легкая как перышко, невесомая. Никаких напряженных жил на шее, так же как и хищно-голодного взгляда.
«Наверно, потому она и сидит на диете, – подумала Милена. – Хочется иметь сходство с этим феерическим созданием". Создание танцевало, гибкое как балерина, с тонким станом, руки словно лебединые шеи.
– Вот она, красота! Красота ведь, правда? – осведомилась Троун требовательно.
Сложность неправды в том, что, говоря ее, приходится прибегать к актерским уловкам. У Милены это получалось не всегда. Она нервно шевельнулась в своем стеганом комбинезоне:
– Да-да, как раз тебя видно очень даже отчетливо.
Троун, похоже, уловила истинный подтекст фразы.
– Ты же понимаешь, что это новая технология. Прежде этого еще никто не делал.
– Конечно-конечно, знаю, – поспешила согласиться Милена, чтобы не быть заподозренной в критиканстве.
– А вот ты сама попробуй! – предложила ей Троун. – Ну-ка, давай!
Взяв Милену за плечи, она поставила ее перед Преобразователем. Стоять надо было в прямом поле зрения. В голове словно отошел какой-то проводок – будто бы прямо по центру головы исчез свет и теперь пребывал в машине.
– Не пугайся! – Троун стояла скрестив руки и снисходительно покачивала над бедняжкой Миленой головой. – Просто попробуй что-нибудь представить, и посмотрим, как оно у тебя получится.
Как всегда в присутствии Троун, Милена почувствовала себя скованно. Даже трудно было что-либо представить. Вместо этого она попыталась вспомнить.
Сад.
В памяти всплыл осенний день, запах почвы и опавших листьев. Стая гусей в вышине, утки крыльями чертят по застывшей зеркалом воде. Вспомнились клумбы с кустами роз: запоздалые цветы с листьями в бурых пятнышках, уже снедаемые первыми заморозками идущих на убыль дней.
Вспомнилась Ролфа в Саду Чао Ли. То, как она сорвала для Милены розу и какой вызвала этим поступком переполох. Вспомнилась увесистость чуть покачивающегося в руке бутона и колкие шипы на стебле. Вспомнилась одна-единственная круглая капля росы, жемчужно блеснувшая на солнце.
И тут внезапно rosa mundi– Роза Мира – проросла в комнате. Она заполнила ее своими массивными махрово-розовыми лепестками в крапинку, с буроватыми вьющимися ободками по краям и мягкой, слегка волнистой сердцевиной. Неподвижный вначале бутон теперь слегка покачивался.
Словно пала некая преграда: комната начала неудержимо наполняться потоком живых цветов. Непонятно, возникали они в воображении, или же Милена просто видела их в комнате. То, что она видела, и то, что представляла, было теперь одним и тем же. Она чувствовала, как поток изливается у нее из головы – будто некий живой вес, порождая, исторгает их наружу. Он медленно разрастался в комнате – калейдоскоп цветов, причем каждый из цветков обладал неповторимой индивидуальностью.
Вот гирлянда липового цвета, где каждое соцветие – словно маленькая звездочка. А вот розовощекие алтеи, которые как будто хотят освободиться от своих высоких стеблей и роняют плотные разрозненные лепестки. Тут же и яркие арумы, дружно поднявшие свои головки со щеточками желтых тычинок. Все это разноцветное буйство мешалось с цветами табака, а короновалось колючими белыми акантами.
Калейдоскоп вращался. Буйство цветов на ветру различалось разом во множестве ракурсов: все раздробленное, фрагментарное – как на полотнах Пикассо – и головокружительным образом стремящееся в сквозную синеву неба, в самую его высь. Но неведомо как ветви и стебли одновременно шли и вниз, как будто небо было земной твердью. Сквозь траву они прорастали в облака, чья влага каким-то образом их питала. Мерно колыхались волны травы – причем если обращать на них внимание, то они придвигались ближе. На свету открывалась каждая клеточка. В каждой из них скрытно шевелилась жизнь – зеленые тельца протеина кочевали из одной внутренней структуры в другую. Драгоценными каменьями высвечивались, попадая под солнечный луч, жуки, тут же чутко застывая в ожидании, когда луч пройдет мимо. Виднелась тоненькая корочка почвы, порождающая мелких, суетливо извивающихся созданий бежевого цвета. А зеленые стебли розового куста поднимались к солнцу, словно лестницы.
Внезапно Милена очутилась в капле росы, в самом фокусе света. Солнечный блик плавал в ней, выхватывая крохотные пылинки кишащей в росинке жизни. В ее выпуклой линзе мир смотрелся вверх ногами. Отражалось там и лицо: человеческое, с влажно-черными глазами. Лицо расплывалось в улыбке и вот-вот собиралось заговорить…
Но тут Милену толкнули. А вся картина, зыбко колыхнувшись, исчезла.
Милена ошарашенно огляделась. Она находилась в небольшой неприбранной комнате с текучими стенами Рифа.
На нее в ожесточенном изумлении таращилась Троун.
– А я и не думала, что ты у нас ученый-садовод! – пропела она с ядовитым сарказмом. Лицо у нее было кислым, во взгляде чувствовалось что-то вроде паники. Грудь Троун поднималась и опадала, а ноздри раздувались от плохо скрываемой ярости.
– Это моеоборудование, – сказала она вкрадчиво тихим голосом, – и не смей его лапать.
Милена, неожиданно оторванная от своих цветов, все еще пребывала в растерянности.