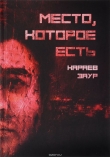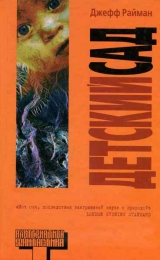
Текст книги "Детский сад"
Автор книги: Джефф Райман
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
Теперь черед осторожничать настал уже для Троун.
– «Да» – в смысле что? – переспросила она, снова меняя позу.
Лицо у Милены пылало. Не зная, как преодолеть сконфуженность, она улыбнулась какой-то медленной, боязливой улыбкой.
– Ну это… Все, что ты говоришь.
Все пошло как-то быстро, покатилось кубарем.
Троун с нервным смешком подобралась ближе.
– А если я говорю, что это может быть опасно? Если ты не знаешь, о чемя спрашиваю?
В комнате будто образовалась гремучая смесь. Как тень от двоих человек, вдруг обретающая свою, обособленную жизнь. Влечение здесь было лишь частью смеси, но при этом оно было редкой, неодолимой силы – которая и толкнула Милену к Троун.
А та с вкрадчивой улыбкой подползала навстречу.
– Ты еще не знаешь, совсем не знаешь, чего я от тебя сейчас хочу.
«Но ведь это так грубо, – мелькнуло у Милены, – так банально. Примитивный вампиризм».
Троун взасос поцеловала ее в шею. «У меня уже бывали подобные фантазии», – отметила Милена, при этом отвечая на ласки Троун. Затем Троун принялась лизать Милене лицо, как леденец.
«А мне это надо?» – подумала Милена, плотно сжав губы и веки. От Троун попахивало потом и дешевыми духами.
– О-о, сладость, коснись меня, коснись…
«Это она к чему? Она что, вправду думает, будто я при этом обезумею от страсти?» Подавшись назад, Троун стянула с себя трико. У Милены между тем желание пошло на спад, сменившись какой-то опустошенностью с легким покалыванием внизу живота.
Сощуренные глаза Троун напоминали теперь рубцы, губы расползлись в оскале. Снова опускаясь на Милену, она отвернула лицо, словно отрицая происходящее.
«Она что, действительно испытывает наслаждение?» – недоумевала Милена.
Кое-как она пробовала подстроиться под свою партнершу. Попыталась принять более комфортную позу, но коврик под спиной все время сминался и выскальзывал. Недолго полежав под самозабвенно ерзающей Троун, Милена наконец легонько похлопала ее по плечу.
– Троун, – сказала она, как будто напоминая о чем-то ей уже известном, – Троун. Ну хватит.
Та на миг застыла, а затем моментально скатилась вбок.
Милена села. Во время возни она успела удариться обо что-то локтем. Взглянула на Троун: та лежала на боку, спиной к Милене, прижимая к себе скомканный коврик. Из-за сидящих в обтяжку штанов Милена, прежде чем встать, вынуждена была неловко сесть на корточки.
– Ты так потому, что я старая и толстая? – спросила с пола Троун, изучая бахрому у коврика.
– Ты не толстая, – сказала Милена, не для того, чтобы утешить ее, а потому, что так оно и было.
Троун села и ядовито посмотрела на нее.
– Да толстая я, толстая. Не ври. – И демонстративно защемила себе складку обвислой кожи на животе. А затем встала и принялась натягивать трико, следя, чтобы эластичная ткань выгодней облегала фигуру.
– Отношения у нас должны быть сугубо профессиональными, никаких вольностей, – резко заметила Троун.
– А не поздновато ли мы хватились? – намекнула Милена с улыбкой.
– Нет! – ответила та, тряхнув гривой. – По крайней мере, что касается меня.
– Ну и хорошо. Замечательно. Рада это слышать, – сказала Милена, потирая ушибленный локоть.
– В работе я беспощадна ко всем, – холодно заметила Троун. Поверх трико она натянула еще и брюки. – Я перфекционистка. А это, доложу я тебе, такая мука: постоянно стремиться к совершенству.
– Не сомневаюсь, что так оно и есть, – согласилась Милена, а сама подумала: «Что-то с этой женщиной не так».Локоть успел полиловеть.
– Ты меня возненавидишь, – заявила Троун со вздохом, будто констатируя факт. В голосе звенел отголосок истины. И будто бы даже чувствовался оттенок обещания. Милена вгляделась в это печальное лицо, пожирающее ее взглядом.
– Ну почему же, – возразила она негромко. Процесс увещевания начался.
ВОЗВРАЩАЯСЬ В ТОТ ДЕНЬ СО СТРЭНДА, Милена неожиданно вспомнила: «А ведь скоро мой день рождения».
Минул уже год, как ушла Ролфа. Эта мысль словно пригвоздила Милену к месту. Она сейчас стояла на мосту Ватерлоо, как раз где они с Ролфой возвращались из того паба, «Летящего орла». В этом году сентябрь выдался жарким, влажным, каким-то субтропическим. Однако именно этим вечером небо прояснилось и приобрело тот самый сливовый оттенок, как тогда, когда они с Ролфой шли домой после знакомства с Люси.
Все так же выглядел свинцовый купол белокаменного собора Святого Павла. Различие состояло в том, что по обоим берегам реки теперь тянулись цепи электрических огней. Свет от них лужами разливался по тротуарам.
«Вот так теперь и будет, Ролфа, – размышляла Милена. – Я буду от тебя отдаляться, все дальше и дальше. А твой образ будет понемногу тускнеть, проступать все слабее, как один из тех огоньков на конце цепи».
Времени разгуливать у Милены особо не было. Сегодня был ее черед смотреть за маленьким Берри. Она медленно побрела, опустив голову.
Год с той поры, как ушла Ролфа; месяц с тех пор, как при родах умер Бирон. Как все же несправедлива жизнь. Он вынес все до конца. Ребенок родился, издал свой первый крик. Бирон еще успел ему сказать: «Ну, привет! С появлением!» А потом оборвалась плацента; кровь брызнула до потолка. И на свете стало одним сиротой больше. Правда, не совсем: у него осталась мать, Принцесса. Просто у нее не было сил его видеть.
Милена прошла мимо ступеней Зверинца и направилась дальше, в Детский сад.
Она вошла в помещение, где рядком тянулись деревянные кабинки с разноцветными картинками. Пахло малышами: молочной смесью, застиранными пеленками, распашонками. Было тепло до духоты, у Милены даже закружилась голова. Няня подвела ее к люльке, где лежал Берри: трехнедельный младенец с вдумчивыми, серьезными голубыми глазами. Он неотрывно смотрел на Милену. «Ну, кто еще на этот раз?» – казалось, говорил этот взгляд. Милена подняла его из люльки; малыш тоненько захныкал.
– Ч-ш-ш. Я знаю, знаю, – сказала она, легонько похлопав его по попке.
Из углов комнаты по застеленному матрасами полу сползались другие малыши. Они тихонько между собой переговаривались.
– Все эти люди, они к нему постоянно сюда приходят…
– Да, но это же не его родители, разве не так?…
Голоски были высокие, писклявые, дрожащие от ревности:
– Его отец умер…
– Мать не приходит к нему никогда. Хоть бы раз навестила…
Умишки малышей изобиловали вирусами. Они умели разговаривать, читать, знали действия арифметики. Шушукаясь, они неотвязно окружали Милену, как какое-нибудь враждебное племя. Звук чужого плача их раздражал, злил. Им невероятно хотелось расплакаться самим – в голос, так чтобы легкие наизнанку. Вирусы побуждали в них желание говорить.
– Почему он не умеет разговаривать? – сердитым полушепотом допытывался один розовощекий бутуз, осиливший ходьбу на четвереньках. – Почему ему не дали вирусы? Ему пора дать вирусы.
Милена им не отвечала. Она лишь молча через них перешагивала. В комнате было душно, ей нездоровилось. Хотелось поскорее отсюда уйти.
Она толком не знала, почему ей здесь так неуютно. Ощущение было такое, будто она, опекая, защищает Берри от других ребятишек. Медленно переведя дыхание, Милена почувствовала, что ее бьет легкий озноб. Когда она укутывала маленького Берри в одеяльце, руки у нее подрагивали. Прижав сверток к себе, Милена отправилась на прогулку по тротуару моста, откуда ее взгляд случайно остановился на здании Раковины.
Отражающие закат стекла полыхали огнем. Вот оно опять, то сентябрьское зарево. Вспомнился Джекоб, спешащий к Раковине – разносить сообщения.
«Теперь, благодаря вам с Ролфой, я во сне еще и слышу музыку..»
И вот уж нет ни Ролфы, ни Бирона. Не стало и Джекоба. «Неужели все это сразу, вот так, в один год?» На Джекоба Милена наткнулась одним весенним днем. Безмолвным горбиком он лежал на лестнице, как старенькая тряпичная кукла; как тот костюм с Кладбища. Закатный пожар в окнах прежде казался ей огнем человеческих жизней. Теперь он представал стылым свечением призраков.
Милена остановилась там, где уже стояла однажды, не в силах двинуться. «Как я очутилась здесь?» – недоуменно думала она. Как оказалась здесь, с этим чужим ребенком на руках, с еще не выветрившимся запахом Троун Маккартни по всему телу? В мире, куда опять вернулись голограммы и электрические огни. Ощущение времени вызывало у Милены головокружение. Как какая-нибудь мощная, неистово крутящаяся воронка. Время будто швырнуло ее на скорости через гигантское, немыслимое расстояние – разъединив с собой, разлучив с прежней жизнью. Как будто она, Милена, мчалась на все набирающем ход поезде, не знающем остановок. С шумом мелькали мимо станции ее жизни: шестнадцать, семнадцать, восемнадцать… И с поезда этого никогда не представлялось случая сойти.
Было уже темно, когда Милена поднялась к себе в комнату. В сущности, она мало изменилась с той поры, когда здесь обитала Ролфа; ну разве что стала немного опрятней и вместе с тем более пустой. Ребенка пора было перепеленать. Милена сама удивлялась, как сноровисто она наловчилась менять пеленки, ориентироваться во времени кормления. Приведя малыша в порядок, она уложила его в гамачок и стала покачивать.
Берри начал напевать. Голосок у него был высокий, серебристо чистый, причем пел он вполне конкретные мелодии. «Интересно, насколько это нормально для ребенка – петь прежде, чем начать разговаривать?» – задумалась Милена. Берри, похоже, уловил ее мысль и улыбнулся. «Уж не Нюхач ли подрастает?» – промелькнуло у нее в голове. Песни он пел именно те, которые напевала ему сама Милена: темы из «Божественной комедии».
Она зажгла на подоконнике свечу и раскрыла большой серый фолиант. Здесь Милена искала и обретала себя. Вот она взяла лист из аккуратной стопки нотной бумаги. И приступила к работе.
Милена делала оркестровку «Комедии». За год, истекший после ухода Ролфы, она дошла до начала Восьмой песни. Всего песен было сто. Данте и Вергилий достигли реки Стикс. Милена смотрела на крохотные нотки, по одной на каждом слоге. Почему все же некоторые из них написаны красным? В уголке карандашом значилась надпись:
«Трубы сияют, как блики на воде. Мрачно-торжественно и одновременно радостно (комедия как-никак)».
«Как, интересно, можно сделать так, чтобы рожки звучали разом и мрачно и радостно?»
Как говорится, выше головы не прыгнешь; сделать можно было лишь то, что представлялось возможным. «Сделай вид, что “Комедия” – это просто переложение, – внушала она себе. – Вокальная версия оркестрованного оригинала. Будто бы ты меняешь местами причину со следствием, и партии рожков, которые пишутся в “соль”, здесь прописываются в “до”. Никаких диезов, никаких бемолей – вирусы сами подскажут, где их нужно проставить».
Милена, поглощенная работой, начала записывать. А маленький Берри – подмурлыкивать в унисон.
дорогая рыбка
Милена вспоминала письмо. В памяти она представляла его со всей достоверностью: и то, как падал на страницу свет, и микроскопические сгустки в чернилах. В письме было следующее:
извини насчет прозвища но я думаю о тебе именно как о рыбке – не хочу чтоб ты на это обижалась так что если тебе очень уж не нравится скажи и я какнибудь исправлюсь – отвечая на твой вопрос – я в целом считаю себя канадкой – арктика не одно и то же что антарктика – там и цветов и деревьев больше – а антарктика просто пустыня – но я все равно ее люблю – так вот ролфин отец он чистый англичанин через это мы с ним и расстались и боже меня упаси жить в южном Кенсингтоне
так что я теперь снова в антарктике – место не очень изменилось – сплошь синеватый лед да синее небо – собаки мои меня тут же узнали – боже ты мой – ох уж эта любовь в собаках – ты просто не поверишь – уж они вокруг меня и юлили и прыгали и тявкали и выли гавкали – так что никакого сомнения нет что они тебе от души рады – собаки просто чувствуют больше чем мы – я в этом уверена – никогда не видела чтоб люди так радовались при встрече – ты уж не обижайся я просто пытаюсь чтоб ты думала о собаках чуть теплей после того что случилось в том году
так что сижу вот сейчас здесь возле старой своей спиртовой лампы и завтра утром опять снег отбрасывать с моими собаками и ем сейчас подстывшую тушенку из банки середина у нее так и не оттаяла но я все равно довольна просто не могу
ролфа со мной не поехала – сказала что не хочет и я уж ей не говорю но теперь на самом деле понимаю что она сама не знает чего хочет – никогда еще никого не видела растерянней бедной девочки моей – приводила тут одного суслика щупленького прещупленького – в чем только душа держится в шортах майчонке волосы как у чипполино – у папы аж шерсть дыбом встала – ну и понятно расстались почти так же сразу – она сказала что съела того суслика на завтрак я так даже и поверила – так знаешь рохля-то моя ох какой агрессивной иной раз становится – тут незадолго перед моим отъездом как ЗВЕЗДАНЕТ своего братца – теперь он уже чертяка здоровенный с дом – он что-то такое брякнул не то ну и подавился собственными зубами – последнее что я о ней слышала это что она штудирует БУХУЧЕТ – так что давай пиши – мне так нравятся твои письма – я от них смеюсь – хотя и понимаю что истинная причина такого участия к пожилой антарктической леди это что ты просто хочешь узнать что там происходит у ролфы – так что все нормально – как что нибудь узнаю тебе сообщу
твоя подруга гортензия пэтель
Милена перестала крутиться в воздухе штопором.
Кто-то удерживал ее снизу. Высоченный, худющий, со скованной улыбкой, словно ножом вырезанной на напряженном лице.
– Вперед надо перебираться шажками, мелкими, ноги в коленях сгибать, – инструктировал он с явно американским акцентом. – И старайтесь держать ровновесие. Так и надо двигаться при невесомости. – Он убрал руку. Милена, качнувшись, застыла на месте: получилось.
– Ну вот видите, – одобрил он. – Учение на пользу пошло.
– Угу, – сказала Милена виновато. – Я всего вас испачкала, плечо чуть не вывихнула.
– Меня зовут Майк Стоун, – представился тот. – Астронавт.
Милена рискнула протянуть ему руку для рукопожатия. Теперь она могла сохранять равновесие.
Небо снаружи было наполнено звездами, звездами памяти.
«Ролфа, – казалось, шептали они, – Ролфа где?»
СЧИТЫВАНИЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ. Вот, оказывается, какое оно. Милена лежала на полу. Сначала она подумала, что находится в Пузыре: пол был податливым и теплым, как живой. Лоб Милены покрывали бисеринки пота. В противоположной части скупо освещенной комнаты стояла, подперев ладонью подбородок, толстенная бабища в белом и разговаривала, время от времени покачивая головой. Это была Рут, здешняя сиделка. Тут же сидел Майк Стоун, Астронавт, на каком-то странном стуле.
«Когда это было? – отрешенно подумала Милена. – Когда произошло? Не помню. Где мое Сейчас?»
Рут, оглянувшись через плечо, увидела, что Милена пришла в себя. Округлив глаза, она торопливым кивком на полуслове прервала разговор и поспешила к Милене, опустив руки вдоль пухлых боков. Она нагнулась сверху, руки уместив между коленями.
– Извини, лапонька, – сказала Рут озабоченно, – но, боюсь, придется считать тебя еще раз.
– Как, опять? – прохрипела Милена, чувствуя себя абсолютно разбитой.
– У него многое не отложилось. Ты у нас какая-то безмерная. – Рут погладила ее по спутанным вспотевшим волосам. – Ты, лапонька, не даешься, что ли?
– Что ему еще нужно? – спросила Милена. Ведь у Консенсуса уже все есть.
– Тут понимаешь, в чем дело. Он ничего не зафиксировал из твоего детства, вообще ничего. И еще эта Ролфа. У тебя очень подробные, цельные воспоминания о ней. Судя по всему, она для тебя очень важна. Так что Ролфа нужна ему тоже.
«В самом деле? – подумала Милена устало. – Для чего?»
– И очень тебя прошу, не брыкайся, – неожиданно попросила Рут с печальной серьезностью в голосе. – А то ты так брыкаешься, ушибиться можешь. – Она пристально, изучающе посмотрела на Милену. – Ну что, готова?
– Зачем им нужно Прошлое? – окликнула ее Милена. – Ведь они твердят, что мир состоит исключительно из Сейчас?
– Потому что Прошлое – это ты сама, – ответила Рут, выпрямляясь. Слышно было, как она удаляется, шурша одеждой.
«Вся моя жизнь, – подумала Милена. – Вся моя жизнь, оказывается, проживается не мной самой».
И тут пространство колыхнулось, будто в мареве зноя над шоссе. Колыхнулось и, набирая скорость, подрагивая, покатилось к ней. Это была волна – одновременно в пространстве и во времени – волна в пятом измерении, где образуют единое целое свет, мысль и гравитация. Она подкатилась к ней, подрагивая, как от желания; ожидая, что Милена вот-вот станет открытой книгой, которую можно будет считать.
«Ролфа, где Ролфа?» – «Там же, где и всегда: здесь, со мной».
«А Сейчас, где мое Сейчас?» – «Оно здесь: в той точке, где я борюсь с Консенсусом».
Волна, гулко грянув, накатила на нее, проходя насквозь, взмывая по ответвлениям нервов, словно смывая ее, всю Милену, без остатка.
И лишь память о Ролфе высилась скальным обелиском, за который можно было уцепиться. Чтобы удержать, сохранить себя и ее.
Все остальное поглотил шквальный рев.
Глава десятая
Внимающие дети (Древо Небес)
МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА СЕБЯ В УТРОБЕ.
Все ощущения были без имени, без названия, не имеющие отношения ни к какой морфологии. Был свет – оранжевый свет, сочащийся вокруг, проходящий насквозь. Была пульсация, вызывающее сладкую дрожь биение, благодатной теплотой прокатывающееся сквозь нее.
И была музыка.
Неясно различимый среди биения, звук скрипки был вкрадчив и мягок, далекий, как сон. Это был скорее свет, чем звук, – укромное чувство безымянного комфорта. Музыка чуть покачивалась, и вместе с ней покачивалось облекающее Милену тепло. Ее мир двигался вместе с музыкой. В пульсации ее крови наблюдался некий танец – танец любви, химического высвобождения, от которого наступало восхитительное покалывание. Милена чувствовала музыку, потому что ее чувствовала мать.
Ее мать создавала эту музыку. Ее мать играла на скрипке. Для взрослой Милены Вспоминающей это была просто знакомая музыка. Она знала, что это фрагмент из Бартока. Для нерожденного ребенка музыка была ощущением физическим. Нерожденная Милена напевала вместе с музыкой, как будто сама была струной инструмента; как будто мать играла еще и на ней. Музыка приподнимала и покачивала, с ней можно было подниматься и опадать.
«У меня никогда не было такого ощущения, – думала взрослая Милена Вспоминающая. – Так, как тогда, музыку я больше никогда не чувствовала». То было иное состояние бытия: нежное, теплое, слегка подвижное, сокровенно интимное. Кровь и околоплодные воды ласкали ее; всего касался свет, сочащийся сквозь плоть; все звуки доносились сквозь тягучий ток крови и вод. Все это напоминало купание в чем-нибудь сладостно изысканном – например, лимонном шоколаде, – с той разницей, что вкушаешь его всей кожей. Подобно тому краткому, невыразимо приятному моменту (не обязательно связанному с оргазмом), когда секс – чистое наслаждение.
Неудивительно, – подумала Милена Вспоминающая. – Неудивительно, что секс так притягателен. Он – попытка воссоздать то самое волшебное ощущение».
Младенец пробовал танцевать: он шевелил ножками. Само ощущение движения было для него внове. Способность двигаться – это была сила.
А потом музыка смолкла.
Откуда-то снаружи, сверху, послышался приглушенный голос, послание из внешнего мира. И это послание было празднично радостным. Взрослая Милена Вспоминающая почти различала смысл слов. Теперь казалось, что их будто произносил призрак. Помнился и тон, и тембр, и перепады интонации. Это был призрак ее матери.
Уши и нос у младенца были до поры запечатаны, но желания дышать не возникало. Милена была едина со своим миром, и то был мир любви.
И ОНА ВСПОМИНАЛА, как мир исторгнул ее наружу.
От нее вдруг отхлынули воды. Над головой сомкнулась завеса – все еще теплая, но уже какая-то резкая. А затем последовало содрогание, вытеснение. Мир стремился от нее избавиться, выталкивал наружу. Ясно было одно: причиной тому – она сама. Пришлось взяться за дело самостоятельно. Возможно, так себя ощущает старый расшатавшийся зуб. Так что Милена снова прибегла к открытой недавно силе – возможности двигаться. Но мир вокруг от этого только сломался. Нахлынул непередаваемый ужас и страх, но более всего огорчение, как будто она причинила этому миру боль.
Мир бесцеремонно ее выталкивал, уже не лаская, и ребенок познал смерть – смерть прежнего мира, – поэтому, рождаясь, безутешно горевал.
Для взрослой Милены Вспоминающей ощущение было подобно американским горкам – какие-то взлеты, затем внезапные обвалы. Причем все здесь было непередаваемо важным: доносящиеся сквозь плоть звуки, скользящий шум разделения, языками качнувшиеся стены, ухающий гул в ушах и венах. Мир разомкнулся, подобно губам.
С головокружительной быстротой изнаночная часть стала наружной, словно бы Милена вылупилась сама из себя и они, мать с дочерью, в один миг поменялись местами. А исторгшая ее внутренняя часть за секунду поглотилась.
Прошло несколько мгновений, каждое из которых было отдельной вселенной, прежде чем Милену окутал воздух. Воздух был некоей иной средой – чем-то сухим, палящим. Он ожег ей лицо, ожег все тело. Полыхал слепящий свет, отовсюду проникали какие-то нестерпимо едкие газы. Ребенка схватили за лодыжки, и там, где ее держали, кожу опалило особенно яростно, с шипением – ей что-то прижгли.
Внезапно она забарахталась, сопротивляясь происходящему. В ней что-то вздувалось, набухало – только теперь не снаружи, а где-то внутри, причем меньше ее размером. Воздух как наждаком царапнул язык, проникая в горло. И по мере того как расправлялись, набухая воздухом, лепестки ее легких, Милена, впервые набрав его в грудь, разразилась истошным криком, как будто ее мучили.
Ее опустили на мягкое тепло, отчего ненадолго вернулась иллюзия благоденствия. Уже не так гулко стучало в ушах, а воркующий снизу голос успокаивал. Она лежала на вершине своего прежнего мира. Теперь она попирала его собой. Этот мир располагался слоями. На спину ей опустились две теплые панели – шероховатые, но дающие уют. Они ее притиснули и как будто подталкивали. У младенца появилась надежда: может, его возьмут и затолкают обратно внутрь?
В этот момент рядом на большой плоскости что-то, упав, стукнуло, да так, что громыхнуло в ушах, отчего ребенок опять зашелся плачем. Он плакал по непостижимой огромности вещей, по уже формирующемуся чувству неизбежной необходимости все их со временем постигать. Голос внизу утешал, теплые пальцы ласкали, и ребенок вспомнил о том, что утратил. Но голос словно говорил: «Не переживай: все, что у тебя было, по-прежнему с тобой, просто оно теперь другое. Здесь, но другое».
Свалившаяся на ребенка жизнь являла себя слой за слоем. Вот легкие, они дышат. А это два разных сердца, они бьются. И все органы с их поверхностями и скрытыми внутренними пространствами – все они разворачивались, беря начало один в другом, как цветной узор в калейдоскопе.
Ребенок так и остался на животе у матери, где и заснул. Ему снились туннели света, полные жидкости запечатанные пространства и погруженные в нее невнятные предметы – теплые, упруго податливые, приветливые на ощупь.
МИЛЕНА ВСПОМИНАЛА, как ползала по полу.
Она вспоминала коврик с бахромой, и тканый концентрический узор орнамента. Он забавно струился у Милены под пальцами и пах кошкой.
Старый мир был теперь позабыт, его напрочь затмило богатство нового, теперешнего. Ребенок поднял голову: мир тоже казался каким-то концентрическим, состоящим из узоров.
«Как на рисунке Пикассо», – подметила взрослая Милена Вспоминающая.
В этом ее втором, и теперь уже тоже позабытом, мире была комната – кстати, знакомая не более, чем новые земли первопроходцу. В ней все было перемешано, все шло слоями; не комната, а какой-то фотоколлаж. У тамошних предметов оказывалось столько сторон, что даже трудно было уяснить их форму. Например, бока и тыльная сторона кресла влекли к себе не меньше, чем ее передняя часть. Они то попадали в поле зрения, то уходили из него, сменяя друг друга: вот они здесь, а вот их нет. Все облюбованные ею вещи, казалось, специально подходили поближе, чтобы познакомиться, и приглашали до себя дотронуться.
Вот, допустим, носик лейки для комнатных цветов (взрослая Милена Вспоминающая вспомнила ее как-то резко, рывком). У лейки была щербатая навинчивающаяся насадка с дырочками, из которых вода начинала течь восхитительно тонкими струйками. Глаза ребенка сосредоточивались на этой насадке и как бы сводили ее в единый зрительный фокус. А вокруг нее мир терял резкость, распадаясь на грани, как если смотреть на свет через прозрачный граненый камушек.
Ребенок, потянувшись, потрогал лейку, чувствуя несговорчивость насадки: жесткая резина ни за что не хотела сниматься с носика. Тогда Милена попробовала ее на вкус: как у хвойных иголок. Он держался на языке, на губах – непонятно, противный или нет.
Сзади послышался теплый, хотя и предостерегающий голос:
– Ne, ne, Milena. Ne, ne.
«Ne» было достаточно странным словом, неистощимым на всевозможные значения. Когда оно произносилось, надежнее всего было замереть. В устах взрослых оно имело какой-то могущественный смысл. А вот если его произносила она (а она это время от времени делала – повторяла, и даже головой трясла), выходило почему-то неубедительно, и никто на него не реагировал и не боялся.
В поле зрения появлялись бежевые штанины. Мужчина, высокий тощий бородач. У него тоже было несколько лиц, пока Милена не свела их в единый фокус. Милена узнавала этого человека по его бороде, по черным глазам, по жилам на руках. Когда руки бывали настроены дружелюбно, мир ощущался со сплошным восторгом. Они поднимали ее вверх, подбрасывали – такие сильные, добрые – и усаживали куда-нибудь повыше; скажем, к отцу на шею. Милену теплым чмоком целовали в макушку. А затем расстилали перед ней скатерку, и руки отца принимались за шитье. На столе лежало столько всего занятного: иголки, шпульки, катушки с нитками. Свет на иголках был искристым; если прижмуриться, казалось, что это сияет речка. Милена тянулась к иголкам.
– Ne-ne, Milena, ne-ne, – что можно было истолковать, как «иголки нельзя, свет тоже нельзя».
– Milena! Ku-ku! – звал голос снаружи комнаты. Слова были как сигналы – полные скрытого, но не вполне внятного смысла, все равно что подавать их флагами.
Милена неслась на зов. Отец опять подхватывал ее и подбрасывал. Воздух овевал ее теплыми струями, и Милена взирала на мир сверху – на то, как далеко внизу кружится перед глазами коврик. Она радостно взвизгивала и заливалась смехом. А потом Милену по ее просьбе на бегу проносили через коридор (куда, казалось, сходились все комнаты в доме) и выпускали в сад.
Вот он, по-прежнему в ее памяти, как будто место может, умерев, сделаться тихим призраком. Вот скамейка – ножки и спинка; теплые деревянные балясины, по которым пятнами ходят изменчивые тени. Откуда они берутся, эти тени, что приводит их в движенье? По небу неслись серебристые, набегающие друг на друга волны облаков с сероватым подбоем. По оконной раме ползли побеги плюща. А там, дальше, тянулись ввысь деревья. Еще выше, чем плющ, и туда, в самое небо, к облакам.
Ребенок иногда подолгу на них засматривался. Деревья превосходили всякое воображение. Их нельзя было придвинуть взглядом к себе, они не фокусировались в глазах.
И mami– вон она, направляется к ней по островкам трепещущей от листвы светотени.
«Mami» – слово, вбирающее в себя целый букет понятий о женщине: улыбчивость, тепло, красный брючный костюм. Mami наклонялась и целовала ее. У Mami было красивое лицо. Затем оба родителя подхватывали Милену за руки, каждый со своей стороны, и проносили к столу. На столе стояла ее любимая красная ваза. Милену усаживали, повязав на груди салфетку.
– Ne, – говорила она при этом, но ее протест оставался без внимания. Прохладная ложка сладковатого детского питания подносилась ей ко рту. Милена пыталась есть сама, но ей не давали, и она в конце концов смирялась.
Детское питание было вкусным-превкусным, и от этого тянуло хохотать. Mami от этого тоже смеялась; она была рада, когда радовалась Милена, поэтому Милена принималась смеяться снова. На столе стояли красные, забавно округлые штучки, по которым колотили, чтобы вычерпнуть из них густое содержимое Милене на тарелку.
Солнечный свет чуть припекал кожу, и под ней что-то зачесалось. Милена взглянула себе на руку и стала осматривать ее гладенькую поверхность со всех сторон. И увидела, как над одной из пор как будто приподнимается крышечка, совсем малюсенькая. Из нее что-то рождалось. Такого же цвета, что и сама Милена, – светло-бежевого. Эта крохотуля тихонько шевелилась. Милена была в восторге. Вот как, оказывается, произрастают вещи, одна из другой? И вот так же, наверно, произрастают из людей миры? Или наоборот, вот так же люди произрастают из вещей – возможно, из деревьев?
Слова были как сигналы флагов. Mami разговаривала, как разговаривает ветер, и слова утешали. Слова подразумевали, что эти вот крохотульки – хорошие. Mami вытянула свою длинную руку рядом с короткой рукой Милены. На ней тоже были эти крохотульки-клещики.
У Милены теперь появилось что-то свое. Она взглянула на своего клещика и поняла, что они защитники друг друга. Милена прониклась любовью к этой крохотульке, такой почти незаметной, но живой. Сам собой сложился вывод: «Я выращиваю из себя вещи».
Деревья вздыхали на ветру. Солнце припекало белую стену, отчего побеги плюща на ней оживали светом. Щебетали птицы. Смеялись люди. Этот мир тоже был раем.
Калейдоскоп по-прежнему вращался.
МИЛЕНА ЛЕЖАЛА у себя в кроватке, в темноте, но темнота была недоброй.
Смешливые лица игрушек за сеткой теперь злобно посмеивались над ее дискомфортом. Простынка липла к телу, став противной на ощупь кожурой, и от Милены исходил запах – кисловатый, отчего покой сменялся тревогой. Ребенок знал: безмятежный до этой поры мир нарушен. В руках, в ногах, в голове противно зудело. Полое гуденье расходилось по ответвлениям нервов. До этого момента ребенок не знал, что состоит из ответвлений.
«Вирус, – определила Милена Вспоминающая. – Видимо, мне впервые ввели вирус».
Ребенок захныкал, словно ему хотелось изгнать вирус.
Открылась дверь, и ребенок завозился: появилась надежда на избавление. Милена сглатывала звуки своего плача, чутко выжидая. Трепетно замелькал свет, из-под абажура мигнула лампа, но свет этот был тоже не желтенький, а тускло-оранжевый, какой-то недужный. Подошла mami и, воркуя, нагнулась над синей кроваткой. Она вынула из нее Милену, ласково пошлепала, но ничего не изменилось. Сидя у матери на руках и терпеливо снося раздражающее подбрасывание, Милена ощущала: mami с ней неискренна, она что-то замыслила. Мать что-то ласково ворковала, но чувствовалось: интонации не те, наигранные. Казалось, mami знает и специально хочет, чтобы она болела. Самих слов ребенок не понимал, но чувствовал их скрытый подтекст. Каким-то образом в ее теперешнем самочувствии была замешана мать, она была с ними заодно. Весь мир казался недужным, больным, искаженным, вышедшим из берегов мутной водой. В него вторглись: но не музыка и любовь, а что-то чуждое.