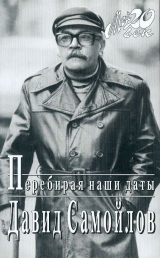
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Из дневника восьмого класса
Евгения Васильевна Можаровская не была родной дочерью Василия Яна. Не знаю, вследствие каких обстоятельств дочь кипчакской княжны Бурмантовой попала к Василию Григорьевичу и была им удочерена. Видимо, обстоятельства эти были известны Евгении Васильевне, ибо фамилию ее матери взял псевдонимом ее муж, писатель Николай Иванович Можаровский – Бурмантов, автор любопытной исторической повести «Смерть У ара».
Все это выплыло на свет после нечаянной смерти Марии Алексеевны. Но так как явно относилось к романтическому периоду жизни Яна, у меня не хватало смелости расспрашивать о подробностях этой истории.
В облике Евгении Васильевны явно проявлялось ее восточное происхождение. Она была небольшого роста, брюнетка, глаза чуть раскосые и татарские скулы. Все это, впрочем, не лезло в глаза, а понималось лишь потом, потому что в воспитании Евгении Васильевны, в ее хорошей образованности, в манере держаться и речи не было решительно ничего инородского.
Евгения Васильевна была женщина литературно одаренная, живая, легкого характера и склонная к увлечениям. После развода с Николаем Ивановичем эта склонность сильно украшала ей жизнь. Она всегда окружена была поклонниками, которые, как дело доходило до женитьбы, давали задний ход. Но тут же появлялись новые, и Евгения Васильевна, истинная душечка, становилась то любительницей музыки, то поклонницей поэзии, то сторонницей серьезных прозаических жанров. Литературу, однако, она действительно хорошо знала и любила, и, видимо, вследствие этого большинство ее пассий были писатели. За одного из них, Данилу Романенко, она со временем вышла замуж и, как говорят злые языки, написала за него историческую повесть «Ерофей Хабаров», как прежде будто бы сильно способствовала написанию «Смерти У ара».
После периода увлечений Евгения Васильевна занялась историей театра, переводила книги по театру и читала лекции в ГИТИСе, где оставила по себе добрую память.
Я, однако, вернусь в ту пору, когда Евгения Васильевна была молода и служила для нашей семьи одним из окошек в литературный мир.
На сей раз она пришла к нам в гости в сопровождении молодого поэта и критика Ярополка Семенова.
Вот что писал я о нем, будучи в возрасте пятнадцати лет:
«Это молодой человек (лет около тридцати), высокий, красивый, с живыми глазами. Судя по его виду и речам, он кажется человеком искренним. Я, по крайней мере, просто влюблен в него».
Преодолев всегдашнее смущение, я читал ему стихи, и, как сказано в дневнике, «он первый судил меня и указал мне мое место, мое призвание и мой путь».
Была у меня тогда драма в стихах «Спартак», переделка одноименной повести В. Яна. Я прочитал Семенову песни оттуда.
– В этих песнях мне нравится честная работа, – сказал Ярополк. – Они похожи на хороший перевод, кропотливо и честно сделанный. В них не видно еще самостоятельности, но если эта честность останется в тебе и впредь, то ты сможешь многое сделать.
Похвалил Семенов и мою историческую поэму «Жакерия». Я принялся за лирику. Лицо его было сурово:
– Знаешь что, а это хуже. Гораздо хуже. Стихотворение это звучит протестом против всех блестящих формальных достижений. Я согласен, что современная поэзия тенденциозна, но не следует игнорировать хорошее… Ты сбился с пути. Представь себе снежное поле. Ты идешь по нему, и вдруг стало легко идти. Ты смотришь и видишь, что идешь по чужим следам, мысль твоя идет по уже проторенной дорожке. Но не забудь, что дорожка эта всегда ведет куда‑то в сторону. Вот, например, твои анапесты ведут прямо к Надсону.
Я пообещал ему сойти с дорожки и протаптывать ее самому. Никто до этого так серьезно не говорил о моих стихах. Я был в восторге от его мыслей. Многие его предсказания сбылись впоследствии.
Вот какие мысли высказал тогда Ярополк Семенов:
– У тебя есть глубокий дар, но если ты хочешь чего‑нибудь добиться, ты должен честно и упорно работать. Ты добьешься своего, если люди смогут сказать: «Он был образованнейшим человеком своего времени».
О песне «Чапаев» сказал:
– Песенно, но твой жанр эпический…
…Мне нравится мысль твоего «Сна» (сугубо романтического стихотворения тех времен), хотя и сделан он слабо. «Сон» – это твой будущий путь. Ты будешь обращаться к этой теме много раз, но тебе она будет казаться вечно новой, и ты будешь находить все новые и новые слова для нее…
…Поэт должен быть одинаково самоуверен и недоверчив к себе…
…У тебя, мне кажется, большая воля. Хорошо, что ты веришь в себя…
…У тебя талант не такой, как у Есенина. У того он бил ключом. В тебе он скрыт. Его талант – самородок, твой – золотой песок. Много труда и времени нужно, чтобы извлечь из него золото. Ты не будешь, как Есенин, ты будешь, как Гёте.
Последние слова окончательно сразили меня. И, кажется, еще больше поразили отца, молча и с некоторым недоверием слушавшего Ярополка.
– Ну что? – нерешительно спросил отец, поднимая бокал. – Можно ли пить за будущего поэта?
И Ярополк Семенов твердо ответил:
– Да!
Долго я с восторгом вспоминал Ярополка, но вскоре свидеться с ним не пришлось, ибо, наверное, он недолго оставался в окружении Евгении Васильевны.
Постепенно я забыл его наставления и предсказания и открыл их недавно, когда попался на глаза дневник восьмого класса.
Но с Ярополком Семеновым мне пришлось снова встретиться после войны, в самые трудные и голодноватые мои годы. Он, видно, тоже кое– как перебивался, работая литконсультантом в газете «Московский большевик»: за гроши отвечал на письма графоманов. За письмо платили тогда десятку, деньги ничтожные. Все же Ярополк не справлялся с потоком графоманского творчества, и кто‑то порекомендовал ему меня в помощники. Он давал мне пачку писем и потом исправно рассчитывался со мной. Был я как‑то у него дома (заносил работу), где застал некрасивую, поблекшую и измученную женщину, его жену. Кажется, были и дети. Сам Ярополк тоже слинял. Был на войне, кажется, офицером. Но литературная карьера не задалась. Мы почему‑то не сошлись близко. Помню только, что Ярополк читал мне тогда неизвестные стихи Цветаевой.
Потом до меня дошли слухи, что Ярополк Семенов арестован (кажется, за те же цветаевские стихи). Больше я о его судьбе ничего не слышал.
Встречал людей, знавших его. Но никто не мог мне сказать, при каких обстоятельствах был арестован Семенов и какова его дальнейшая судьба.
Забавен мой дневник восьмого класса, откуда извлек я запись о Ярополке Семенове. В дневнике этом немало словесных красивостей, пустого тщеславия и пустословия. Именно это было причиной чувства стыда за себя, когда я в молодые годы натыкался на свои отроческие записи. Я сам себе сильно не нравился. И по какой‑то случайности не уничтожил свою тетрадь. Только в зрелости, когда стал читать написанное чуть не полстолетия тому назад, обнаружил я и некоторые достоинства той личности, которая когда‑то была «мной». Я увидел непосредственность и правдивость, умение точно изобразить состояние, живой ум, а иногда и краткую беспощадность суждений.
Вот, например, как описано любовное томление тех лет.
Тело и ум тонули в каком‑то приятном томлении. Комок сладкой тоски сжимал сердце. Неотразимое желание порабощало волю, и только одна мысль была в голове: «люблю… люблю!».
Кого? Это было все равно. Далекий смех или песни, тихий шепот в тени пробуждали во мне бурное волнение. И долго не спал я, приходя домой. Слушал сонное бормотание спящих и мечтал. О чем я мечтал? Я даже не знаю о чем. Лишь расплывчатые женские образы мелькали в цветистом хороводе, и из пестроты кружащихся мыслей смотрели на меня голубые глаза.
Ах, голубые глаза! Как часто я влюблялся в них в ту пору.
Весь дневник мой наполнен многочисленными и порой параллельными влюбленностями, еще совершенно лишенными вожделения, но при всей романтической расплывчатости не лишенными известной трезвости ума и понимания перспектив.
«Она умна, он глуп. Это прочно, – пишу я об одном из своих увлечений… – Чувствую нечто вроде ревности, вернее, обиду, что могут кого‑то предпочесть мне».
Девочка из нашего класса дарит мне тетрадочку своих стихов с посвящением:
Тому лицу я посвящаю свои труды,
Чей образ милый живет давно уж в моей груди.
«Если бы тут не было слова «давно», – комментирую я, – то я принял бы это посвящение на свой счет, но это проклятое слово меня удручает».
Милая девочка Наташа Ч.! Каким благородством, чистотой души и ясностью ума веет от ее записок, приведенных в дневнике, в то время как я выламываюсь и щеголяю напускной мрачностью. С какой простотой признается она мне в ответном чувстве и с какой черствостью я охладеваю к ней, едва добившись этого признания.
Скверный малый! – могу сказать о самом себе с поздним раскаянием. По незрелости души я просто не был достоин тогда ответного чувства, потому что просто не знал, что с ним делать. Для меня плодотворной была любовь без взаимности, где бескорыстно расцветали страсти и я раскрывался с большой искренностью.
– Я не была влюблена в тебя, но очень тебе верила, – сказала мне лет через двадцать одна из безответных моих Любовей.
Удовлетворив тщеславие сердцееда, я предавался рефлексии.
Этот период моей жизни, как я сам чувствую, есть главная точка, из которой я буду исходить в дальнейшем. Впервые появилось желание мыслить и чувство мысли. Искания мои разделяются на поиски цели и идеи, на поиски Великого закона, Великой правды и на поиски своей личной этики, того, что «хорошо» и что «плохо».
Цель и идея жизни пока еще не очень ясны мне. В основном они сводятся к созданию общечеловеческого блага. Воображение рисует мне картины борьбы и гибели за идею или триумф поэта – певца общечеловеческой идеи.
Это «или» просто превосходно.
Далее следует, что общественное благо «в общих чертах» сводится к коммунизму Маркса и Энгельса.
Не согласен я только в нескольких мелких пунктах, касающихся внутренней политики, в частности с заимствованием многого из старого. Например, введение в революционную армию чинов считаю недопустимым.
«Великая правда» еще более туманна.
Есть ли правда в нравственном усовершенствовании людей или ее следует искать в божестве, в вере?
Но дальше какое‑то доморощенное берклианство и суперменство:
Каждый человек должен стараться совершить великое. Великая подлость лучше, чем мелкая добродетель.
И уж совсем в другие ворота:
Отречение от идеи возможно, ибо признание своей неправоты не возбраняется. Но отречение из выгоды или из страха – подлость.
И очень характерное:
Самая гадкая вещь – ложь. Надо говорить правду или молчать.
Это «или» еще почище предыдущего. Но через сорок лет я написал:
Во имя зла не разжимать уста.
А любовь?
Она не похожа на глубокую любовь, о которой пишут в романах, но она непреодолимо влечет и иногда заставляет забывать многое.
Какая уравновешенная натура! Всегда противовесы, всегда «или», всегда две возможности и – «многое», а не «всё».
Я читаю не о себе, я даже способен судить этого подростка. Но где– то чувствую, что он поразительно похож на меня и что я сужу самого себя.
Главной чертой наших отношений является непостоянство. Я объясняю это тем, что чувства в нашем возрасте не имеют особого характера целеустремленности.
Позже я объяснял это иначе.
Я склонен к дружбе и легок в ней. У меня много дружеских отношений. Но ближайшими друзьями считаю Феликса Зигеля и Жоржика Острецова. В восьмом классе мы учимся в разных школах, но видимся часто.
Обожаю я этого Зигеля! Он честен, горяч, влюбчив, вспыльчив; фантазер, добряк и идеалист; способен глубоко увлекаться и верить; благороден и открыт. Занимается астрономией и, несмотря на свои пятнадцать лет, занимает почетное место в Астрономическом обществе и даже имеет в своем ведении обсерваторию. В пылу увлечения он думает, что все обязаны интересоваться тем, чем интересуется он. Таскает меня и бедного Жоржа на обсерваторию (особенно достается последнему). Кроме всего, он начитан в философии. Мы часто спорим (он отчаянный идеалист). Мне нравится его искренность. Он верует в бога и, хотя это теперь не принято и может принести неприятности, не отрицает этого.
Совсем другого толка Жоржик. Он рассудителен, замкнут, не поддается никаким юношеским увлечениям, романов боится, весьма умен и принципиален. Всегда держит слово, уступчив в мелочах, но в главном непоколебим. Занимается шахматами, интересуется философией.
Мы составляем трио неразрывной дружбы.
Встретившись, мы обычно шлялись по улицам, сперва делясь душевными тайнами, а потом врезывались в философские споры. Это было месиво из недавно вычитанных мыслей и философских понятий. Мы с Феликсом колебались между марксизмом и берклианством. Жоржик склонялся к юмизму.
Под дождем, снегом часами торчали мы на углах улиц, рассуждая о свойствах вещей или о тождестве личности.
Споры эти были не бесполезны. Постепенно из них вырастало ощущение «своего» и «чужого». Происходила поляризация. Меня все больше тянуло к диалектике, к марксизму с сильным креном в сторону гегельянства. Жорж предпочитал скептицизм.
А Феликс? Феликс, как сказано в дневнике, «докатился».
Еще в прошлом году он начал увлекаться религией. Сперва это носило характер критический. Он заявлял, что у него нет учения, что он все ищет и все критикует. Одно время он даже объявлял себя атеистом и устраивал в школе антирелигиозные лекции. Но все же уклон у него был идеалистический. Читал Челпанова и все больше «совращался с пути».
К весне он объявил себя идеалистом, но христианство отрицал. Он принимал Бога в понимании Спинозы, то есть в некотором сродстве с материализмом.
Он обычно спрашивал: «Почему мы чувствуем материальное «я» слабее, чем духовное?» И одно время признавал две субстанции.
Возможно, что тут известную роль сыграло упрямство, но Зигель утвердился в своих взглядах. Он стал посещать церковь.
Часто ходил на проповеди митрополита Введенского, главы «обновленческой» церкви.
Я однажды был на его проповеди.
Говорил он убежденно, спокойно, несколько туманно. В глазах его был фанатический огонь.
Под влиянием этого проповедника Зигель ударился в Евангелие и… «докатился».
Теперь он принимает христианство целиком, не рассуждая и не критикуя. И дошел до выводов чрезвычайно вредных.
1. Вселенная – создание Бога. Бог – дух вне пространства и времени. Мы являемся частицей его.
2. Христос – Бог, перевоплотившийся в образ человека, чтобы спасти человечество. Своими страданиями он искупает грех.
Примечание. Как может Бог страдать? Если он всемогущ, почему он не может освободить человечество от греха?
3. Единственная цель жизни человека – любовь, вера, служение Христу и христианству.
Примечание. Что лучше, неверующая в Христа добродетель или любящий его грешник?
4. Единственная этика – христианская добродетель.
Примечание. Т. е. правила, противоречащие всякому чувству и человеческой природе.
5. Все неверующие – полулюди.
Примечание. Какая гадость!
Дальше идет поток негодования на голову заблудшего Феликса, а также тревога за его судьбу. Но кончается так:
А все же я преклоняюсь перед его верой и честностью.
Я, несмотря на всю нетерпимость времени, был терпим. А время учило совсем другому. В школе шел спор о том, прав ли Симурден, убивая Говена. И большинство склонялось к тому, что прав.
Честная борьба за идею – выше всего, записывал я в дневнике. Выше Любви, выше ненависти, выше страданий, желаний, стремлений: выше благородства и чести.
Путем убийства, преступления, смерти, презрения, мучений должно достичь ее.
Это написано накануне 37–го года.
Я был воспитан в понятиях умеренных и гуманных. Эти понятия как‑то странно уживались с жестокими идеями времени. И все же в результате понятия оказались долговечнее идей.
Я рос в среде аполитичной. Социальный слой, к которому я принадлежал по рождению, – средняя интеллигенция, не пошел в революцию. Но и не встал против нее. Он медленно привыкал к власти. И даже готов был признать некоторые ее достоинства, поскольку политические катаклизмы и истребление сословий лишь краем задевали его.
Духовной миссией этого слоя оказалось сохранение понятий. И если в нашем обществе сохранились нормальные понятия о чести, достоинстве, терпимости, труде, назначении человека, то это результат незаметного труда наших отцов и матерей, «щипаных» интеллигентов 20–х и 30–х годов.
«Нужно быть честным и добрым… Я хочу быть честным и добрым…» – это, пожалуй, главный нравственный мотив дневника восьмого класса.
Ифлийская поэзия
В ИФЛИ толком занимался я один семестр и даже висел на доске почета. Потом я бесповоротно стал ифлийским поэтом, что не требовало усердных занятий по скучным предметам, вроде истории французского языка. Из ифлийских поэтов хорошо учился один Наровчатов, который какое‑то время числился за тремя институтами. Другие, в том числе Павел Коган, кое‑как переползали с курса на курс именно благодаря репутации поэта.
В ИФЛИ поэтов уважали и студенты, и преподаватели. У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов. Но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились «свои».
Из преподавателей я помню не старых филологических корифеев, которые составляли гордость отечественной науки, а тех, с которыми непосредственно имел дело. И среди них были люди замечательные.
В первый день занятий первые часы был у нас французский… Перед приходом преподавателя студенты, уже успевшие познакомиться, громко и уверенно переговаривались. Особенно выделялся важный и ученый Юрий Кнабе. В этом обществе я почувствовал себя последним человеком и забрался на дальнее место, рядом со скромным пареньком, который, кажется, тоже готов был прозябать в этом блестящем обществе. Паренек говорил с легким английским акцентом, растягивая слова, на нем были не наши башмаки на толстой подошве. Оказался он Олегом Трояновским. Потом он был послом и нашим представителем в ООН. А тогда был сыном посла. И учился до ИФЛИ где‑то в американском колледже.
Нашей преподавательницей французского была Ирина Борисовна Чачхиани, высокая, тонкая, еще довольно молодая женщина. Один ее глаз был прикрыт черной повязкой, отчего и пошли слухи о ее романтической биографии. Человек она была спокойный и доброжелательный. На меня она вскоре махнула рутой, и тройка была мне обеспечена при любых обстоятельствах.
Кроме Ирины Борисовны французский в разных видах преподавали нам еще несколько человек. Из них Розенцвейг, ведавший интерпретацией текстов (был такой сорбоннский предмет и у нас), также махнул на меня рукой. А француз мосье Кацович, занимавшийся словесной практикой, меня люто ненавидел. Яего тоже.
Но вернемся к первому дню занятий.
Главной лекцией этого дня, лекцией для всего курса, была античная литература, которую читал знаменитый Сергей Иванович Радциг. Был он тогда уже, или казался нам, стариком. Он выпевал свои лекции самозабвенно, как тетерев на току. Это производило впечатление.
– А сейчас, друзья мои, я прочту вам прелестное стихотворение Катулла, – говорил Сергей Иванович, скромно добавляя: – В моем переводе.
И затягивал нараспев, вибрирующим голосом:
Ты, кобылка молодая…
Необычное его чтение оторвало нас с Олегом, залезших на самую верхотуру полукруглой деревянной 15–й аудитории, от интересного занятия: я учил его играть в морской бой, игре, неизвестной в американских колледжах.
Кобылка молодая почему‑то рассмешила меня.
И тут же с предыдущего ряда повернулись к нам две прелестные девушки, неземные создания: Вика Волина и Люся Канторович.
– Мальчики, хотите конфет? – спросила Вика, протягивая нам кулек с роскошными конфетами.
В обеих можно было немедленно влюбиться. Но я этого не сделал именно потому, что их было две. Или не помню, по каким еще причинам.
Так, в лекциях и знакомствах, прошел первый день занятий. Но ощущение затерянности и собственного ничтожества в столь избранной среде не покидало меня и в последующие дни.
Из наших учителей любил я чуть не больше всех Марию Евгеньевну Грабарь – Пассек, латинистку. Бородатая и усатая, с небрежно заколотым седым пучком и всегда, даже, кажется, летом, в потрепанном боа вокруг шеи, она похожа была на веселую волчицу.
Отец ее, из старинного ученого рода Пассеков, был ректором Дерптского университета, уволенным за либерализм в пятые годы. В Дерпте вышла она замуж за Владимира Эммануиловича Грабаря, тогда еще молодого специалиста международного права. В описываемое время Владимир Эммануилович был уже старый человек и не у дел, видимо, потому, что понимал международное право с идеалистических позиций.
Возраст Марии Евгеньевны трудно было определить. Думаю, что ей было все пятьдесят. Но она не без кокетства говаривала:
– В мои сорок лет я катаюсь на коньках.
Знала она чудовищно много – и греческий, и латынь, и немецкий, и все литературы, созданные на этих языках. Несколько лет тому назад наткнулся я на превосходный том александрийской поэзии, где много прекрасных переводов Марии Евгеньевны. Оттуда – мое «Подражание Феокриту».
Несмотря на огромную эрудицию, Мария Евгеньевна не превратилась в синий чулок. Она была общительна, весела, добродушна. Грабари охотно принимали в гости любого студента, нуждающегося в совете или помощи. Мы бывали в их загроможденной книгами квартире где‑то в районе Кропоткинской.
На своих занятиях Мария Евгеньевна не любила тишины. Можно было разговаривать, рассказывать разные истории, смеяться и пересаживаться с места на место. Меня любила она за то, что я вносил в эту суету посильную лепту. Например, придумал петь латинские исключения хором. «Пуэр, соцер, веспер, генер», – пели мы на мотив «Барыни». А исключения на «ор» (патиор, мориор) – на манер католического хорала.
Прибегали из других классов. Просили не шуметь.
За мои музыкальные изобретения Мария Евгеньевна по латыни ставила мне пятерки, хотя, честно говоря, я и этого языка толком не освоил.
Не знаешь, как писать воспоминания: по событиям или по лицам. Событие иногда затрагивает несколько или множество лиц. Получается некое смешение. Лица же чаще всего продолжаются во времени. Поэтому приходится постоянно забегать вперед, потом возвращаться к исходной точке рассказа. Это мешает стройности повествования. Я избрал смешанный способ изложения: и по лицам, и по событиям. Иногда лица выделяются в отдельные главы, иногда в основе глав лежат происшествия.
Итак, продолжаю.
Наиболее авторитетными преподавателями в ИФЛИ были вовсе не хрестоматийные корифеи, а молодые (немного за тридцать), связанные между собой узами дружбы и единомыслия.
Это были Владимир Романович Гриб, Верцман и Леонид Ефимович Пинский. Признанным их главой считался Михаил Лифшиц. Вероятно, к ним примыкали искусствоведы Колпинский и Недошивин. А многие сочувствовали или примыкали к ним.
Стиль ИФЛИ определялся, во – первых, академически поставленным обучением языкам и литературе, во – вторых, наличием молодой, талантливой плеяды мыслящих педагогов.
Михаил Лифшиц читал нам факультативный курс эстетики, который посещал весь филологический факультет. Он почитался нами как первый философ «теченцев» – так именовались его последователи. Название это произошло от дискуссии, разразившейся в те годы на страницах журнала «Литературный критик».
Спор был как будто академический: осуществлялся ли реализм Бальзака вопреки его реакционному мировоззрению или вытекал из суммы его мировоззрения. Сторонников второго взгляда окрестили «течением». Примыкать к «течению» было модно в ИФЛИ.
Был еще Георг Лукач, тогда прямой союзник «теченцев» и один из их теоретиков. Но его я никогда не видел.
Спор имел множество аспектов: и борьба против вульгарно – социологических схем, и борьба «классического» реализма против революционного, а заодно и реакционного, модернизма. Время поворачивало к классике, к традиции, к почвенной истории. Тенденция эта только что обозначилась и в том первично – обозначенном виде привлекала многие горячие и ищущие умы.
Лифшиц, в сущности, брал за основу гегельянскую схему развития искусства. Об этом страшно было подумать даже его противникам. Да они, наверное, куда слабей были подкованы философски. К тому же Лифшиц гегельянскую схему искусно завернул в марксизм, да и спроси его, в ту пору искренно считал себя марксистом, автором основополагающего сборника «Маркс и Энгельс об искусстве», где ранний Маркс (левогегельянский) разумно сочетался с поздним Энгельсом, сторонником реализма и «типических обстоятельств».
Борьба с модернизмом, к которому примыкала вся основная западная, а во многом и русская литература 20–30–х годов, была первым становлением нынешней «традиционалистской» и даже «почвеннической» эстетики.
Если бы тогдашние «теченцы» могли это предвидеть!
Но тогда был вкус новизны, серьезности, опыта мировой культуры и прочее, что привлекало к учению молодых.
Казалось, что модернизм, отрицающий традиционные нормы искусства, ведет к фашизму, годится ему в эстетику.
Опыт сорока с лишком лет развития идей показал, что теория реализма и традиционализма может привести к тому же.
Видно, не в эстетике дело.
Со всеми «теченцами» я рано или поздно познакомился. Но это происходило уже после того, как я стал ифлийским поэтом.
А случилось это так.
В ИФЛИ существовал литературный кружок. Но собирался он один раз в году, осенью, вскоре после начала занятий. Цель этого собрания – знакомство с новым пополнением поэтов и как бы прием в поэтическое содружество. В ИФЛИ очень многие писали стихи. Но истинными поэтами чувствовали себя только члены этого неоформленного поэтического братства, куда, к моему поступлению, входили Павел Коган, Алексей Леонтьев, Сергей Наровчатов, Костя Лащенко. Даже печатавшийся Лев Озеров туда не входил.
Довольно много народу собралось в тот раз в одной из аудиторий на поэтическое ристалище. Кто‑то из аспирантов вел собрание.
Сперва выступили прославленные ифлийцы.
Необычайно красивый Наровчатов нараспев читал свою романтическую «Северную повесть». Потом рубил воздух ладонью и с громадным напором декламировал Павел Коган:
Я с детства не любил овал.
Я с детства угол рисовал.
Небольшого роста, коротко остриженный, Костя Лащенко с украинским акцентом произносил лирические строки о лирике и детстве:
Это лирика и детство,
Неминуемость пути.
Читались еще какие‑то стихи, которых я не запомнил. Выступали ифлийские «середняки». Потом откуда‑то выволокли смущающегося Алексея Леонтьева, который понравился, пожалуй, больше всех:
Бродить медведем по лесам,
Валить сосновые деревья.
В траве барахтаться. Плясать.
Явиться лешим из поверья.
И ту, что вышла по грибы,
Манить на топь гортанным смехом
За то, что ты ее любил,
Когда еще был человеком.
Эти языческие строки совсем не подходили к заурядной внешности Леонтьева, к его москвошвеевскому пиджачку, к смущенной улыбке. Все это вместе заставляло подозревать в нем истинного поэта.
Первокурсники были подавлены. На предложение выступить долго никто не откликался.
Тогда поднялся сухой, высокий юноша с ясными голубыми глазами. И весело прочитал:
МАТРИАРХАТ
Стоит вигвам. Над ним луна.
В зеленом небе звезды кружат.
В вигваме пьяная жена
Колотит высохшего мужа.
Все засмеялись. Юноша сел на место рядом со мной. Мы познакомились. Это был Марк Бершадский, талантливый прозаик. Ниже я расскажу о нем.
После Марка первокурсники немного оправились, и на трибуну вышел Костя Климов, глуховатый, смешной Костя Климов, вскоре погибший на войне.
Первая же строфа Костиного стихотворения вызвала гомерический хохот. Там…
Около овина Провожала бабушка Молодого сына.
Не запомнил, куда провожала бабушка своего сына, но Костя, переждав смех, мужественно дочитал стихотворение.
Первокурсники проваливались.
И тут присутствовавшие мои бывшие одноклассницы Лиля Маркович и Эся Чериковер стали выкрикивать мое имя. Все стали вертеть головами, но никто меня не знал. Но имя тоже было смешное, и, ожидая очередной забавы, студенты начали скандировать:
– Дезь‑ка! Дезь‑ка!
Громче всех надрывался мой сосед Марк Бершадский. Я прошептал ему:
– Не надо. Дезька – это я.
– Ну и прекрасно, – воскликнул Марк и вытолкнул меня на середину аудитории.
Делать было нечего, и я поплелся к кафедре читать стихи.
Не помня себя, я прочитал «Плотников». Раздались аплодисменты. Это меня подбодрило, и я прочитал еще несколько стихотворений. У меня их было немного.
На этом закончилось заседание литкружка. Марк Бершадский похлопал меня по плечу. С этого момента мы стали близкими товарищами. Ко мне шел сам Павел Коган. Откуда‑то сверху протянул мне узкую крепкую руку.
– Пойдемте вместе домой, – сказал Павел.
Я был несказанно польщен.
Мы вышли на вечереющую улицу. Павел сказал, что надо подождать его жену. В тайном восторге я подумал, что приобретаю взрослого, уже женатого знакомца.
Втроем мы пошли через Сокольники. Говорили о стихах. Лена, будущая Елена Ржевская, молчала, слушая нас.
Так я был принят в ифлийское братство поэтов.
С Павлом вскоре мы подружились, и я стал часто бывать в той, довольно густо населенной квартире, где жила семья Лены и она с Павлом. Теперь в квартире этой осталась одна Лена. Братья ее, прославившись, старший как инженер, младший как физик – теоретик, давно переселились. Родители умерли. Умер и Исаак Крамов, второй муж Елены Ржевской.
Павел был стремителен, резок, умен, раздражителен и нарочито отважен. Любил рассказывать о хулиганской компании, в которой провел отрочество, и готов был ввязаться в драку. В нем было еще много мальчишеского, даже во внешности – юношеская худоба, «остроугольность», длинные худые руки.
Но лицо его было резко очерчено. Глаза, чуть близорукие и оттого чуть прищуренные, смотрели проницательно и упрямо, иногда с тайной грустью, которая как будто не соответствовала энергичной натуре Павла. Около рта – скорбная складка. Ему самому не свойствен был юмор. Но иногда он смеялся, громко и сухо выталкивая звуки.
Павел любил друзей. Он любил активно вмешиваться в их жизнь. Многое прощал, но, осудив, бывал резок и порывал дружбу. И к тем, кто обманул его, был беспощаден.
В ту пору, когда мы познакомились, большую часть его общения составляли старые друзья из Поселка. Поселком называлась застройка по левой стороне улицы Правды, состоявшая из небольших коттеджей и двора, примыкавшего к большому дому. Там жили родители Павла. Из друзей доинститутских он любил больше всего Жорика Лепского, художника, музыканта, автора музыки к знаменитой «Бригантине». У Павла я и познакомился с ним. Дружба эта длится до наших дней.
Были еще Женя Яковлев, будущий летчик, Вика Мальт, наша ифлийская соученица, Дуся Каминская, Стефан Кленович, сын польских коммунистов, пострадавших в 37–м. Еще несколько человек.








