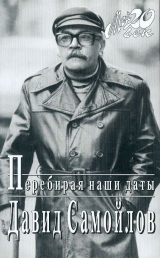
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 39 страниц)
Лишь революция направила осколки взорвавшейся и распавшейся черты оседлости в сторону России. И именно тогда началось вживание этих осколков в тело имперской нации. И осознание еврейского элемента частью этой нации.
Мой отец, как уже было сказано, был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности. И понимал подспудно, что процесс вживания труден и связан не только в уравнении в правах, но и в ощущении исторического права, которое рождается поколениями, которое результат реального вклада в жизнь нации. Большинство «комиссарской» части пришлого в Россию еврейства начинало с прав. Отец начинал с обязанностей.
Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации.
Дискриминация – черта несложенности, незаконченности процесса. Она черта неокультуренной истории, невозвысившегося сознания.
Органическое ощущение себя внутри исторической эволюции отодвигает всякую обиду на дискриминацию. Попробуй обижаться на исторический процесс! Достаточно его понимать.
Отец наделен был этим чувством справедливости исторического процесса, вероятно, не понимая его сверхзадачи, зато прекрасно ощущая его конкретику.
У него не было обиды на русскую нацию за непринятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался. Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей – министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным. Могло показаться, что он вообще не любит карьеристов. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские. Что это естественно и претендовать на это не стоит.
Он считал своей обязанностью делать дело честно и самоотверженно и в нем соединяться с честной и самоотверженной частью русского общества – с интеллигенцией его призыва.
В его сознании, где было три основных данности, профессия врача была четвертой. Он так же не обречен был стать врачом, как и стать русским евреем. Но силою обстоятельств повернутый на эту стезю, он принял как данность все нравственные обязательства, связанные с этой профессией.
Утверждение, что Гитлер уничтожил русских евреев, не совсем точно. Он уничтожил черту оседлости, то есть нацию, как Сталин уничтожал или пытался уничтожить крымских татар (а где крымские болгары, караимы и прочие?) или поволжских немцев.
Русских евреев он уничтожил не в большей степени, чем другие сорта русской нации. Статистики нет. Но если русские евреи погибали даже в большей пропорции на – фронте, то получается пол миллиона. Пятая часть. А белорусов четвертая.
Об этих бы потерях писать да писать, вспоминать да вспоминать. Но не в этой памяти главная магистраль нашего времени. Когда‑нибудь вспомним и об этом. Но не о том сейчас речь.
Важно то, что евреи после войны перестали быть нацией.
Приживание евреев к русской нации – процесс болезненный ввиду антисемитизма власти и оттуда народившегося народного антисемитизма, ибо чувство это было чуждо русской нации, практически не знавшей евреев.
Им бы в Австрию куда‑нибудь податься – граница рядом и прав побольше. Там, в Австрии, и генералы были евреи. А у нас, в России, один из турецкой кампании, и то, кажется, неудачный.
Нет, повалили в русскую гимназию. И, несмотря на пресловутую процентную норму, научились тому, что и есть начало нации, – языку.
Отец мой язык знал отлично. Чуть подкартавливал иногда. Да и я чуть подкартавливаю – вековое устройство гортани.
Русская гимназия – начало еврейского элемента в русской нации.
Так начал инородческий еврейский элемент диффундировать в русскую нацию. Наряду с другими этническими элементами, ее составившими.
Так стал он частью социальной прослойки, заполняя вакуум, созданный террористической властью. Так ведь и такое бывало в истории. Например, англосаксы, а потом норманны в формировании британской нации.
Сперва это социальная прослойка, а потом – часть нации, пойди разберись теперь. И с русскими евреями так же было, может, в другом масштабе, в другом ракурсе, но похожее– в формирование нации вступает новый этнический элемент.
Это было бессознательно, как всегда бессознательно бывает в истории. Но как и в норманнах – свойство плыть, так и в евреях – свойство оседать и присоединяться.
Но и без гимназии поперли в русскую революцию. Эсеры – уж чего больше почвенного – а и там полно евреев, правда, самых безжалостных – террористы.
Хороший или дурной элемент общества – русские евреи? Вопрос праздный. Хороший или дурной элемент нации татары или угро – финны? Это историческая данность. Состав русской нации, ее этническая особенность, для русской нации органическая, – смешение, адаптация, ассимиляция.
Русская власть не сможет избавиться от этого элемента польским путем, путем вытеснения. Да и большой кровью не сможет избавиться. Для этого нужно вырезать половину русской интеллектуальной элиты до четвертого колена. А такая кровь не проходит даром. Она остается раной на совести нации и, значит, все равно действующим фактором ее нравственной жизни, как до сих пор – изгнание издавна мавров из Испании. Все равно мавританский и иудейский элементы вошли в состав испанской культуры. Все равно остались раной на совести Испании.
Русские евреи – историческая данность. Это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных ее вариантов. И искренние русситы, и почвенники не могут оскорбить русско – еврейского интеллигента своим неприятием, они тем показывают только низкий уровень своего мышления и неверие в бескорыстие (грубость ума, мещанскую подозрительность). Ибо в том, чтобы быть русским евреем, корысти нет.
А уже сейчас, когда возможен отъезд, и совсем корысти нет.
Отъезжая, возвращается еврейское мещанство. Элита, если уезжает, не возвращается, но чаще всего не уезжает.
Можно ли обижаться на русскую нацию?
Отец не обижался.
Василий Григорьевич
Образ Василия Григорьевича так прочно вошел в мое детство, так много способствовал моему становлению, что иногда невозможно вынуть его из контекста моих ранних лет. Придется говорить и о себе.
Передо мной пожелтевшая фотография – единственное, что осталось вещественного от первого лета знакомства моей семьи с семьей Янчевецких. Когда это было?
В раннем детстве я боялся фотографироваться. Я очень остро чувствовал значение слова «снять», почти как современный чиновник: меня снимут и меня не будет. Конечно, это страшно.
Я не верил тогда, что возможно мое двойное существование – в реальности и на фотографии. Другим это удавалось. А мне – нет.
На упомянутой фотографии я спокойно сижу на первом плане, значит, мне уже лет пять или шесть. Я уже не боюсь сниматься.
Это групповой любительский снимок. Мои родители, тетка, дядька, жена дядьки и Янчевецкие– Мария Алексеевна и Василий Григорьевич. Скорей всего, это лето 1926 года.
Мама сняла тогда на лето дом в деревне Вырубово, ныне растворившейся в сплошном поселении между Баковкой и Переделкино. Янчевецкие, подыскивая дачу, набрели на нас. И, кажется, без всякого предварительного замысла, мама уступила им комнату.
Так состоялось знакомство с Янчевецкими, вскоре перешедшее в дружбу или, вернее, в отношения, похожие на родственные.
Я задумался, назвать ли эти отношения дружбой, ибо слишком разными были сферы интересов двух семей. Родственные же отношения основываются на участии, привязанности, взаимопомощи и соприкосновении тех сфер, которые могут порой не касаться дружбы.
Василий Григорьевич был чуть ли не на двадцать лет старше моего отца, происходил совсем из другой среды, принадлежал к другой культуре, другой профессии. Его понятия были многочисленнее, касались многих предметов, о которых моим родителям не приходилось задумываться, подвергались множеству жизненных проверок, которых не знал мой отец.
Необходимость приятия круто повернувшейся жизни, слом, который пережил он уже в зрелом возрасте, и многие сломы его литературной судьбы мало повлияли на общий тон, общее строение его личности.
Мало менялся он и внешне. На фотографии, о которой шла речь, он именно такой, каким был до самой войны.
Он был чуть выше среднего роста, умеренной комплекции, с волосами седеющими, но не редеющими, с правильными крупными чертами лица, с глазами внимательными и добрыми, с запоминающейся улыбкой, означавшей долю юмора по отношению ко всему, что происходит с ним и вокруг него.
«Я не помню Василия Григорьевича смеющимся. Улыбался же он охотно. Но не от веселья, а чтобы выразить свое отношение к собеседнику. Помню его спокойным, благожелательным, всегда занятым своей работой и всегда готовым отвлечься от нее для общения с вами. Ему было интересно разговаривать с любым человеком, будь тому человеку хоть 10 лет. Но не вообще говорить, не о будничных твоих заботах, а о том, что было так или иначе связано с творчеством – театром, живописью, путешествиями, историей, литературой» [11]11
Здесь я цитирую воспоминания А. Б. Шапиро (А. Свирина), врача и литератора, не предназначенные автором для публикации. Он дал мне письменное разрешение цитировать его. В 20–30–е годы А. Б. часто общался с Янчевецкими. Он автор песен к «Финикийскому кораблю» и к «Огням на курганах».
[Закрыть].
Первое совместное с Янчевецкими лето я хорошо помню. Главное впечатление – Миша, четырнадцатилетний сын Янчевецких, мальчик, естественно, меня не замечавший, но жизнь которого я внимательно и с завистью наблюдал. У него были такие же взрослые друзья, как он сам. Они мастерили летающие модели самолетов с резиновыми моторчиками и запускали их в небо. Одно это было уже прекрасно.
Теперь мы с Мишей почти сравнялись в возрасте и, кажется, только двое являемся хранителями памяти о событиях и лицах тех дней.
Зимой не прервалось общение с Янчевецкими. Они бывали у нас. Мы бывали у них.
Тогда же познакомились мы с дочерью Василия Григорьевича – Евгенией Васильевной Можаровской, ее сыном Игорем (Гогой), почти моим ровесником, и ее мужем Николаем Ивановичем. Гога был рыжий, веснушчатый, добродушный мальчик. Его привозили ко мне в гости. И мы с мамой часто бывали у Можаровских в маленькой квартире на Малой Бронной в некрасивом доме напротив бывшего тогда там Еврейского театра.
Евгения Васильевна была миловидная молодая женщина, с круглым лицом, невысокого роста. Разговорчивая, эмоциональная, открытая. У нее был живой ум, большие способности и знания, она обладала тонким литературным вкусом, с которым считались все литераторы, ее окружающие. В отрочестве и ранней юности я часто (чаще, чем Василию Григорьевичу) читал ей стихи и всегда следовал ее верным замечаниям. В «Плотниках», с которыми я пришел в ИФЛИ, есть одна ее строчка.
Николай Иванович Можаровский тоже был писатель. Помню его книги «Записки следователя уголовного розыска» и «Смерть У ара», оригинальный, талантливый роман об убиении царевича Димитрия, изданный под псевдонимом Евгений Бурмантов. Николай Иванович был арестован в 1937–м. О судьбе его я ничего не знаю. А сын его Гога погиб на войне.
После знакомства с Янчевецким и Можаровским я, кажется, впервые понял, что книги пишут реальные люди, а не те, что изображены на гравюрах с факсимиле и давно уже умерли.
В раннем детстве трудно понять рождение и смерть. Кажется, что все устроено от века – и люди, и вещи. Кажется, именно тогда я начал понимать, что существовал не всегда. И не всегда существовали вещи, например – книги, самые удивительные из вещей. Говорили: «Он пишет книгу» или «Книга печатается». И наконец книга появлялась у нас дома, и дарил ее человек, сам ее написавший и придумавший.
На следующее лето мама сняла дачу для нас и Янчевецких в тех же местах, где‑то на краю Баковки, откуда через поле видно было Одинцово. К большому дому примыкал фруктовый сад, где на хорошо ухоженных грядках росла клубника. От этого лета остался запах сада и вкус свежей клубники с молоком.
Это было солнечное прекрасное лето. И атмосфера его хорошо мне помнится – его размеренный распорядок и возвышенность всего происходящего.
Василий Григорьевич по утрам писал, потом уходил гулять, приносил букеты полевых цветов, а под вечер рисовал акварелью цветы и пейзажи. Он нам с Гогой, нередко гостившим на даче, давал краски, и мы рисовали то же, что Василий Григорьевич.
Помню маленький вечерний пейзаж. Поле, вдали крайний домик Одинцова, где уже зажгли свет. А выше – желто – красный с сиреневым закат. На лугу пасется лошадь. Ее Василий Григорьевич нарисовал темно – лиловой. И это было именно так. Я впервые обратил внимание на то, как сочетаются цвета и переходят один в другой, как коричневая лошадь может казаться лиловой.
Я так и не выучился рисовать, но, кажется, именно тогда что‑то важное ощутил в искусстве – жизнь в нем не того цвета, что в окружающей нас реальности.
До сих пор я пытался в детских рисунках воссоздать жизнь на тех же основаниях, которые мне виделись в ней. Нарисовав, к примеру, человечка, я рисовал ему дом, огород, магазин, дорогу, собаку. Я старался сделать так, чтобы человеку было удобно в моем рисунке.
В рисунках Василия Григорьевича я впервые столкнулся с иным под – ходом к изображаемому миру. В этом подходе была какая‑то высшая правота – право выделить предмет из мира и представить его в неком одиночестве, вне повседневных отношений с другими предметами, а лишь в высшей связи, смысл которой нам не всегда дано понять.
Одна из акварелей Василия Григорьевича– букет полевых цветов – сохранилась в нашей семье…
В это лето весь быт нашего дома располагался вокруг Василия Григорьевича. К его делу все относились с величайшим благоговением, и как будто не только присутствовали, но и участвовали в нем. Василий Григорьевич был первым человеком в моей жизни, для которого главным делом была литература. С детства его облик, его способ жизни и во многом его воззрения были для меня образцом того, как должен жить и что собой представлять писатель. Он был образцом мужества, трудолюбия, неискания славы, достоинства, сохранявшихся во всех обстоятельствах его жизни.
Наверное, атмосфера того памятного лета была причиной моего первого тогда написанного стихотворения.
Василию Григорьевичу было около пятидесяти, когда я увидел его впервые. У него за спиной была жизнь, насыщенная событиями, переменами, увлечениями, занятиями, путешествиями, педагогическими опытами, журнальной и издательской работой.
Но в эту пору он как бы начинался сызнова, рождался заново как писатель. Он недавно только возвратился из безвестной азиатской глуши, из Сибири, из забытого богом Урянхайского края, чтобы стать писателем Василием Яном, – возвращался с новыми Надеждами, замыслами, увлечениями, обогащенный трудным периодом жизни, удивительно нерастраченный, свежий, готовый воспринять новую действительность, новый быт и новых людей.
В этой свежести, в конструктивности натуры, может быть, и кроется главная тайна его личности, главный ее движитель.
Удивительной, почти чудесной, была черта приятия новой жизни у человека давно сложившегося, прожившего полвека в иной среде, в ином окружении, чудесной казалась эта способность оставить где‑то, в прежних годах, громоздкий и замысловатый багаж прошлого и легкой походкой пойти навстречу трудностям и бедам, заботам и потерям последней трети своей жизни.
Он был путешественник, странник по натуре и хорошо знал, что лучше брести налегке. В нескольких своих повестях он описывал этого странника, мудреца, бредущего по земле с легким грузом мудрости, грузом, который, нарастая, не тяжелеет. Он как бы шел поверх вещественного мира, из него забрав только образы книг.
«Поспеши сказать доброе слово встречному, может быть, больше не придется свидеться» – эта восточная поговорка была эпиграфом к одной из повестей Яна. Она могла бы быть девизом, начертанным на его гербе.
Вскоре после памятного лета Янчевецкие уехали в Самарканд. Оттуда Мария Алексеевна регулярно писала письма моей матери. А когда Янчевецкие возвратились в Москву, возобновилось общение с ними. Не могу точно припомнить, сразу ли они поселились на углу Столового и Большой Никитской, почти напротив церкви, где венчался Пушкин, но хорошо помню их две комнаты в коммунальной квартире. В большей, проходной, стоял стол, за которым принимали гостей. Кажется, другой приметной мебели там не было. Были только книги, которые неизвестно как заводились при скромных средствах семьи.
Книги Василия Григорьевича производили на меня сильное впечатление и оказали большое влияние на мое раннее развитие.
Выход «Финикийского корабля» был важным событием для всех, кто окружал писателя в те годы. У нас в доме появился экземпляр с автографом, которым гордились и показывали знакомым и родственникам.
«Финикийский корабль» был одной из любимых книг моего детства. Среди иллюстраций там была таблица с финикийским алфавитом. Я выучился писать финикийские буквы, сопоставил их с русским алфавитом и, заводя дневник, писал в нем финикийскими буквами, что спасало мои записи от любопытных.
«Финикийский корабль» я начал излагать в стихах. Но столь огромный замысел оказался мне не по силам.
Очень любил я и «Спартака», который кажется мне лучше известной книги Джованьоли. Его я стал перекладывать в стихотворную драму. Прочитал первое действие Василию Григорьевичу. Он меня похвалил. Я же сам своим творением не был доволен и однажды, в припадке творческого отчаяния, стал рвать тетрадку с диалогами в пятистопных ямбах. Потом остыл. Тетрадка, надорванная, так и сохранилась в числе немногих моих детских писаний.
После «Спартака» я отважился написать новую поэму, уже самостоятельную, тоже на историческую тему – «Жакерия».
В моем раннем интересе к истории тоже вижу я влияние Василия Григорьевича.
Подарил мне книжку Овсянико – Куликовского, первый мой учебник стихосложения.
К моим детским попыткам Василий Григорьевич относился со спокойным доброжелательством. Он был опытный педагог и знал, как могут изломать жизнь и характер неоправданные надежды. Многие дети рисуют или пишут стихи. Нельзя относиться к ним как к будущим художникам. Отношение Василия Григорьевича помогло мне расти естественнее, сохраняя стыдливость творчества.
Жизнь Василия Григорьевича в литературе не была легкой. Книги всегда проходили с трудом. Редакторы тогдашних времен копались в текстах с придирчивостью следователей.
Даже после издания нескольких книг Яна не принимали в Союз писателей. Он состоял членом группкома литераторов.
Известность пришла к нему после лауреатской премии за «Чингисхана».
Помню, где‑то в середине 30–х годов, одно литературное чтение. Состоялось оно в существовавшем тогда Театре книги им. Халатова на Петровских Линиях.
Родители взяли меня с собой. Мы торжественно отправились в Театр книги, где читать должен был Василий Григорьевич.
Народу собралось мало. Человек пятнадцать. Большая часть публики – знакомые.
Василий Григорьевич не выглядел огорченным. Он спокойно раскрыл рукопись и стал читать. Не помню что – кажется, из «Огней на курганах». Читал он прекрасно. Впечатление от этого выступления осталось у меня навсегда. Но осталась и горечь, как же это – не пришла публика послушать замечательного писателя.
Литературное окружение Василия Григорьевича в те годы, кажется, не было многочисленным.
Я никогда не присутствовал при его встречах с коллегами. От родителей слышал имена: Сандомирский и Кривошапка. Последнего всегда упоминали с прибавлением слова «писатель» – писатель Кривошапка. Мне представляется он вроде Стеньки Разина – в шапке, сдвинутой набекрень.
Рядом с Василием Григорьевичем в моей памяти всегда присутствует его удивительная жена Мария Алексеевна. Она была верным, преданным, умным другом писателя, его хранительницей, вдохновительницей, опорой, первой советчицей. Она твердо верила в писательское призвание Яна, и порой ее скромный заработок работника толстовского музея служил единственным источником существования семьи.
Она не была хороша собой. Но ум, энергия, доброта выражались в ее лице, придавая ему особую привлекательность. Ее вера, любовь, терпеливая воля были необходимыми факторами жизни Янчевецких. Ее качества рядом со свойствами Василия Григорьевича создавали высокий духовный настрой этой семьи, который чувствовали и которым проникались все, соприкасавшиеся с ней.
Мария Алексеевна часто после работы приходила к нам. Она откровенно делилась с мамой заботами о делах Василия Григорьевича, о воспитании Миши, об учебе Гоги, о материальных трудностях. Между нашими семьями существовали отношения взаимного сердечного участия и взаимной помощи.
В ту пору Янчевецкие жили туго, почти бедно. Отчасти поэтому Миша, наделенный многими способностями, рано начал зарабатывать литературной и оформительской работой. Мария Алексеевна гордилась его успехами. Она нежно, глубоко любила Мишу.
Можно себе представить, каким ударом была нелепая случайная гибель Марии Алексеевны для всех, знавших ее, какой внезапной потерей для Миши и Евгении Васильевны, какой трагедией для Василия Григорьевича.
Помню этот длинный и пустой день ранней осени, когда Евгения Васильевна сообщила по телефону о гибели Марии Алексеевны. Мы были ошеломлены, не могли поверить, были обескуражены жестоким ударом судьбы. За что?
Этой весной Мария Алексеевна успела порадоваться выходу «Чингисхана», который был и ее детищем, успела прочитать первые положительные рецензии на книгу. Казалось, начали развеиваться тучи, всегда висевшие над головой Василия Яна.
На наших глазах Василий Григорьевич пережил несколько потерь. Потерял мать Варвару Помпеевну, потерял брата Дмитрия Григорьевича. Еще несколько потерь и тяжкие испытания предстояли ему в близкие годы. Он умел сносить горе со скорбным достоинством, умел собраться, не отчаиваться, не нагружать свою беду на других. Он продолжал работать, в работе ища успокоения.
Но такого горя, наверное, не было в его многотрудной жизни. Даже Василий Григорьевич пошатнулся.
В последние предвоенные годы я редко видел Яна. Неуместным считал себя около него, погруженного в горе, себя, столь молодого и счастливого. Кажется, Василий Григорьевич работал мало. «Батый» был уже написан и посвящен жене. О других работах ничего не знаю…
В начале войны, попав в эвакуацию в Самарканд, мои родители узнали, что Василий Григорьевич с семьей Миши находится в Ташкенте. Написали ему. Получили ответ. Постоянно обменивались письмами. В начале 1942 года с радостью получили известие о награждении Василия Яна Сталинской премией за «Чингисхана». Книга о нашествии, вышедшая три года назад, оказалась ко времени – актуальной и нужной. Послали Василию Григорьевичу поздравительную телеграмму.
В мае того же года отец мой тяжело заболел сыпняком. Узнав об этом, Василий Григорьевич срочно выслал ему деньги на лечение и питание. Слышал я, что премию свою почти всю он роздал…
Вскоре после возвращения из армии, в начале 1946 года, я навестил Василия Григорьевича. Он жил на Суворовском бульваре в квартире Ли – Дии Владимировны. Война его состарила. Он стал грустнее и медлительнее. Но, как и прежде, был внимателен и добр.
Был ухожен заботами Лидии Владимировны. Жил в старомосковском интерьере. Сидел в старинном кресле, одетый в бархатную блузу с бантом, на голове узбекская тюбетейка.
Я прочитал ему тогдашние невызревшие стихи о войне. Он не стал критиковать их за несовершенство. Интересовался их содержанием. Он понимал, что я полон надежд и энергии, и, видимо, в этом видел какую– то мою перспективу.
Из Германии я привез Василию Григорьевичу небольшой подарок – две книжки стихов Рильке. Знал, что он любит этого поэта и что в молодости общался с ним.
Показывал мне переплетенную тетрадку, куда вписывал сонеты разных авторов. Это было то, что сейчас называют «хобби».
Еще несколько раз после войны навещал я Василия Григорьевича. Грусть, самоуглубленность, какая‑то отрешенность были в нем.
Нередко посещала нас Евгения Васильевна. От нее узнавали о жизни отца.
А потом помню не очень многолюдные похороны на старом небольшом московском кладбище…
17 января 1975 года в Малом зале Дома литераторов отмечалось столетие со дня рождения Василия Яна. У меня сохранилась запись: «Я сказал: Ян понимал культуру как гуманизм, а гуманизм как систему поведения. Он писал о том, что тирания слабее культуры»








