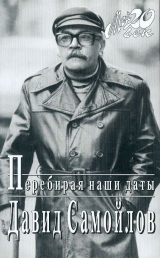
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
В конце 40–х годов встречался с Глазковым, заходил к Слуцкому, все реже – ко мне.
Лет двадцать мы не видимся. Говорят – он ослеп.
Вторым перед нами сидел Борис Уединов, по школьному прозвищу Уеда. Уеда – один из самых высоких людей в классе, темный шатен с продолговатым лицом, с крупным носом, всегда заложенным. Он молчалив, может, оттого, что обладает тонким, не по росту, ломающимся голосом, к тому же слегка гундосит и неразборчиво произносит ряд согласных. Он – одна из авторитетных фигур. Жил Уединов на Садово– Кудринской в сером особнячке рядом с Филатовской больницей. Ареал нашей школы был в сотни раз больше нынешних микрорайонов, где на несколько домов – башен одна школа. Ученики нашего класса жили от площади Борьбы (бывшей Александровской) до Трубной и от Сухаревки до Кудринской.
Впрочем, Москва была намного потише. Садовое кольцо еще заложено булыжником. До начала 30–х годов – в садах. Еще существовал круговой маршрут трамвая «Б», по всем Садовым цокали извозчики, тоже постепенно исчезая в 30–е годы; пыхтели старомодные автобусы марки «Leyband». Еще жива была Сухарева башня и гудела Сухаревская толкучка.
К Уединову долго было идти пешком мимо Петровки и Триумфальной. Квартира их была просторная, некоммунальная, если верно помнится – в два этажа.
В кабинете отца – солидные книги. Оттуда впервые – запах солидных, старых, редко доставаемых книг. Мы подолгу рассматривали энциклопедии и почтительно ставили на место.
Все в этом доме было серьезно и основательно, пока не произошла какая‑то ломка, о которой Борис никогда не говорил. Отца его – крупного инженера – я никогда не видел. А тут и вовсе прекратился о нем разговор. То ли ушел из дому, то ли еще что‑то случилось.
Неблагополучие чувствовалось в лице матери, внезапно постаревшем и обрюзгшем, чувствовалось в том, что меньше стало вещей и книг; в том, как быстро возросло значение старшего брата Игоря.
С середины 30–х годов все чаще замечал я, что в семьях происходят странные изменения. Но как‑то пассивно это замечалось, потому что дома было все в порядке; потому что об этом не говорилось; потому что происходило нечто скрытое, тайное, может быть, адюльтер, мезальянс – что‑то семейное, сокровенное, непонятное.
Мама работала во Внешторгбанке. Три или четыре из ее сослуживиц имели прикосновенность к высшим партийным кругам.
Дамы эти иногда приходили к нам пить чай с шульгинским земляничным вареньем. Они беседовали о служебных делах, о туалетах и хозяйстве, а порой в их рассказах мелькали детали о некой высшей жизни, о каких‑то дипломатических поездках, о Париже и произносились имена и отчества людей такого ранга, которые принадлежали истории и в нашем доме произносились только при чтении газет или иногда пониженным голосом назывались в анекдотах Виктора Марковича.
Дамы эти бывали за таинственной завесой власти и потому сами носили на себе отблеск таинственности и значительности, хотя в остальном были милые, сытые и хорошо одетые женщины. Может быть, кроме некой Веры Львовны, более сдержанной и одетой небрежно. Ее муж был коминтерновец, и в ее облике отражался ригоризм и аскетизм мирового рабочего движения.
Изредка за дамами заезжали их мужья, прямо «оттуда», из высоких ведомств, где решались судьбы мира, а походя и судьбы таких, как мои родители и даже я.
Мужья, после радушных упрашиваний, соглашались выпить чаю с вареньем. И благожелательно ели варенье, разговаривая скупо и как бы нехотя. На них, еще более, чем на женах, лежал отсвет таинственной власти. Они и были сама власть, суровые комиссары гражданской войны, бывшие каторжане, в памяти которых гремели канонады и рокотали пулеметы, – они в крылатых бурках – а lа Котовский – вылетали на разгоряченных конях впереди атакующих красных эскадронов.
Правда, я никогда не мог себе представить маленького, кругленького Канторовича, брата «того» Канторовича, в роли лихого кавалериста. Но все же, насилуя воображение, соглашался с возможностью такого явления.
Чаще других заходил к нам муж Веры Львовны – работник Коминтерна. Это был рыжий фанатик с белесыми глазами. Он порой отвечал на недоуменные вопросы папы с беспощадной ясностью и стальной решительностью участника баррикадных восстаний. Папа его не любил.
В 37–м разом полетели мужья правительственных дам, в том числе и брат «того» Канторовича.
Рыжий фанатик подзадержался. И еще успел разок побывать у нас, объясняя папе всю правильность, своевременность и благодетельность происходящего.
Вскоре и он был арестован и запропал навсегда, как и остальные. И никогда ему не пришлось больше объяснять своевременность твердых мер и презрительно есть земляничное варенье.
Мамины сослуживицы, сразу похудевшие, заплаканные, стали появляться у нас в доме, собираясь в отъезд, в провинцию.
Им посылали посылки, к нам многие времена спустя приезжали их дети, родственники и знакомые. И всех их принимали мои родители, не думая о том, что опасно общаться с семьями врагов народа, потому что папа всегда считал подлым отрекаться от друзей, попавших в беду.
Может быть, даже рыжего фанатика ему было жалко.
А так было все в порядке – как будто в порядке – и у меня, и у Червика, у Вовочки, у Хемса и Лившица, у Шени и Шахова – все было в порядке.
За хорошую учебу шефы – 3–й Москвошвей – премировали брюками. Были праздники, выборы, перевыборы, успехи. Были, наконец, зимы и лета. Был каток ЦДКА. И тогдашний московский мороз– розовый, с инеем в парках, какой‑то невероятной детской красоты: и непонятно было тогда, только ощущалось – как хороша Новая Божедомка: слева ампиры Туберкулезного института и Мариинской больницы, справа милые особняки и маленький молочный завод… – а дальше просторы, заиндевевшие деревья Екатерининского парка– слева Самотечные переулки, а впереди – Садовая с садами, Садовая с садами…
Третий на парте перед нами – Шура Шепелев – Шеня. Он не только в классе – во всей школе – первый ученик. Председатель учкома. Шура– с высоким лбом, веснушчатый мальчишка, с умным, точным взором. Он – гордость школы и победа педагогическо-социальной концепции. Из бедной, многодетной семьи, без отца, мать – уборщица. И действительно, хорош был Шеня, спокойный, собранный, всегда знающий уроки, полный какого‑то достоинства и благородства.
По всем социальным признакам и по блестящим способностям ему бы делать большую карьеру. Но на всех служебных лестницах, которые предстают нашему взору, его фигуры не видно. Может, не хватило темперамента, может, замах пропал, может, наоборот– слишком сильно было эмоциональное начало в этой натуре, весьма незаурядной.
Я знаю о нем, что после школы он попал в офицерское училище и в войну не погиб.
Развел нас нелепый конфликт на почве ревности. Шепелев, заревновав, ударил меня по щеке, завязалась короткая драка. Мужчины сочувствовали Шепелеву, женщины – мне.
Произошло это в седьмом классе из‑за Наташи Корнфельд, в которую мы все время от времени влюблялись. Но это было как раз то время, когда я был влюблен в другую, а с Наташей, как всегда, сохранял дружеские отношения и исповедовался в своих увлечениях.
С Шеней мы вскоре примирились. Но отношения наши сломались. Учась в разных школах, мы не встречались.
И у меня остались только воспоминания, как в откровенных беседах о любви мы подолгу прохаживались мимо Наташиного дома в Большом Каретном (ныне улица Ермоловой) рядом со школой, выходя к Садово – Самотечной по крутому склону, еще хранившему очертания древнего берега реки, возвращаясь к началу Колобовских переулков и оттуда вновь к Садовой – к Садовой уже без садов.
В те годы обучение было совместное, как и сейчас, и никто из нас не думал, что оно могло быть иным. Но в первых классах мальчики и девочки держались особняком; даже я, воспитанный в девичьем обществе, не позволял себе в классе обращаться к подруге детства Люсе Дорошенко иначе, чем «Эй, ты!».
Классу, наверное, к пятому взаимный интерес пересилил традиционное отчуждение. В нашу компанию, описанную выше, вошли девочки.
Известную роль в этом сближении сыграл дом Наташи Корнфельд.
Это был дом светский, цивилизованный, процветающий – с умной, волевой и красивой хозяйкой, матерью Наташи Екатериной Васильевной, с приятным хозяином, архитектором Яковом Абрамовичем Корнфельдом, с бабушкой – писательницей и двумя прелестными дочерьми – Наташей и Таней; светский – с гостями, с паркетами, с книгами; дом, где умели принять, втянуть в беседу, угадать настроение, присмотреться, тактично отсеять, тактично же и привлечь.
Как среди мальчиков никого нельзя было сравнить с Рожновым, так среди девочек выделялась Наташа.
Она небольшого роста, пухленькая, с полными губами, с чудесными серыми глазами, с ямочками на щеках – маленькая женщина, умная, тактичная, памятливая, ко всем внешне ровно расположенная – результат воспитания, а не добродушия, – очень способная ко всем наукам.
Моим первым товарищем еще до школы был Жоржик Острецов. До знакомства с ним я находился в окружении девочек. Их было четыре, я – пятый в прогулочной группе.
Острецовы занимали две комнаты в шестикомнатной густонаселенной квартире. В большей жили две тетки Жоржика – строгая и степенная Елена Ивановна, врач Туберкулезного института, и добродушная Елизавета Ивановна, учительница. У Елизаветы Ивановны была дочь Маруся, несколькими годами нас помладше, славная девочка с заячьей губой. С ними жила древняя, выжившая из ума бабушка, к тому же еще слепая. И, кажется, жил еще дядя Жоржика Иван Иванович, во всяком случае, постоянно находился в доме.
Семья Жоржика – его отец – бывший командир Красной Армии, по демобилизации ставший школьным завхозом, мать – медицинская сестра того же Туберкулезного и он сам – помещалась в довольно большой пустынной комнате с тремя дверьми. Одна из дверей выходила в длинный темный коридор, а две другие были заделаны фанерой и заклеены обоями, потому что за ними жили соседи Острецовых, таким образом поделившие бывшую анфиладу на несколько изолированных помещений.
Глубже по коридору находилась комната злой старухи Цеповой, грозы коммунальной квартиры. В старухину дочь, некрасивую, но веселую и живую Марусю, много лет без взаимности был влюблен Иван Иванович. Он был заметно старше Маруси, неудачник и старый. холостяк, Желая ублажить свою возлюбленную, он играл на гитаре, иногда на старом фортепиано и пел чувствительные романсы. В конце концов они поженились, но Иван Иванович недолго наслаждался семейной идиллией и вскоре помер, оставив веселую Марусю с малолетней дочерью. Таким образом, еще одна семья Острецовых потеснила старух) Цепову и обосновалась в тридцать шестой квартире.
Родом Острецовы, по говору судя, были из северорусской провинции, класса разночинческого. В большой комнате над диваном висел большой фотографический портрет конца века– красивый, строгий человек в форменном мундире, невысокого, видимо, ранга.
Это дедушка Жоржика.
Под портретом на старом диване, перед столом, покрытым клеенкой, сидела обычно слепая старуха, жена дедушки, и ела или хотела есть. Бабушку кормили грубой пищей 30–х годов, а над прожорливостью ее добродушно издевались. Подражая взрослым, разыгрывали бабушку и мы, дети.
Говорили при ней о роскошных обедах, которые якобы ели вчера в гостях. А я рассказывал бабушке, что дед мой служит при кавказском наместнике и обещался прислать ей из Тифлиса апельсинов.
Иногда Жоржик, аккомпанируя себе на рояле, пел песенку:
Я толстая свинья,
Глядите на меня,
Все время ем да ем,
Не брезгую ничем.
Бабушка не дождалась тифлисских апельсинов, а однажды тихо умерла.
Видать, не все Острецовы жили в квартире 36–й, ибо вскоре после смерти бабушки в большой комнате появился молодой человек Сашка Острецов, племянник и кузен, музыковед по образованию.
С его приездом рояль выдворили из большой комнаты и поселили в расположении Жоржикиных родителей, потому что Сашка имел привычку целыми днями разыгрывать какие‑то партитуры, подпевая без голоса, а может быть, и без слуха – «ти – ти – ти – ти – ти – ти».
Мать Жоржика целыми днями была на работе, а то и дежурила по ночам. Отец появлялся совсем редко, кажется, работал где‑то на периферии. А Жоржика трудно было вывести из себя. Сашка был поклонник Шостаковича, печатал статьи в журнале «Советская музыка» и долгими часами играл любимого автора. За него он, кажется, и погорел в тридцать седьмом году.
Я только в восемнадцать лет, забыв Сашкино музицирование, понял, что Шостакович замечательный композитор.
Сашке лет было, наверное, под тридцать. Он был тощий, востроносый и весь движущийся. К нам он относился снисходительно, но отношений не заводил. Он пел свое «ти – ти», а мы занимались своими делами. Обычно играли мы у Жоржика, потому что взрослых не было целый день.
У Жоржикиного отца, бывшего командира Красной Армии, было много военных уставов. Мы их усердно читали. И оттого образовались у нас военные игры. Сперва обучали мы по уставам оловянных солдатиков. Но их было мало, и все они могли только изображать стойку «смирно». Вскоре солдатами у нас стали пуговицы. Их было больше, но все они были разномастные и тем противоречили принципу армейского единообразия.
Тогда мы произвели великую реформу и войско образовали из крупной перловки. Крупу мы красили бельевой краской, и каждый цвет изображал род войск: красная перловка – пехоту, зеленая – кавалерию, коричневая – артиллерию.
Крупинки, завернутые в фольгу, означали офицеров, а маленькие раскрашенные горошины – генералов разных рангов.
Главнокомандующим был король – стеклянная граненая пуговка.
Крашеную крупу мы насыпали в спичечные коробки, на которых написаны были названия частей: такой‑то полк такой‑то дивизии. Полков этих со временем накопилось огромное множество. Из спичек клеили мы маленькие пушки. Из пробок вырезали танки и броневики. А из любой дощечки – военные корабли.
Создали мы и сложнейшие правила игры.
В комнате Жоржика мы могли безнаказанно расчерчивать пол мелом на манер топографической карты, рисуя сушу, море, реки и дороги. Цепочками крупы обозначали передний край, расставляли артиллерию, поднимали в воздух самодельные самолетики.
У каждого из нас была своя армия. Правда, войны мы затевали редко, потому что целый день надо было перетаскивать из квартиры в квартиру десятки и сотни коробков с войсками, корабли, самолеты и прочее. Для этого времени хватало только в дни каникул.
Чаще устраивали мы маневры, смотры, парады и почетные встречи военных делегаций, прибывавших на каком‑нибудь крейсере.
А иногда кто‑нибудь из гороховых генералов поднимал восстание в углу комнаты и большая часть войск переходила на его сторону. Королю оставался верен только гвардейский корпус, с которым он и выступал на усмирение мятежа.
Конечно, король всегда побеждал. Брал в плен мятежную горошину, которую судили мы строгим судом, а потом казнили, выбрасывая в форточку. То есть переселяли в иной мир.
В крупяную армию играли мы несколько лет. У меня чуть не до восьмого класса сохранялись корабли и коробочки с гвардейским корпусом, где каждая крупинка отдельно была покрашена эмалевой краской.
Уже будучи взрослым человеком, солдатом на Волховском фронте, в долгие ночные часы на посту вспоминал я нашу игру и, ей – богу, готов был поиграть в нее с Жоржиком.
На книжной этажерке Острецовых были не одни только военные уставы, но и другие разрозненные книги, которые мы тоже принялись изучать.
Так прочитали мы с Жоржиком растрепанных Ксенофонта и Полибия. А потом увлеклись философским словарем Ищенко. В промежутках между крупяными войнами мы вытвердили наизусть этот словарь и свободно могли сказать, что такое субстанция, метафизика, ноумен, феномен или другое в этом роде. Было нам лет не более чем по двенадцати.
Тогда же попалась нам книга Баммеля «Теория и практика диалектического материализма», где философские высказывания Маркса, Энгельса и Ленина расположены были в систематическом порядке. Оттуда узнали мы имена Беркли, Юма, Декарта, Спинозы, Гегеля. И уже сознательно стали разыскивать у знакомых книги по философии. Помню несколько введений в философию, которые мы прочитали в ту пору: Челпанова, Вундта, Введенского. Помню какую‑то антологию по античной философии. Читал я трактаты Спинозы, «Пролегомены» Канта – все, что попадалось, и, конечно, без всякой системы.
В эту же пору, а может быть, и раньше, философией стал увлекаться и наш школьный друг Феликс Зигель.
Втроем мы и составили нечто вроде кружка любомудров.
Из всех нас троих Жоржик был самый необычный и самый образцовый. Среднего роста, со светлыми волнистыми волосами, прямым носом, высоким лбом, он был лишен расплывчатой детской миловидности, а был тем, что называют – человеком приятной наружности. Серые глаза он по близорукости слегка прищуривал, отчего его неулыбчивое лицо казалось строгим. Единственным контрастом собранным чертам его лица был рот – маленький, женственный, лишенный акцента воли.
Жоржик одет был всегда опрятно, но аккуратность его была без педантизма. Очень подходил к его облику отцовский форменный мундирчик черного цвета со стоячим воротником. Эту одежду Жоржик носил все старшие классы, именовалась она «вицмундир» и как нельзя лучше оттеняла внешнюю строгость нашего друга.
В характере его главной чертой я назвал бы сдержанность. Он сам никогда не проявлял сильных эмоций. Не любил нежностей и горячих дружеских признаний, которыми мы часто обменивались в ту пору. Но сдержанность была без резкости. Жоржик всегда держался доброжелательно и ровно. Не было в нем лишней стеснительности, но и никакой показной бойкости. Он не умел быть фамильярным и не терпел фамильярности по отношению к себе.
В семье его уважали, и жил он без лишних наставлений, без настойчивых забот, почти полностью предоставленный самому себе. Однако он никогда во зло не использовал своей свободы. И временем своим распоряжался разумно.
В школе он был первый ученик и для всех полный образец. Учился он без видимых усилий, но усердно и с недетским чувством долга. Уроки были всегда у него приготовлены. И знал он по всем предметам все, что требовалось, и даже, наверное, больше.
Его манера держаться с чувством собственного достоинства, серьезность, справедливость, а также успехи в науках внушали уважение и даже восхищение его соученикам. Почти все школьные годы он был для нас вроде нормы и недосягаемого образца.
Описав внешность и поведение Жоржика, я, знавший его с детства и общавшийся с ним два десятилетия, почти ничего не могу сказать о его внутренней жизни и даже о его мнениях и отношении к окружающему. Может быть, его сдержанность была частью скрытности. Но он как будто ничего не скрывал и на вопросы отвечал ясно и логически. Не было в нем и хитрости, хотя и не было простодушия. А мнения его, видимо, оттого не запомнились, что были слишком разумны и оттого обесцвечены.
Он как будто всегда искал средних решений, не прибегая к крайностям. Это относится и к нашим философским дискуссиям.
Феликс до того, как стал убежденным обновленцем, был берклианец. Он горячо защищал субъективный идеализм, спорил одержимо и нередко переходил на личности. Ниспровергал он, в основном, меня, который был не менее убежденным материалистом. Жоржик придерживался «средней» точки зрения. В скептической философии Юма ему нравилось признание обеих субстанций – духовной и материальной.
Осталось ли это навсегда? Ход его взглядов я утерял, когда в восьмом классе окончились наши дискуссии.
Жоржика не только уважали, но и любили товарищи. Его готовы были ревновать друг к другу. Но он не давал к этому повода, относясь ко всем с ровным дружелюбием.
Он был идеальный хранитель тайны исповеди. И ему исповедовались Феликс, я и другие соученики в своих любовных увлечениях. Он выслушивал нас серьезно, терпеливо и непроницаемо. Было ясно, что сам он не подвержен любовному чувству. Это принималось нами как должное, как лишнее доказательство особенности Жоржика и даже его превосходства над нами.
Девочкам, конечно, он нравился. Они кокетничали с ним. Но он как бы этого не замечал. И в конце концов от него отстали. И если кто был в него влюблен, то тайно и издали.
Перейдя в новую школу после восьмого класса. Жоржик очень скоро завоевал и в новом классе непререкаемый авторитет, стал первым учеником и бессменным на три года старостой. И все это произошло естественно и без всяких усилий с его стороны. Он был лишен рисовки и не праздновал своих побед.
В общем, все самое лучшее, что можно сказать о человеке, можно было сказать об Острецове.
Но что‑то начало происходить с его авторитетом в середине девятого класса.
В третью школу – Первую опытно – показательную имени Горького в Вадковском переулке (ныне 204–я – на углу Тихвинской и Сущевского вала) перетащили меня Феликс Зигель и Жорж Острецов.
Я уже в восьмом классе познакомился с будущими соучениками и стал регулярно посещать «пятые дни» у Лили Маркович, в замужестве Лунгиной.
«Пятые дни» были постоянным сборищем. В небольшой (но отдельной, что было редкостью в те времена) комнате собирались регулярно для чтения стихов и задушевных разговоров люди необычной для меня среды и гораздо более разнообразного душевного опыта.
У Лили бывали Юра Шаховской, большеглазый аристократического вида князек; Люся Толалаева, дочь какого‑то начальства; Илья Нусинов, рано умерший кинодраматург, сын известного литературоведа – тогда Илья мечтал о карьере математика; заходили красивая и очень большая Мила Польстер, племянница скульптора Ватагина; Анна Ильзен; заглядывал Лева Безыменский; я привел Бориса Рождественского..








