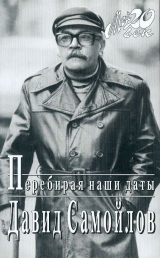
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 39 страниц)
– Умер под Каляды.
Взяли мы с собой Шпонячиху, под вой пятерых ее малолетних детей. Привели в хату, ближайшую к нашему расположению. Снова стали спрашивать.
– Где твой мужик, Сергей Шпоняк?
– Помер под Каляды, – твердо отвечала Шпонячиха.
Допрашивал ее я. Раз десять спросил, раз десять то же и отвечала.
– Гляди. Шпонячиха, худо будет, – пригрозил я. Да баба, видно, была не робкого десятка. И я ее отпустил.
Квартировались мы в нескольких хатах, ближних к реке. Туда после караула приходили поесть и отоспаться наши солдаты. Ночью службу несли плохо, часовые все беспробудно спали, и я, видя бесплодность своих усилий наладить службу, отправился спать. В полутьме, при свете каганца, накормила меня старуха – хозяйка крайнего дома, а потом предложила лечь спать либо с «дивкой», младшей дочерью, на широкой деревянной кровати, либо на лавку, рядом с молодайкой.
Я, соблюдая бдительность, отказался от этих вариантов и пошел спать в сенной сарай, рядом с собой положив автомат и гранаты.
Не успел я заснуть, как пришла молодайка, Марийка. Я лишь утром ее разглядел: худенькая, черноокая, на цыганку похожая баба. Там в сенном сарае она мне сказала:
– Про что хочешь спрашивай, только не про Шпоняка. Ничего я не знаю.
Чуть рассвело, приехал связной от Харитонова, командир передал, что бендеровское войско оттесняют на нашу переправу.
Мы заняли позицию.
Внизу на реке паслось белое стадо гусей.
Утро было туманное. С высокого берега мы следили за низким, за широкой луговиной– там дальше сине – зеленой стеной вставал лес. Солнце чуть поднялось. И на той стороне увидели мы шевелившееся войско. Оно выходило из леса. В бинокль я разглядел – это наши. Кольцо замкнулось, внутри было пусто.
Пулеметчик дал очередь по белому гусиному стаду. Решили завтракать.
Что знал я об Украине летом 1944 года, когда наша рота выехала на задание в район Новоград – Волынска? «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» – это я читал еще в детстве. А больше всего у Гоголя любил Федора Шпоньку и его тетушку. В дурном настроении всегда открывал Шпоньку и утешался.
У Гоголя была Малороссия. Она была часть России, наречье, а не язык.
Навязшая в зубах гоголевская птица – тройка летела по громадной России из страшного Петербурга, может быть, именно в милую Малороссию, отмеряя огромность российского пространства и соединяя в своем полете хладные финские скалы с просторами Таврии. Гоголевская тройка летела над русской империей из столицы в провинцию. Малороссия Гоголя была провинцией и частью имперского титула – «Великия, малый, белыя».
Гоголевская Малороссия, экзотика провинции, экзотика окраины, не хуже и не лучше других окраин, входивших в единое понятие Руси, – экзотики поморских морских былей, пугачевского Заволжья или разинского Каспия.
Затем – Шевченко. Его язык почти понятен. Он ощущался как диалект. А мечта о воле воспринималась как мечта социальная, а не национальная. И в Шевченко не чувствовал я человека другой нации, другой принадлежности, кроме российской. Удивляло: почему такой гениальный поэт не выучился писать по – русски. Гоголь и Шевченко сопоставлялись и даже противополагались друг другу, но это где‑то в глубоком ощущении. Гоголевский путь казался главным. Шевченко – периферия, этнографический изыск.
Украинскую историю я знаю хуже, чем французскую.
Украинская нация то ли всегда пребывала в неразличимом виде, вокруг едва живого Киева после татарского нашествия, то ли откуда‑то явилась со своими гетманами и запорожскими казаками.
Богдан Хмельницкий воссоединил Украину с Россией (значит, была отъединена?), Мазепа хотел снова отъединить (значит, уже тогда существовала идея сепаратизма?).
Дальше я знал об Украине в годы гражданской войны. Украинская Рада, скоропадчина, петлюровщина, сичевики, Тютюник, Ангел, Маруся, атаман Григорьев. Наконец – Махно с его летучим войском. Об этом больше всего писали поэты и прозаики одесской школы. В ней был свой акцент, но это была школа русской советской литературы.
Украинскую литературу я знал хуже, чем французскую. Несколько имен: Рыльский, Тычина, Сосюра, Бажан.
Понаслышке известно было о чудовищном украинском голоде 30–х годов.
Вот, пожалуй, только песни… В армии пели украинские песни. Пели русские, украинцы и казахи про Сагайдачного, про Галю молодую, про то, как «реве тай стогне Днипр широкий».
Что же такое Украина – часть России или отдельная нация? Кто ответит?
Современный национализм советских наций – свидетельство распада «вселенской» идеологии коммунизма. Этот распад – не результат сталинской национальной политики, а результат естественного хода истории. Сталинская политика– лишь варварское исполнение высших предначертаний, которые самым парадоксальным и самым кровавым путем реализуются в России.
Мы живем в пору крушения вселенских идей и создания частных сообществ, основанных преимущественно на идеологизации особенностей звериных пород человеческих. Не идеи против идеи, а порода против породы. Современное понятие народа – это понятие породы, как бы ни назывались официальные религии. Нет в этом смысле принципиальной разницы между коммунизмом Кастро и христианским славянофильством Солженицына. Идеология нашего времени полностью отражает состояние раздела идей и разделения людей. Хотя фразеология порой остается прежней и путает многих, а некоторым помогает других запутывать. В советском национализме, на который человек моего поколения, еще заставшего реальность вселенской идеи, смотрит с недоумением и печалью, есть некое положительное начало, доказывающее, что Россия не выпала из всемирного хода истории; что плывет она по тем же морям Земли, в ту же сторону, куда и все человечество. Что никакая политика, никакой террор не могут свернуть движение вселенского флота держав и народов с пути, предназначенного историей. Мы обязаны лишь постичь и угадать этот путь.
Слабеют мощные державы, иссякают силы их имперских идей. Силы малых народов накапливаются, их идеи ожесточаются.
Куда плывут корабли? Приплывут ли они единым стройным флотом в новую гавань? Или остатки их междоусобицы притащатся с порванными парусами к необитаемым островам?
Пока лишь непрочные узы корысти и страха связывают народы. И если брезжит вдали новый свет единения, то это слабый свет культуры и нравственности.
Когда исчерпает себя звериный инстинкт малых сообществ, ибо человечеству предстоит еще дробиться, прежде чем оно дойдет до своей единицы – отдельного человека, когда исчерпает себя звериная злоба разъединения, – может быть, тогда люди увидят свет культуры, единственного незыблемого начала, на котором и произойдет новое единение.
Я сказал о слабом свете культуры. Ибо он почти не доходит до народов и до правительств, которые в наше время не выше народов, ибо упразднены сословные государства, и лишь складываются новые сословия и долго им еще складываться.
Как это ни парадоксально, новая вселенская идея не восторжествует до тех пор, пока сословные интересы не возобладают над национальными. Пока новые сословия организаторов и идеологов не утвердятся у власти.
Единственная заручка в том, что народы не перебьют друг друга, – это большие нации, где велика «критическая масса» культуры. Эти нации не утратили способности к культурной ассимиляции, в них еще не исчерпалась потребность интеллектуализма, сохранилось мощное ядро под слоем пепла. Интеллектуальное ядро великих народов, в том числе и русского народа, остается в наше время единственным критерием нравственного состояния мира. Это ядро – хранитель культурной и нравственной преемственности. У больших народов – большая ответственность. У народов и наций, достаточно продвинутых по пути истории, чей политический и культурный опыт выше, интеллектуальное ядро все еще играет свою сдерживающую роль. У народов менее продвинутых скрытое ядро тоже существует, тоже напоминает о себе, тоже сдерживает и раскалывает заскорузлую и жесткую массу власти и «переходных слоёв».
Процесс разъединения вызван стремительным подъемом цивилизации в XX веке, взлетом цивилизации, оставившей позади духовную культуру.
Современная цивилизация с её стремлением к массовости, стандартизации и унификации создает стандартные понятия о личности и равенстве. Вне культуры эти понятия легче всего укладываются в идею нации.
Цивилизации оказываются сильнее империй и их идей. Старые империи падают под их натиском, становятся полицентрическими, ибо для современной цивилизации любая точка может быть центром. Эти центры не всегда совпадают с традиционными центрами культуры, а иногда и противостоят им. Культура оттесняется цивилизацией и становится достоянием сословий до того момента, когда сословия – носители культуры – в новых сословных государствах не обретут достаточную силу, чтобы поднять культуру на цивилизацию.
Уродливо, как все в нашем веке, даже само стремление к равенству, и вместе с тем никакая политическая сила не сможет победить стремление к национальному равенству в рамках цивилизации. Легче разрушить цивилизацию при помощи ядерной войны, чем одолеть бездуховный инстинкт равенства, порожденный этой цивилизацией.
Как же решать простой якобы вопрос о праве наций на самоопределение? Можно ли ставить его в общем виде? Не требуется ли серьезный анализ в каждом данном случае? Одинаково ли стоит вопрос, когда дело касается чувашей, грузин, украинцев, басков, провансальцев, валлийцев или фламандцев?
Есть три уровня, на которых можно решать этот запутанный и сложный вопрос: уровень культуры, уровень равенства и уровень превосходства.
1. Уровень превосходства снимает идею самоопределения, этот уровень предполагает либо чтоб господствующая нация оставалась господствующей, либо чтоб господствующей стала угнетенная. Это уровень взаимного истребления хотя бы в сфере идей, понятий, культуры.
2. Уровень равенства предполагает право политической автономии для любой нации. Он должен исходить только из политической реальности. Например, политическая независимость мордовцев или марийцев невозможна из‑за серединного положения их в русской среде, из‑за перемешанности их с русским населением, из‑за их относительной малочисленности.
3. Высший уровень – уровень культуры. Это уровень высшей целесообразности, до которого должны дойти прежде всего представители высшей среды данной нации. Если можно говорить о глубоких корнях и своеобразии грузинской или армянской культурной традиции, об их самостоятельности, если можно говорить о молодых, но уже оформившихся как нечто самостоятельное культурах Прибалтики, – можно ли то же сказать об Украине?
Целесообразно ли разделять две нации одной культурной традиции, близкие по языку и понятиям? Может быть, гоголевский путь тут более правилен, чем путь шевченковский? Отпадение Украины, ее пренебрежение общностью неминуемо означает упадок России, провинциализацию обеих наций. Ухудшение их стратегического положения.
Путь единой культуры был бы верней и плодотворней. Но для того, чтобы он стал возможен, необходимо снять остроту страстей, удовлетворить чувство неполноценности, исторически свойственное украинцам. Для этого необходимы начала истинной федерации, или даже конфедерации, подлинная административная автономия, хозяйственная самостоятельность, устроение всяческих связей по принципу взаимной выгоды. Украина должна сама решать вопросы просвещения. Должна перестать быть источником материальных благ, за которые всегда недоплачивалось.
Такая Украина, может быть, в дальнейшем и примет концепцию единой культуры, к которой она издавна склонна.
Нынешнее же положение чревато взрывом, разделением и кровавой междоусобицей.
России как единому целому не страшно выделение Прибалтики, Закавказья или Средней Азии. Отделение Украины чревато распадом и переходом обеих наций на задворки истории; в конечном счете – обеднение культурной почвы, из которой постоянно будут высасываться силы, потребные для национальной самообороны.
Разделение России и Украины – страшное несчастье для обеих сторон.
Кажется, стоял уже август, когда мы вступили в Польшу.
Всю ночь ехали колонной с полным светом. Свет фар упирался в сплошную завесу ливня. Иногда на поворотах вдруг высвечивались углы домов или развалины в приграничных местечках. Ни огонька, ни живой души. Продрогшие, в мокрых плащ – палатках мы ехали до рассвета. Он скучно мерцал за спиной. Перед нами нехотя расступилась мгла. Не останавливаясь, миновали Брест. По мосту пересекли Буг. Городок Тересполь.
Польша, – сказал мне лейтенант Иван Борисов, недавно к нам прибывший замполит


«Папа молод. И мать молода». 1927.

Дом на Александровской площади в Москве (бывшей площади Борьбы), где прошло почти сорок пять лет жизни поэта.

Павел Коган. 1940. «Он верил в то, что судьба его поколения станет легендой»

Михаил Кульчицкий. Сентябрь 1941. «Высокого роста, статный, гвардейской выправки. Такой далеко бы пошел при русских императрицах».

Эту фотографию Д. Самойлов послал родителям с надписью: «Ваш сын в роли любимца публики. Первый день после войны».

И меня уже пуля не ранит И уже не убьет наповал».

Борис Слуцкий. 1939. «Он ходил, рассекая воздух. Он не лез за словом в карман»

Семен Гудзенко. 1940. «Он был одаренный поэт, тогда еще искренний»


«Илья Львович Сельвинский собрал чуть ли не всех способных молодых поэтов Москвы в семинаре при тогдашнем Гослитиздате».

Мария Петровых. «Она была хороша, хотя почему‑то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее были усталость, одухотворенность и тайна»

Сергей Наровчатов. 1965. Рисунок Е.Афанасьевой.

«Заболоцкий – характер баховский. Конечно, баховский, с поправкой на XX век».

«Александр Твардовский стал выдающейся личностью нашего времени. Он принадлежит истории».

В гостях у Евгении Гинзбург (справа). Слева – Василий Аксенов. Вторая половина 1970–х.

Юрий Левитанский, Юлия Сидур, Давид Самойлов и Галина Медведева в мастерской Вадима Сидура.1969.

С Александром I Володиным. Ленинград. I 1972


С Зиновием Гердтом среди артистов Таллинского русского драмтеатра. 1980

Урок стихосложения.

«Евтушенко – наиболее характерная фигура того времени. Он среднее арифметическое искусства. Он, если угодно, целый тип человека».

«Эпатирующая форма Вознесенского, не будучи официально признана и будучи официально охаяна, тоже стала фактором общественной борьбы за свободу вкусов»

Владимир Соколов. «Стихи читаю Соколова – Не часто, редко, иногда. Там незаносчивое слово, В котором тайная беда».

Николай Глазков. Рисунок В. Алексеева.

Леон Тоом.
«Прощай, мой добрый друг! Прощай, беспечный гений! Из всех твоих умений Остался дар разлук».
«Его стихи не просто известны двум поэтическим поколениям, но в творчестве многих он оставил свой след, много от него позаимствовали».




Лидия Корнеевна Чуковская. «У нее ясный, честный ум и талант дружбы».


С котом Максом.


«Солженицын один в России. И, может быть, второй не нужен».

«На этой картине я в пластилине».

«Милая жизнь! Протеканье времен. Медленное угасание сада.
Вот уж ничем я не обременен. Сказано слово, дописана сага».

«Осень. Уже улетели скворцы. Ветер в деревьях звучит многострунно. Грустно. Но именно в эти часы Так хорошо, одиноко, безумно».
Мы были за границей. В ту пору русское сознание до того отвыкло от пересечения границ, что невольно екнуло сердце, хотя местность за Бугом, селения и мелкие городки, представавшие перед нами в туманной пелене дождя, мало чем отличались от виденных.
Так или иначе, за последние годы (с 39–го) Россия несколько раз пересекала границы (туда и обратно) – Польша, Румыния, Финляндия, Прибалтика. В какое‑то подспудное сознание закрадывалась возможность, а может быть, и необходимость пересечения границ.
В то утро это понималось, конечно, совсем иначе, чем сейчас. И скорее соответствовало чувству освобождения нашей земли от врага и – наконец‑то! – осуществляющейся старой концепции – на чужой территории, – но малой ли кровью? Это еще как Бог покажет.
Расположились мы в лесу близ села Конколевница. Отрыли землянки, построили шалаши и стали ожидать дальнейших событий.
В Польше держали нас в строгости. Из расположения улизнуть было трудно. А шалости сурово наказывались. Например, придурковатого солдата Митю Демина закатали в штрафную роту по жалобе соседнего мужика, у которого Митя уволок ненужную раму, чтобы сделать окно в землянке.
Солдаты помирали от скуки, а тут еще капитан Богомолов, новый наш командир, уехал куда‑то недели на две – то ли в отпуск, то ли еще куда. С его отбытием занятия пошли кое‑как, потому что офицеры Кондаков и Касаткин во главе с замполитом разложились и стали попивать самогон, за которым порой устраивали экспедиции в окрестные села. А сержанты у нас в разведке не отличались служебным рвением и надрываться не любили.
И так рота жестоко скучала от подъема до отбоя и пребывала в томительном ожидании новой перекантовки, боевых действий или вообще какого‑нибудь происшествия.
В один из дней шофер Локотков, посланный за продуктами, привез щенка.
Никто не мог предполагать, что это мелкое событие вызовет такое оживление и даже сенсацию. Локотков и его собачонка стали героями дня. После обеда чуть не вся рота собралась у землянки шоферов, чтобы поглядеть на щенка. Это был обыкновенный кривоногий дворняг, выдаваемый хозяином за шотландского сеттера. Нашлись знатоки. Щенка брали за загривок, дули зачем‑то в уши, лезли в рот. Затевались споры. И в конце концов решили, что щенок – обыкновенная дворовая сучка. Локотков, обидевшись, спрятал собачонку под бушлат и ушел к себе в землянку. У него появилась уйма забот – добыть мисочку, сделать ящичек и уложить туда ветошь, чтобы было где спать щенку.
Ребята разошлись, втайне завидуя шоферу, но вслух понося сучку.
На следующий день привез собаку другой шофер – Махов. Маховский пес был взрослый, отдаленно походил на овчарку, неблагородное его происхождение проглядывало в добродушном нраве, неприхотливости в пище и готовности следовать за каждым, кто его поманит.
Новый пес заслонил локотковского щенка, ибо тут же нашлись дрессировщики, пытавшиеся научить его носить палку, делать стойку и прыгать через пень. Но это не понравилось Махову, и он пошел к сапожнику Наслузову с просьбой сделать ошейник и поводок, чтобы пес не бегал зря и не ластился к посторонним. Наслузов не отказался, но взамен потребовал и себе собаку, что вскоре исполнилось. Махов привез ему откуда‑то пестрого кобелька, сходившего за фокстерьера.
Так началось собачье помешательство в нашей роте.
Дня не проходило, чтобы кто‑нибудь из солдат не раздобывал себе пса. С развитием собаководства расцвели и ремесла. Нашлись жестянщики, изготовлявшие миски, и шорники, делавшие замысловатые ошейники. Кто плел поводки из старых ремней, а кто особо ценившиеся проволочные.
Скуку как рукой сняло. Весь день солдаты озабоченно сновали вокруг кухни, раздобывая питание для своих подопечных. Другие учили собак разным штучкам. А некоторые весь день просто важно прохаживались, посвистывая и призывая своих собак.
По вечерам не было конца разговорам об уме и преданности собачьей породы. Разгорались споры о статьях и сравнительных достоинствах разных сук и кобелей. Вскоре владельцами псов сделались чуть не все наши разведчики. Завел себе щенка и я и поселил его в штабной землянке. Щенка я по недостатку фантазии назвал немецкой овчаркой. Породы мы раздавали сами, и уже не принято было спорить.
Щенок спал со мной, ночью поскуливая и разнежась, как малое дитя. Удивительное это было чувство близости маленького теплого существа, чувство почти отеческое.
Теперь каждый въезд в наш лагерь вызывал острое любопытство. Кабину окружали со всех сторон, и шоферы торжественно доставали очередную собаку, купленную или сведенную в стокилометровой округе по дороге на склад продовольствия или боепитания. Каких только польских псов не навезли наши собачники! Больших и малых, старых и молодых, породистых и беспородных, ожесточенных и растерянных, ласковых и наглых, всех мастей и видов.
Расположение нашей части выглядело необычно. Повсюду бегали собаки. У входов в блиндажи сидели на цепях сторожевые псы, лая и кидаясь на тех, кто шел по делу.
Ночью собаки устраивали всеобщие свары, вой, дрались из‑за костей и устраивали любовные дуэли; выли на луну и тосковали но прежним хозяевам.
Офицеры сперва не принимали участия в этом деле и следили со стороны за развитием собачьей эпопеи. Но потом всеобщий азарт завладел и ими.
По своей гигантомании младший лейтенант Коля Кондаков отобрал у повара Колесаева громадное чудище, признанное датским догом. За ним обзавелись псарней Касаткин и замполит Борисов.
Замполит ничем не напоминал других замполитов, которых я знал до него. Здоровый детина, черномазый, коротко по – солдатски остриженный, с маленькими глазками и большим красноватым носом, он был выпивоха, бабник и лихой разведчик. Но решительно не мог связать двух слов и произнести короткую речь или провести политбеседу. Беседы проводил за него я. Мы были друзьями.
И уж если замполит увлекся собачьей игрой, то всем остальным сам бог велел. Так мы жили до того печального дня, когда вернулся в часть капитан Богомолов.
Говорят, досталось всем – и замполиту, и обоим лейтенантам, а пуще всех старшине Гончарову за то, что не сумел установить порядок на территории части.
После большого разгона построили роту.
– Так вот, – сказал капитан Богомолов без всякого предисловия, – даю сутки. Если встречу завтра здесь хоть одну скотину, сам пристрелю.
Он дал сутки и сквозь пальцы смотрел, как с утра потянулись из нашего леса в сторону Конколевницы опечаленные собаковладельцы. Они вели и тянули своих питомцев за поводки. А иные за пазухой несли щенков и комнатных собачонок.
В Конколевнице быстро образовалась собачья ярмарка. Установилась единообразная цена – литр самогона за собачью голову. Видно, в Польше за оккупацию сильно поубавилось дворовых псов. Торговля шла бойко, хоть и невесело.
А к вечеру все перепились. Капитан Богомолов в это не вмешивался. В нем не было жестокости и догматизма.
О Богомолове Степане Мокеевиче до сего дня вспоминаю хорошо. Это был честный, справедливый, добрый начальник. С цельной душой, не испорченной тяготами и переживаниями войны. Наши отношения с ним были дружескими, без фамильярности, не допускаемой военной субординацией.
У нас же в части служила и жена командира, Валентина Дмитриевна, медицинский работник, женщина умная и с характером.
Меня он оставил при прежнем деловодстве, даже перевел в штаб. С тех пор я стал жить вместе со старшиной роты Федором Гончаровым, с которым быстро подружился.
Федор чем‑то напоминал Косова, тоже был мужчина большущей силы, говорил басом и родом происходил из Алтайского края.
С ним, а также с хитроумным кладовщиком Иваном Ьакулиным нам удавалось иногда изобретать какой‑нибудь повод уехать на «виллисе» из скучной Конколевницы – на фуражировку в окрестные хутора. Там за канистру бензина, за сахар или за мыло мы раздобывали самогон и пили с угрюмоватыми мужиками и с коварными деревенскими паненками.
Раза три меня посылали в командировку во второй эшелон фронтового штаба, располагавшийся в Бялой – Подляске. В этом городке я квартировал вместе с экспедитором у старой пани Адамовичевой, чьи дочь и сын описаны в одном из моих стихотворений.
Правда, я переселил брата и сестру в соседний город Мендзыжец, а матушку их вовсе забыл на старом месте в наказание за то, что она неизменно присутствовала при чтении Сырокомли и мешала мне поговорить с чахоточной панной Марылей.
В говоре панны Марыли я впервые ощутил сладость польской речи и полюбил польский язык навсегда.
Не могу сказать, впрочем, что Польша сильно понравилась нам. В ее жителях не встречалось мне ничего шляхетского и рыцарского. Напротив, все было мещанским, хуторянским – и понятия, и интересы. Да и на нас в Восточной Польше смотрели настороженно и полувраждебно, стараясь содрать с освободителей что только возможно. Впрочем, женщины были утешительно красивы и кокетливы, они пленяли нас обхождением, воркующей речью, где все вдруг становилось понятно, и сами пленялись порой грубоватой мужской силой или солдатским мундиром. И бледные отощавшие их поклонники из поляков, скрипя зубами, до времени уходили в тень.
Наступала прохладная осень, мы получили приказ передислоцироваться в город Седльце, поближе к штабу фронта








