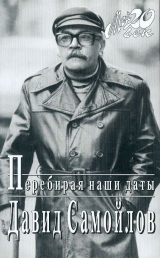
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
Была вакансия сталиниста – западника. Эренбург стал крайним западным флангом сталинизма.
При множественности аспектов сталинизма победа Сталина была и победой российской провинции над космополитическим духом интеллигентско – дворянского Петербурга, вольтерьянского, фармазонского, байронического, воспарившего в Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского.
При Сталине все вожди говорили с провинциальным акцентом.
Эренбург писал с акцентом парижским. Он ложь царям с улыбкой говорил.
В старости, подводя итоги, он сказал о себе: «Я всю жизнь петлял». Петлять – значит плутать или путать. В молодости, может, и плутал. А потом стал путать. И запутывал лихо. Никому не известно, кем он хотел стать. Скорей всего тем, чем стал. Делал вид, что хотел стать поэтом, но, на себя рассерчав, стал журналистом. На самом деле он прирожденный журналист. Поэзии нет в его природе. У него и ум, и глаз, и стиль журналиста. Он писал о временном, а делал вид, что пишет о времени.
В уме, однако, ему отказать нельзя. Он рано понял свою второсортность. И понял, каким образом второй сорт выдают за первый. В литературе временной второй сорт, а то и третий выступают в ранге первого.
Эренбург достаточно повидал в Париже людей, стяжавших посмертную славу. Но не у них он учился в «Ротонде». Его тянуло к мирской славе. А прижизненную славу раздают не так, как посмертную.
Эренбург в «Ротонде» учился стилю. Не способу жить и мыслить, то есть создавать первичные продукты человеческой природы, а стилю, то есть способу приготовления. Он учился французской кухне, где в луковом супе меньше всего луку.
В романах Эренбурга о времени – временем только пахнет.
Нельзя сказать, однако, что потребность, порождающая искусство, близкое к кулинарии, есть потребность мнимая. Напротив, искусство это порождено самой утробной насущной потребностью каждого члена общества отыскать нечто утешающее и объясняющее текущий момент его жизни. Ибо мы живем каждый день не высшими интересами бытия, а самыми что ни на есть ординарными, кулинарными потребностями и зависимостью от слухов, разговоров, переговоров, статей, постановлений; кормимся каждый день варевом современной журналистско – политической кухни, принимая его за экстракт времени.
Нельзя сказать, что для кулинарного искусства не нужно ни таланта, ни благородства. Нужно. Но все второго сорта. А уж известно – какое может быть благородство второго сорта.
Чтобы покончить с уже надоевшей аллегорией, скажу еще одно: судить ухарей – кухарей, к которым принадлежал Эренбург, надо с ясным представлением, для кого они готовят варево, чей стол обслуживают. Бывают и честные кухари. Бывают.
Был ли Эренбург вовсе безнравствен? Всегда ли сознательно лгал? Может быть, лгал и себе?
Говорят, он был личность сложная.
Не думаю. Он был одаренный и умный человек, много повидавший, бывалый. А сложным, по – моему, не был.
Он жаден был к внешнему, потому и был ярким журналистом. И эту жадность всю жизнь оправдывал. Убеждал, что все в его жизни было сложно, но правильно, честно. Скрытое в нем самооправдание и делало его писателем интеллигентским, в отличие от тех – натур более грубых, – что без обиняков лизали, вламывались, восхваляли, воскуряли, воспевали, при этом чувствуя невинную свою правоту.
Когда конфликтов не признавали, Эренбург придумывал мнимые конфликты для своих героев. Когда призывали проламывать головы, он убеждал. Он был государственник по способу существования, по профессии. Но государственник особого рода. Он всякое государство не любил, от всякого не ждал добра, однако знал, что оно земных благ раздатчик. Повидал эмиграцию и понял, что такие, как он, там не нужны. Потому и стал советским. Сентиментален не был. И позицию свою точно изложил в одном «Хулио Хуренито». Книгу эту до сегодня считаю единственной стоящей книгой Эренбурга, где вся его второсортность выражена с такой превосходной второсортностью. что получилось нечто вроде единства формы и содержания – лучшая из второсортных книг нашей литературы.
В восемнадцать лет с увлечением читали «День второй». Много времени спустя я прочитал «Котлован» Андрея Платонова. Недавно «День второй» перечитал. Пошлая, фальшивая и ничтожная книга.
Неужели в восемнадцать лет мы были пошлы, фальшивы и ничтожны? Скорей всего, глупы, восторженны и обмануты.
Недоумение свое, несводимость происходящего с принципами, в которых нас воспитывали, объясняли собственной социальной неполноценностью. И Эренбург подтверждал: да, Володя Сафонов из «Дня второго» потому и погибает, что социально неполноценен, что корни у него гнилые.
Вот мы и старались подрубить корни, привиться к иному, свежему, романтическому, как нам казалось тогда.
А в «Оттепели» оказывается, что другой Володя (или тот же) – Володя Пухов загнивает не от корней. Корни свежие, партийно – пенсионерские. А вот ствол прогнивший.
Не в корнях, значит, дело. Обманывал нас Эренбург. Дело в деле. Делай его и будешь счастлив, хоть вокруг тебя светопреставление. И пример тому – человек вовсе без корней – Коротеев (не Каратаев ли в эренбурговском варианте?).
Я теперь думаю, что многие из нас, да и я в том числе, любили Эренбурга, а главное – уважали его ввиду противоестественности духовной жизни тридцатых и сороковых годов. Противоестественное казалось естественным. И умней всех эту противоестественность выдавал за естественность Эренбург. И не только потому, что лгал. Ложь была его убеждением. Он сам верил, что противоестественное естественно для государства. В этом он был органичен и убедителен.
Может быть, поняв это, можно умерить негодование.
Умеряется негодование и при воспоминании о его тонком бледном лице европейца– проницательного, скептического, умудренного печальным опытом; о том, что он когда‑то кому‑то помог; о том, что хвалил Пикассо и Леже, переводил Вийона; находился в Испании во время последней романтической войны и, говорят, под бомбами не трусил.
Вспоминается, впрочем, и другое. В апреле 45–го года, еще до известной статьи Александрова, где свыше предписывалось щадить побежденных, я на пороге Германии созвал комсомольское собрание разведчиков на тему «О поведении советских воинов в логове зверя».
Я поспешил и мог бы здорово погореть, ибо полез с гуманизмом поперед батьки, но мы назавтра тронулись с места, особист наш, как всегда накануне сражения, был в отлучке. А потом опубликовали известное письмо, и я оказался прав.
Разведчики хмуро слушали мой доклад о милосердии к побежденным. В прениях никто не выступил. Только веселый кругленький гармонист Ляшок выкрикнул из угла:
– А ты Эренбурга читай!
Раздался одобрительный гул.
Наши ребята не были ни злыми, ни жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с кистенем и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу по – разински, по – пугачевски. И это желание постоянно подогревалось лозунгами, стихами и особенно – эренбурговскими статьями.
Положение было трудное, качать права бесполезно. И тут я напомнил собранию эпизод из недавнего прошлого.
По метельным февральским дорогам мы вступили в Мендзыхуд – на– Варте. До утра разместились в недостроенных домишках на окраине, и вдруг кто‑то крикнул: «Да тут немцы!» Их было трое: два старика и старуха, беспомощно сидевшая в детской колясочке.
– Гнать их к такой‑то матери! – решил старший лейтенант Касаткин, командир артиллерийского взвода.
Я едва уговорил его оставить стариков до утра. Мы дали им хлеба, и при свете солдатского каганца я разглядел всех троих. Это были старые немецкие музыканты с добродушными большеносыми лицами, одетые в концертные сюртуки. Говорил я по – немецки прескверно, потому разговор наш состоял из мелодических фраз.
– О, Тшайковский!
– О, Брамс!
– О, Шуберт!
Ребята вскоре заснули. А мы вчетвером до утра напевали – титири– ти – ти – титири – ти – ти – из симфоний первых, пятых и седьмых. «О, Шуман! О, Моцарт! О, Гайдн!»
Когда рассвело, старики собрались в дорогу. Солдаты помогли им вытащить детскую коляску со старухой и поставили ее на шоссе. Во второй колясочке лежали два чемодана и две скрипки.
Узкое шоссе, с двух сторон обсаженное деревьями, уходило куда‑то вверх, суживаясь на холме. Оно вело в Германию. Хмурым утром начала марта старики уходили в Германию, везя парализованную старуху. И на некрутых взгорьях оставляли тележку со скрипками и вдвоем толкали старуху… А мы глядели им вслед.
Вот и все. На этом я закрыл собрание.
Было бы слишком похоже на литературу, если бы именно тогда, в марте 45–го года, и потом, в апреле, уже под Берлином, я осознал роль Эренбурга и оценил его по достоинству. Ничуть не бывало.
Эпизод с комсомольским собранием всплыл в памяти позже, и только горячие споры об «Оттепели» выстроили в сознании все, что подспудно накапливалось, а было еще не мыслью, было инстинктивным неприятием, смутным раздражением. И отсюда, от «Оттепели», от моего письма Слуцкому, от письма, где Эренбург и не поминается, но незримо присутствует как идеолог для Слуцкого тех времен, – оттуда и возникло то личное, что ощущается в моих записках по отношению к Эренбургу.
Он нравился людям, которых я уважал и любил, с которыми спорил, против которых ожесточался. Он прикасался к «моему», петлял и путал вокруг. Потому и пишу о нем, а не о Грибачеве или Симонове. Где бы они ни петляли, меня это трогает мало.
Эренбург был представителем иллюзий послесталинского десятилетия, «эпохи позднего реабилитанса». Полезны или вредны были эти иллюзии? Они, вероятно, были необходимы. Нужно было залечить жгучие раны памяти. Нужно было, чтобы зарубцевался страх, чтобы чуть просветлело на душе, измаянной, приглушенной и оглушенной.
Ибо кто бы выдержал переход от кровавой веры к кровавому неверию, к сдиранию бинтов, к обнажению язв?
Иллюзии были госпитальным сном. В них мы медленно выздоравливали.
Может, и сам Эренбург на минуту поверил хотя бы в то, что в Манеже откроют «Ротонду». Я хотел бы думать так.
В 53–м году я не был обременен путем, я торопился и ждать уже больше не мог. В 33 года становятся прозаиками. Я же только собирался стать поэтом. И мог им стать – это я чувствовал – только «в предвиденье будущих бед». Я не представлял себе, с каким трудом дается обществу и каждому из его членов освоение нового содержания времени, обретение нового состояния. Мне странным казалось, что новое время начинается «с бунта формы». А Эренбург писал, что человечество с трудом принимает новую форму. Опыт показывает, что содержание дается намного труднее. Что в новых формах часто прозябает старое содержание, или они попросту заменяют содержание.
В ту пору и впрямь обрыдли старые формы.
Эренбург хвалил Аполлинера, Пикассо и Шагала. Своим вкусом он питал молодых. Наверное, именно это особливо раздражало начальство. Осенью 62–го года незабвенный Никита Сергеевич на Эренбурга натопал ногами. Через несколько дней я встретил его на вечере поэзии Рафаэля Альберти. Он был нарочито спокоен, даже веселоват. Уже старенький, прозрачный, опытный. Потом мы вместе выступали на вечере памяти Марины Цветаевой. Речь его была полна ироническими полунамеками. Перекинулись несколькими словами. Он, пожалуй, тогда понравился мне.
После очередного начальственного «цыц!» литературе Эренбург, как говорили, впал в депрессию. Moй бы под старость сказать верное слово, но не сказал. То ли сил не хватило, то ли отваги.
У нас за это не судят.
Повторился старый русский сюжет про Герасима и Муму. Полстолетия русские писатели топили своего Муму и вешались. А чаще садились писать оправдательные записки. Эренбург засел за мемуары.
Еще несколько раз я встречал его на вечерах и приемах, последний раз и в чешском посольстве. Потом – был на его похоронах.
…Мое запоздалое слово о нем не из веселых. Клубок памяти размотался не на месте.
Вздохнув, возвращаюсь в февраль 44–го года. Эренбург мне помог уехать на фронт. И, может быть, что‑то понять.
Скоро ли после этой войны любовь к России сможет выражаться по– щедрински? Вероятно, законная гордость победителей у мещан взыграет, обратится в бахвальство, и невежество задерет нос. Рядом с политическим процессом традиционализации (стратегия или тактика?) это будет помехой нашей литературе. Ибо понимать умное на Руси можно заставить лишь «сверху». У нас гораздо больше добрых, чем умных.
Пожалуй, все добрые, если позволят обстоятельства.
Такова последняя тыловая запись в самодельном блокноте 44–го года
Белоруссия родная, Украина золотая…
В Гомеле я разыскал штаб 1–го Белорусского фронта. А в штабе – разведотдел, Майор Саркисов – лысый, лопоухий армянин, к которому мне надлежало явиться, сразу же наорал на меня за опоздание. Выходило, что именно меня здесь с нетерпением ожидали и из‑за меня срывалось ка– кое‑то важное мероприятие. Откричавшись, майор задумался. Дело в том, что в его штатном расписании значились лишь офицерские должности. Ефрейтор, даже откомандированный Генеральным штабом, ему не полагался.
Саркисов предложил направить меня в Военный институт иностранных языков. Это не входило в мои планы.
Досадливо пожав плечами, он отпустил меня отдыхать, пообещав вскоре известить о решении.
Майор меня невзлюбил с первого взгляда непонятно почему. И до конца войны обходил званиями и наградами.
Лева Безыменский меня не ожидал. Трудно было поверить, что фиктивная бумажка с вызовом может повлиять на мою судьбу. Впрочем, встреча наша была сердечной. Я поселился у Левы, и первое время не было конца разговорам и общим воспоминаниям.
Между тем приезд мой был не особенно удобен Безыменскому. И вскоре я это почувствовал.
С нашими отношениями никак не вязался дух субординации, столь чтимый в семье и окружении Безыменских. Отношения же со мной вне этого духа, как, видимо, полагал Лева, наносили некоторый ущерб его офицерскому престижу.
Лучшие из его фронтовых товарищей ни в чем не давали ему это почувствовать, ибо многие из них, вроде майора Симоняна, были добрые ребята, а остальные, вроде майора Наровлянского, люди глубоко штатские. мало дорожили принадлежностью к офицерской касте.
Другие же, как лопоухий Саркисов и полный гонора майор Савицкий – начальник следственной части, держались натянуто, когда случай сводил меня и их в одном обществе. Это смущало, а вскоре стало и раздражать Безыменского.
Я. впрочем, только потом понял, что держался слишком свободно с сослуживцами моего друга, тем самым нарушая уставный способ обращения рядового с офицерами.
Может быть, это было причиной неприязни ко мне Саркисова – военного чиновника до мозга костей, если хотя бы в костях у него содержался мозг.
Все же Безыменский был рад моему приезду В его многотрудной жизни долгие годы я был чем‑то вроде отдохновения и доброго дела, в общении со мной он порой расслаблялся от вечной сосредоточенности и отдалялся от ежедневных помыслов. Нам предстояло пробыть в близком соседстве полтора года. И мы все же могли делиться если не заветными мыслями, то новостями о родных и друзьях и воспоминаниями, милыми сердцу в отдалении от дома.
Дня три я прожил в полном безделье. Валялся на койке, читая Гоголя и поедая шоколад, которого накопилось множество коробок – из домашних посылок запасливого Левы. Шоколад, как и человек, белеет от старости и при этом теряет вкус и запах…
Меня зачислили комсоргом в разведроту. Полное ее название – Третья отдельная моторазведывательная рота разведотдела штаба 1 – го Белорусского фронта. Командиром ее был храбрый и добрый офицер – капитан Харитонов. К вечеру старшина привел меня в хату на окраине Гомеля, где размещался один из взводов. За непокрытым столом в пятистенной избе сидело с десяток белозубых парней, подстриженных кто полубоксом, кто под польку, одетых в добротные гимнастерки (иногда без погон). Сразу было видно, что они не чета старшевозрастной деревенской матушке – пехоте. Они свободно и по – дружески поздоровались со старшиной и позвали меня ужинать. Мне отвалили большой котелок крутосваренной пшенки, дали с полкило хлеба и приличный кус сала. Когда старшина ушел, старший среди солдат сержант Быков налил мне полкружки самогона. Принимали в разведчики так: в барабане нагана оставляли одну пулю. Крутанув барабан, прикладывали наган к виску и нажимали на крючок. Так все по очереди. Только новичок не знал, что в барабане заложена стреляная гильза. Шутка казалась необычайно остроумной всем разведчикам. Когда, бледный, я спустил курок, все захохотали.
Рота жила воспоминаниями о недавних боях в Белоруссии, пополнялась, бездельничала, неся легкую караульную службу. Наш непосредственный начальник из разведотдела полковник Данилюк приказал мне занять разведчиков самодеятельностью. Я организовал хор. исполнявший ужасными голосами под баян песню «От края до края по горным вершинам»… Времени оставалось достаточно. Впервые за войну я начал пописывать стихи.
Я не могу сказать, что от жизни пришел к литературе. Скорее от литературы к жизни. От обратной связи. Ни одна жизненная ситуация не увлекала меня и не потрясала настолько же, насколько факты литературы. Жизненные факты всегда служили для меня лишь толчком, и я переживал их несколько вяло, пока во мне они не преобразовывались в субстанцию литературную, и тогда уже, в претворенном виде, я переживал эти факты со всей силой чувства, яростью сожаления, что их жизненная основа навсегда мной утрачена и ощутима только в мысли, что ее нельзя потрогать и вновь прожить в реальности.
Я думаю, что лишен другого дарования, кроме способности вторично прожить ситуацию в «другом этаже». Но это еще далеко от результата искусства. Нужно не только выйти из реальности, но и уметь вернуться к ней, сфокусировав силу переживания.
Мои стихи были результатом выхода из реальности, они рождались на этапе выхода. Я не умел вернуться в реальность слова, речи, то есть в ту реальность, где осуществляется поэзия.
Стихи мои были безнадежно плохи.
Во время войны мы вернулись к литературе революционного романтизма. Один из его планов – сентиментальность. Поскольку дело касалось войны – это была литература искренняя.
Литература, обслуживающая непосредственную потребность жизни. Литература, не возвращавшаяся к жизни ради ее нравственного преображения. Это была литература преднравственности. Но поскольку вопрос касался смерти, в ней было порой нечто жгучее и возбуждающее. Она несомненно влияла на «исполнение жизни», но ничего не давала для понимания.
Лучшая литература военного времени – литература факта. Исключение – «Теркин». Начавшись с факта, он перерос в былину Былина кончается с крестьянством. «Последний поэт деревни» Твардовский написал последнюю былину для последних крестьян о последней Русской Войне, где большинство солдат были крестьяне.
К весне штаб фронта двинулся на запад. Вслед за ним, погрузив на платформы броневики, «виллисы», мотоциклы и походную мастерскую, тронулись и мы.
Штаб расположился в городе Овруче, а наша рота – в деревне Геевичи, от города в десяти километрах. Там за какие‑то якобы упущения был смещен капитан Харитонов и к нам назначен командиром некий Герой Советского Союза, фамилии которого никто не запомнил ввиду краткости пребывания его в должности. Он явился к нам в сопровождении где‑то по пути прихваченной военной девчонки и вместе с ней, произведя роте инспекторский смотр, удалился в хату, назначенную ему для постоя, откуда на свет божий не появлялся.
Утром ему подавали спирту и двухкилограммовую банку американской колбасы. В полночь он пускал из фортки ракету, объявляя учебную тревогу. Сам. однако, из дому не выходил.
По первой тревоге рота поднялась как положено, за пять минут. В последующие ночи время боевой подготовки все удлинялось, пока, наконец, дежурные вовсе не перестали обращать внимание на сигнальную ракету пьяного командира.
Герой вскоре был уволен и куда‑то отправлен вместе с плачущей военной девчонкой. Вслед за ним изгнали и начальника ротного делопроизводства Бердюгина, видно, за излишнее потакание кратковременному начальству. Нас же переселили в лес под Овруч, под бок к штабу фронта.
Штаб фронта в ту пору представлял собою большое слаженное учреждение, располагавшееся километрах в ста, а то и больше, от передовой. Зная схему дислокации, можно было в любом месте разыскать его отделы и службы. Охрану нес специальный батальон. К штабу вела ВАД – Военно – автомобильная дорога – всегда одного и того же номера. И мы за много километров знали, что попадем на место, увидев на перекрестке знакомых регулировщиц.
Смена географических мест – единственное, что отличало службу множества военных чиновников в штабе фронта от службы в любом тыловом военном учреждении.
Половина разведотдела состояла из таких чиновников, не нюхавших пороху и лишь получавших очередные регалии за успешные операции фронта.
Другие офицеры регулярно выезжали в боевые подразделения, принимая непосредственное участие в операциях. В этих, как, например, в полковнике Данилюке, было меньше штабного лоску. Наши ребята часто сопровождали их в командировки на передовую.
Этим и ограничивалась наша служба до лета 1944 года.
Жили мы в прекрасном лесу, среди сосен и орешников, вместо занятий дремали полдня на полянках в отдалении от войны.
Ни о чем не думалось. Роман мой иссякал сам собой. Мечталось о возвращении и о доме. После открытия Второго фронта виделся уже конец войны.
Второй фронт был воспринят с той перегоревшей радостью, с какой принимается согласие долго строптивившейся невесты…
Окрестные мужики, привыкшие хозяйствовать в лесах, гнали самогон на укромных полянах. Их со всеми припасами накрывали разведчики и налагали дань. Мужики, крякая, отдавали часть самогона. Исчезали в более потайные места. Делом чести было отыскивать их снова.
Ввиду изгнания деловода Бердюгина вернувшийся в часть командир Харитонов приказал мне составить месячные отчеты по всем видам довольствия и снабжения.
Дело это – нехитрое, но требующее известной живости ума. С этого времени до ухода из армии я единолично вел все бумажное производство небольшой части, сочиняя все – от отчетов по продовольствию до реляций о награждении и боевых донесений. Вместо пишущей машинки служил Васька Карпов – человек с идеальным почерком. С ним я и поселился в штабной землянке.
Для сдачи отчетов мне дали двухдневную командировку в местечко Народичи, во второй эшелон штаба, куда мы и отбыли с шофером Мишей Тушинским. Он, как оказалось, был местный. Мы находились в двенадцати километрах от его дома.
Довольно быстро управившись, решили с Мишей ночевать у его родителей на хуторе неподалеку от Народичей.
Проехали сперва бронзовым молодым сосняком со светлым ореховым подлеском. Миновали вброд несколько ручьев, потом небольшую речку. Пересекли несколько смешанных перелесков и вдруг выехали к хутору Любарка. Темнело поздно в эти дни. Ночь от дня отделяло длинное, погожее предвечерье.
Хутор не был тронут войной и как бы отделен от нее лесом и полем. Он состоял из двух десятков хат и садов, вишенных и яблоневых. Ручей, перегороженный маленькой плотиной, образовал пруд. В крайней к мельнице хате жили родители Тушинского. Надо ли говорить, какими радостными причитаниями встретила Мишу его мать, сколько объятий и поцелуев досталось и мне. Старик Тушинский, высокий, с гайдамацкими усами, степенно приветствовал нас.
В лицах Мишиных родителей чувствовалась порода и виделось достоинство. Жители Любарки называли себя – шляхта и, видимо, прежде были не крепостные, а однодворцы, может быть, потомки войска тушинского Самозванца. Отсюда – фамилия Миши. Внутренность беленой хаты напоминала декорацию украинской оперы, а вид из окошек – иллюстрацию к Гоголю.
Нас тотчас принялись угощать борщом, галушками и медом. Не обошлось без пшеничного вина.
Тушинский тихо беседовал с родителями, а я благодушествовал, поглядывая в оконце. И тут в дверь заглянула молодая соседка с каким‑то делом, а скорее от простого любопытства.
Миша успел шепнуть мне, что это – Катя, с которой состоит в переписке Сашка Пирожков из нашей части, и тут же представил меня девушке, сказав, что я и есть ее заочный знакомый Сашка Пирожков. Так в мгновение ока я превратился в Пирожкова и не знал, как поступать дальше. Катя как‑то свободно и ясно поздоровалась и присела к столу, с любопытством меня разглядывая. Не желая мешать разговору родителей с сыном, мы вышли на крыльцо.
– Я так и думала, что ты такой, – просто сказала Катя.
И просидели мы всю ночь под одной шинелью – Катя, гоголевская панночка, и я, мнимый Пирожков, – на старой плотине, под кваканье лягушек, пока не рассвело, и я упивался почти понятной речью и Катиной доверчивой готовностью к любви.
В последующие суматошные дни я не успел сказать Пирожкову, что был им, а когда вспомнил, прошло уже два месяца. Катя писала ему, что после встречи любит и ждет Пирожкова. А он, не поняв, в чем дело, отвечал ей в тон, принимая ее письма за метафору и девичью фантазию.
Катин образ время от времени возникал в моем воображении и странно – никогда не отразился в Стихах.
В июне 1944 года мы выехали на задание против бендеровцев. К тому времени мы кое‑что слышали о бендеровском движении, впрочем, сведения были отрывочные, неточные и разноречивые.
О главе партизанского войска, которого кто именовал Бендерой, кто – Бандерой, а по имени Семеном, ходили разные слухи. Одни говорили, что он петлюровский полковник, другие – что полковник польской службы. Третьи – что киевский или львовский студент. В его отрядах, по слухам, тридцать или сорок тысяч бойцов.
Известно было также, что существуют украинские отряды мельниковцев и бульбовцев. Но точно никто не знал, существуют ли Мельник и Бульба и в каких отношениях находятся с Бандерой. Получалось, что это вроде как бы крайние и уже совсем бандитские варианты украинского мужицкого восстания. Попалась мне как‑то бендеровская листовка на русском языке, отпечатанная типографским способом. Там кратко и грамотно излагалась идея устроения Украины по европейскому образцу, без колхозов и без НКВД. «Нам все равно – НКВД или гестапо».
Не знаю, много ли народу прочло эту листовку и какое она произвела впечатление. Во всяком случае, наши украинцы не высказывали какого– либо особого мнения о бендеровщине и не выказывали внешне никакого к ней сочувствия. Слышал я и о том, что в феврале 44–го года в городе Олевске состоялось соглашение между немецким командованием и украинским партизанским движением о совместной борьбе с Красной Армией. По – видимому, так оно и было, потому что с уходом немцев из этого района постоянно доходили слухи о нападении бендеровцев на отдельных наших военнослужащих и даже на мелкие воинские подразделения.
Никаких политбесед по этому вопросу я не помню. Как‑то само собой было ясно, что кто бы из любых соображений ни воевал с Красной Армией, является нашим врагом и пособником фашистов. Таков был и мой взгляд. Хотя стихотворение «Бандитка», написанное, правда, уже после войны, свидетельствует о том, что мои ощущения всегда бывали верней и честней мыслей. Там конвоир ведет арестованную бендеровку. А она ему говорит:
…Слухай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
По Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры,
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зеленая горилка
В беленых хатах под Березно,
И спящим москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы,
Пора пограбить печенегам,
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не облиться.
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!..
Наши «виллисы», броневики и пушки колонной двигались по шоссе мимо Коростеня и Сарн по району бывшего партизанского заповедника. Каких только отрядов не пребывало здесь в тылу у немцев! Наши ковпаковцы, федоровцы и сабуровцы, несколько сортов польских отрядов, несколько вариантов украинских и просто «зеленые», мужики, укрывавшиеся от угона в Германию, от мобилизации и карательных экспедиций. Как только могли прокормиться все эти войска в разоренном и обобранном краю!
Мы миновали Новоград – Волынский и расположились по какому‑то плану в селах вдоль реки Случ.
Я был назначен начальствовать над десятком солдат на переправе у села Березно, где мы окопались на высоком берегу близ разрушенной плотины, примыкавшей к разоренному заводику, уже не упомню, какого назначения, ибо от него осталось лишь пустое здание с выбитыми стеклами. Говорили, что здешние земли принадлежали графине Валевской.
Харитонов приказал нам наблюдать за переправой, а также повыведывать у местных жителей сведения о бендеровцах в здешней округе.
У меня до сих дней сохранился листок со схемой нашего расположения. Мне казалось, что я с великой стратегической предусмотрительностью расставил броневик, пушку и два пулемета, чтобы сделать переправу недоступной.
Село Березно казалось больше, веселей и богаче, чем деревни, где мы до тех пор квартировались. Заняв позицию, мы по трое отправлялись знакомиться с населением, разведывать о бендеровцах, а заодно и раздобыть что‑нибудь на ужин.
В беленых и чистых хатах нас встречали одни бабы и ребятишки. Незадолго перед тем по селу прошелся сыпняк, и многие бабы были коротко пострижены. Нас принимали внешне приветливо, но как‑то настороженно и напряженно. Привыкшие, видно, к разным поборам, бабы сами несли нам хлеб, молоко, яйца. Но на вопросы отвечали скупо. И как будто радовались, когда начиналось солдатское балагурство и ухаживание:
– Где мужик?
– Помер под Каляды.
– Герман угнал.
– Ваши забрали.
Так отвечали во всех хатах, и казалось, что это правда.
Я потом только понял, какая напряженная жизнь таилась под внешним спокойствием украинского села.
В сельсовете сидел растерянный однорукий солдат – председатель. Два его предшественника были убиты. Его должность была должность смертника, неизвестно, где набирались новые кадры.
Возле старого барского сада в одном из флигелей умирал русский механик бывшей фабрики.
– Я скоро помру, – сказал он. – Слава Богу, дождался своих. Ищите Сергея Шпоняка…
Едва мы вернулись в свое расположение, как двое солдат, отправившихся на соседний хутор за провиантом, прибежали с криком, что их обстреляли. Пошли прочесывать хутор. Лазили по чердакам и подвалам. Никого не нашли. Может, почудилось нашим солдатам?.. Однако, возвращаясь напрямик через пшеничное поле, вдруг обнаружили блиндаж, а в нем двух мужиков: то ли бандиты, то ли дезертиры. Отправили обоих к Харитонову. Пошли по селу искать Шпоняка. Отыскали дом его. Шпонячиха, баба лет сорока, на вопрос «где муж?» сухо ответила:








