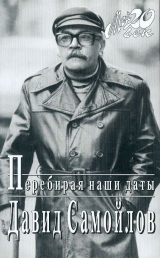
Текст книги "Перебирая наши даты"
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
Горняшка
Передний край оказался опушкой заболоченного леса, кое – где отделенного от болота нейтральной полосы бревенчатым забором в рост человека. Забор этот, построенный ломаной линией, защищал от шальной пули и заменял окоп. Сквозь небольшие оконца можно было стрелять в сторону противника.
От минометного огня укрывались в небольших дзотах или землянках в три – четыре наката, обсыпанных землей и замаскированных мхом. Они напоминали большие муравьиные кучи.
От артиллерийского обстрела, в сущности, защиты не было. Но немцы вели его редко и по площадям. Фугасные снаряды глухо ухали в болото, разбрызгивая грязь.
В землянках отогревались, ели и спали, не раздеваясь и не снимая с пояса гранат, солдаты, свободные от караула. В дзотах лежали при пулемете, глядя сквозь амбразуру на простреленные кустарники нейтральной полосы.
Своей деревянно – земляной архитектурой передний край напоминал какие‑нибудь древнерусские пограничные крепостцы, засеки или заставы. На старинных воинов походили и пожилые мужики в ушанках и телогрейках, именуемых здесь «куфайками».
Один из них с ружьем стоял на посту близ дзота, покуривая в рукав и поглядывая в амбразурку. Другой чистил винтовку щелочью и маслом. Двое сидели на бревне у входа в блиндаж и тоже покуривали.
Эта мирная картина была успокаивающим контрастом вчерашней настильной дороге вдоль фронта, по которой мы бесконечно шли, оскальзываясь на хлюпающих бревнах, прислушиваясь к отдаленному грохоту справа, напоминавшему работу камнедробильной машины, и встревоженно оглядываясь на встречные санитарные обозы. Крестьянские лошаденки медленно волокли узкие дроги, где по двое, по трое лежали раненые, прикрытые брезентом от дождя так, что только иногда можно было увидеть часть забинтованной головы, руки или ноги.
Посасывало под ложечкой от тревожной близости смерти.
Солдаты, расположившиеся в конце просеки, рядом со спрятанным в ельнике дзотом, оказались пулеметным расчетом старшего сержанта Кабанова из второго батальона горно – стрелковой бригады, прозванной на фронте «горняшка». Здесь мне предстояло прожить осень 42–го и зиму 43–го года.
Самые напряженные месяцы войны я провел на «тихом» фронте, в болотной обороне. Как все важное в моей жизни – превращение в солдата происходило медленно и постепенно, по какому‑то моей жизни присущему закону.
Именно такому темпу хорошо соответствовала прочно усвоенная мной солдатская мудрость: «ни на что не напрашивайся, ни от чего не отпрашивайся».
В этом изречении я усматриваю не просто формулу русского фатализма, а скорее опыт осторожного обращения с жизненным материалом, столь огнеопасным в России. В этом изречении проявляется народный слух, улавливающий в движении жизни некий особый ритм. «Не напрашивайся» означает доверие к этому ритму, доверие настолько полное, что приводит и к «не отпрашивайся». Доверие это основано не на знании абстрактных законов жизни, не на дедукции, которая всегда вносит в понимание жизни субъективный момент долженствования, – оно основано на ощущении конкретного протекания жизни, на ощущении цвета, вкуса и формы каждой данной волны, а не на теории волн, формулы которой всегда нуждаются в поправках.
В ту пору, о которой я говорю, – в пору трудную, но, вероятно, лучшую для национального духа за многие годы, принцип «не напрашивайся – не отпрашивайся», может быть, все же отдавал фатализмом, но отнюдь не был оправданием конформизма.
Народ не отпрашивался от войны, от смерти, от тюрьмы и сумы.
Только на этой ступени доверия к жизни, доверия к жизни гражданской, «не напрашивайся» звучит высоким и достойным приуготовлением к «не отпрашивайся».
Нация именно в ту пору переживала острый период своего развития, когда резко изменялся состав народа. Мы еще мало думали о том, какую роль сыграла война в ускорении процесса, который мы именуем процессом урбанизации.
Уход с исторической сцены народа – мужика стал высоким финалом крестьянской трагедии. Действующее лицо этой трагедии – народ – мужик – в последний раз показал мощную специфику своего духа.
Подвиг крестьянства, которому будущее сулило одно изживание, то есть ничего не сулило, был выше делового героизма «второй генерации власти» и того посредственного слоя, который стал базой «второй генерации».
Именно с тех позиций уходящего народа каждому слою или личности, лишенным исторических перспектив, следует воспринять гражданское содержание народной формулы: «Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отпрашивайся».
Народ – мужик, чей подвиг достоин самого высокого воспевания и достойно воспет, пожалуй, одним лишь Твардовским, представал между тем чредою отдельных лиц, часто наделенных качествами, невыносимыми для юного городского интеллигента.
Сержант Кабанов, к которому я попал под команду, человек по душе не злой, грубо презирал знания и, так сказать, интеллектуализм, в то же время как бы и завидуя им. Он не то чтобы преследовал меня, но часто грубо притеснял и постоянно со мной тягался, яростно споря, например, о том, что вша лезет из тела от заботы, а триппер бывает от простуды. Вместе с тем он и гордился мной, и особенно тем, что под его командой находился московский студент, и даже вызывал блеснуть перед ходоками из других пулеметных расчетов, специально посылаемыми, чтобы узнать новости и прогнозы насчет ближайшего хода событий, а то и просто попросить написать письмо или стрельнуть табаку.
Кабанов был грубой натурой, при этом – классный пулеметчик из чапаевской дивизии.
– У меня никакая оружия от рук не отобьется, – говаривал он.
Другой тип был Шипицын, тихонький вятский мужичишка, в бою, однако, не робкого десятка. Он благоговел перед Кабановым и вообще начальства боялся больше, чем немца, потому собственного мнения не имел, а точнее – не высказывал. Он привык к насмешкам, которым подвергались вятские из‑за их дробно – окающего говорка, и, посмеиваясь, отмалчивался, когда приставали с расспросами, как вятский ехал со середы на базар или как затаскивал корову на крышу.
Вторым номером до меня в пулеметном расчете был Макар Прянишников, старик лет сорока. Может, за то он возненавидел меня, что вынужден был уступить должность, на его взгляд, значительную. Меня он преследовал и постоянно утеснял, как мог. Он был из тверских валенщиков. Скуп, запаслив и осторожно вороват. Медленно и как‑то с боку на бок пережевывал пищу, перетирал ее стертыми желтыми зубами, как старая корова. Утром, выйдя из землянки, обстоятельно опорожнялся, громко пускал злого духа и удовлетворенно говорил: «Ну, Макар, перезимуешь».
Единственным человеком в расчете, для которого духовные начала и знания были предметом постоянного уважения и восхищения, был Семен Андреевич Косов, алтайский пахарь. Мужик большого роста и огромной силы, он испытывал особую нежность ко всем, кто слабей его, будь то зверь или человек. Пуще других его мучил голод, и я иногда отдавал Семену обеденный суп, а он зато приберегал для меня огрызочек сахару. Но не из‑за этого обмена состоялась наша дружба, а из‑за взаимной тяги сильного и слабого.
Обоих нас недолюбливал Кабанов. Мне, например, мешало то, что я любил говорить правду, и это, пожалуй, больше всего раздражало старшего сержанта Кабанова.
Любовь к высказыванию правды в любых обстоятельствах – либо незрелость, либо болезнь.
Правдолюбцы болезненные, лихорадочные, за правду не пожалеют ни себя, ни других. Они на виселицу готовы пойти ради правды, но и не взыскующих града готовы на ту же виселицу отправить. К счастью, болезнь правдолюбия чаще не больше, чем насморк, выражается так же гнусаво и излечивается так же легко.
Важнее, пожалуй, не любить правду, а знать ее. И это знание уже не болезнь, но мудрость.
Правдознатцы больше знают о правде, чем правдолюбцы, которым их правда кажется главной, самой последней и достойной подвига или инквизиции. Правдознатцы хотят о правде дознаться. Правдознатцам не только своя правда нужна, но и чужая. И знание их – несчастливое. Знают, что правда горька есть.
Высший тип – праведники, которые высказывать правду не умеют, да и понять ее не тщатся, они живут правдой. И потому независимы ни от болезни, ни от знания. Живут они правдой по инстинкту, по устройству натуры. Правдолюбцам они кажутся трусливыми, правдознатцам – глупыми. А они готовы, может быть, признать и то, и это. Живут, как умеют жить. Боясь иногда пустяков. Но главного – не боясь: врага, насилия, смерти.
В каждое время есть свой главный тип. В одно – правдолюбцы, в другое – правдознатцы, в третье – праведники.
Нам сейчас нужней правдознатцы. Но скоро понадобятся праведники…
Праведником был Семен Косов.
Тянулась длинная голодная осень. Потом подмерзли болота. Мы с Семеном часто стояли ночью на посту и, поскольку противник не собирался наступать, только изредка поглядывали в заборную амбразурку и беседовали вполголоса о своих делах. Из московской жизни, о которой я рассказывал, Семена больше всего интересовал зоопарк. И я, с детства помня Брема, сообщал Семену сведения о жизни слонов, крокодилов и зебр.
Когда оборону прикрыло снегом, а нам выдали валенки, все приняло вид еще более деревенский, и наша жизнь текла размеренно, действительно, как в старинном острожке на граничном краю земли. Еще затемно, перед рассветом, приезжала кухня, – издалека по морозцу было слышно, как скрипят полозья саней и ругается Васька – повар. Старшина приносил сухари, махорку и сахар, отмерял гильзой от противотанкового ружья водку.
На той стороне у немцев гремело по настилу, тоже ехала полевая кухня.
Потом чистили винтовки, пулемет, расчищали траншейки в сугробах. В обед приходил почтарь, приносил газеты и письма. Письма перечитывались про себя и вслух.
Сменялись дневные посты, заходил замполит роты. Порой – кто– нибудь из соседней – узнать новости.
Дни были короткие. Часа в четыре смеркалось. Батальонный связной приносил ночной пропуск: пароль и отзыв. Время днем отмерялось по тлеющему тряпичному жгуту, сколько сгорит. Ночью – по звездам. Перед нами, над обороной, стояло семизвездье, называвшееся Качиги. Когда Качиги заходили за березу, росшую рядом с дзотом, была полночь. Приходил комбат или ротный со связным – проверять посты. Мимо нас в белых маскхалатах разведчики уходили на нейтральную полосу. Под утро возвращались.
Распорядок, однако, нередко нарушали обстрелы, неожиданные перестрелки.
Ударял пулемет. Немцы били трассирующими. Разрывные щелкали о стволы, ветки и блиндажи, как каленые орешки. Одному пулемету отзывался другой. Включались и мы, наугад длинными очередями прошивая кустарник на подступах к позиции. И как деревенские собаки, вдруг разбуженные, на всем участке лаяли пулеметы. Начинали поддавать минометчики, и получалась невообразимая кутерьма, порой не смолкавшая до рассвета. И так же внезапно, как началась, стихавшая, как только обе стороны понимали, что ночной поиск или разведка боем только почудились придремавшему часовому.
При сем бывали и потери. По обороне сообщалось: тот убит, тот ранен. Тихая наша война тоже была войной, и Кабанов горестно восклицал каждый раз:
– Эх, жизня, она не плошает, она все к лучшему идет!
Мои отношения с ним были лишены сердечности. Так же не близки мне были и другие члены расчета. Поэтому я все более привязывался и привыкал к Семену Косову.
Семен, как и большинство солдат горно – болотной бригады, принадлежал к русской народной культуре, которая в наше время почти стерлась с исчезновением ее носителей – крестьян.
Эта культура пережила многие века и стала органической частью национальной культуры, в ней исчезнув и растворившись– в гениях XIX века, прежде всего – в Пушкине.
Эта культура уже не соответствовала нашему времени – и нелепая мечта: ее возродить – с ее мифологией, прагматической философией, с ее историческими и политическими понятиями, с ее мироощущением, с коллективизмом, с индивидуальным сознанием, с ее медициной, гигиеной, универсальным умельчеством, с ее правилами поведения и с самым ценным, что в ней было, – с ее словесным искусством.
Евтушенко упрекнул меня как‑то за образ «конь тонкий, как рука». Между тем образ этот принадлежит речи Семена Косова, который про зимнюю дорогу говорил: «Как яичком накатана». Это было не творчество, а речь. Речь Семена была полна новых для меня значений; он учил меня понимать сны, толкование которых сродни звуковым ассоциациям поэзии: девки – к диву, лошадь – ко лжи. Однажды мне приснилось, что спорю с отцом.
– С отцом дрался – домой придерешь, – сказал Семен.
Мудрость Семена была не от чтения, а от опыта, накопленного в народной речи.
Мне порой казалось, что у него нет собственных мыслей, а только готовые штампы на все случаи жизни. Теперь я понимаю, что мы тоже говорим штампами, но цитируем неточно и небрежно, наши знаки, может быть, индивидуализированны, но бледны по речи. Народ купается в стихии речи, отмывая в ней мысли. Мы же речью только полощем горло.
Самым талантливым среди всех, владевших речью, был у нас Каботов Иван Васильевич, пожилой пехотинец, бывший волжский матрос или бакенщик.
Стрелковое отделение поздней осенью располагалось некоторое время в нашей землянке. И всех забавляли бесконечные шутки, прибаутки и присловья Каботова, а также его изобретательный неругательный и необидный мат. Во время обстрела при каждом близком разрыве мины Иван Васильевич выдавал матерное проклятие немцам, обычно в рифму, и никогда не повторялся.
Поздним вечером, сменясь с поста, промокший и продрогший, он долго сушил портянки и шинель около печурки, устроенной из большого молочного бидона, и спрашивал, если не все спали: «Сбрехать, что ли, сказку?»
Сказки он рассказывал плутовские, по большей части непристойные, о солдате, идущем с войны («вроде как мы с вами»), и о черте, строящем солдату замысловатые козни. Иван Васильевич был солдатский Андерсен, он умел развеселить и утешить. И сказки плел до поздней ночи, пока не уснет последний слушатель, а может, и потом рассказывал для самого себя. Спал он мало. Я его спящим не помню.
Осень и начало зимы прошли спокойно. Я постепенно привыкал к солдатской жизни и к фронтовому быту.
Отношения между собой у фронтовых солдат, как правило, были дружеские. Средние офицеры редко обижали и унижали рядовых. Вспоминая тыловые запасные полки, солдаты охотно ругали тамошнее начальство, считая, что вся сволочь окопалась в тылу и по собственной злой воле, да еще и стараясь особо выслужиться, заедает солдатскую жизнь драконовскими строгостями и бессмысленными трудами. Если это верно, то только отчасти. Наш комроты капитан Никифоров и его замполит, осетин, по фамилии, кажется, Залиев, и комвзвода Непочатов, и старшина роты, славный великан Бербец, и даже сам легендарной смелости комбат Жиганов – все они проявляли о нас заботу, были просты в обращении, ничего не заставляли делать зря, да и жили примерно так, как жили мы, одинаково разделяя с нами все опасности и превратности фронтовой жизни.
Но на фронте не специально подбирались добрые, заботливые, смышленые и смелые командиры – на фронте была необходимость смелости и взаимной выручки, справедливости и заботы. Командиру, не обладающему подобными качествами, не поверят в бою, а не то еще похуже – оставят раненого на поле боя или помогут отправиться на тот свет.
Но, конечно, не расчет подобного рода формировал среднего фронтового командира. Вся обстановка опасности, смерти, единения, ответственности, долга, вся непосредственность и жизненность этих категорий, абстрактных в иное время и в иных обстоятельствах, определяли поведение большинства фронтовых офицеров. Я успел убедиться в конце войны, что в иной обстановке личные качества оказывались иными. И многих фронтовых офицеров я мог бы представить себе в тылу – с его исступленной и изнуряющей работой, голодом, бабьей тоской, жестокостью власти, хапужеством, возможностью удовлетворить корысть и похоть, взвинченностью пропаганды, шпиономанией и взаимной бдительностью.
Иллюзии на этот счет, впрочем, довольно прочно утвердились в нас, и слово «фронтовик» до сегодня означает нечто большее, чем «человек, побывавший на фронте».
Да и я лишь задним числом понял, что фронтовик фронтовику рознь, как и тыловик тыловику.
Портила качество человеческих отношений на фронте, а может быть, вообще снижала высокое самоощущение нации – сталинская бацилла недоверия и взаимной слежки, распространявшаяся и на фронт.
Мы знали, что за передовой линией стоят заградительные отряды с петлицами пограничников, коим приказано косить из пулеметов отступающих. По переднему краю в тихие дни ходил рыжий особист, любитель Стендаля, погубивший рабочего Литвиненко. Знали, что можно говорить о победах, а не о поражениях, знали, что наше среднее начальство тоже под богом ходит. Страх перед «Смершем», в какой‑то мере воспетый Слуцким, на какой‑то срок действительно цементировал фронт, но по сути глубоко разлагал высокие понятия народа, борющегося против нашествия.
Это позже сказалось. Сказывалось, впрочем, и в нашем быту боязнью откровенности и порой торжеством негодяйства.
Кто были среди нас наушниками «Смерша», мы чаще всего не знали.
После войны я встретил на улице Кирова бывшего сержанта разведроты Ваньку 3., мародера и насильника, трипперитика всех степеней. Он был младшим лейтенантом ГБ. Вспомнил я его откровенные речи, которые пресекал скорей по неприязни, чем по должности комсорга разведроты.
Установкой на подозрение пользовались многие дурные люди на фронте. Воспользовался ею и Макар Прянишников.
Вести дневник или записывать что‑либо для памяти на войне не полагалось. Информбюро постоянно цитировало дневники немецких солдат и офицеров. Я не помню публикаций наших солдатских и офицерских дневников. Даже генеральских не помню. Есть журналистские дневники – Симонова и Полевого, но это другое дело.
Солдат практически и не мог вести постоянные записи. Это внушило бы подозрения, да и при очередной бесцеремонной проверке вещмешка старшина приказал бы изничтожить тетрадку или записную книжку, поскольку они не входили в список необходимого и достаточного солдатского скарба.
Не вел дневник и я. Но были у меня малого формата записные книжки, из которых некоторые уцелели. Как комсорг роты я вписывал туда планы очередных мероприятий и политбесед, а рядом и дневниковые записи, довольно скупые.
Стихов я осенью 42–го и зимой 43–го не писал, да и позже писал редко и плохо. Но порой записывал строки или строфы, случайно пришедшие на ум. Некоторые из этих строк надолго сохранились в моем чувствовании. И потом через много лет вошли в стихотворения. Например, первая строфа «Прощания юнака» записана в первой моей фронтовой книжечке. Почему‑то я назвал это «Сербская песня». Через много лет откликнулись строки о скрипящем и поющем дереве, перенесенном из волховских болот в Михайловское, где жил Пушкин:
Дерево пело, скрипело…
Дерево это, береза, над которой в полночь стояли Качиги, действительно пело и скрипело ночью, ветреной порой, когда я стоял на посту.
Писал я свой полудневничок, обычно сидя на пеньке у входа в блиндаж. Однажды услышал, как Прянишников сказал сержанту Кабанову:
– Проверить надо, что он пишет и куда передает.
Я вошел в землянку и ударил его по зубам. Через час меня вызвали на КП пульроты.
– Садись, – печально сказал мне осетинский учитель, замполит Залиев. – Немца бить надо, своих бить не надо.
Я объяснил ему, в чем дело.
– План политбеседы писать надо, – сказал Залиев. – Обижаться не надо.
Тут в блиндаж вошел Мишка Трутнев. Мишка вместе со мной был курсантом гомельского училища, парень с восьмиклассным образованием, плакса и писун. Его отправляли доучиваться в офицерскую школу. Замполит подписал ему какие‑то документы, и Трутнев, откозыряв, ушел.
– Обижаться не надо, – сказал Залиев. – Одни уходят, другие не уходят. Кто не нужен – уходит, кто нужен – не уходит. Например, я погибаю, например, ты – не погибаешь.
Так он закончил свою туманную речь и, отпуская меня, добавил:
– Иди, драться надо с врагом.
Я понял смысл его туманного напутствия. Мне было за что обижаться. Вместо Трутнева в офицерскую школу должен был ехать я…
После того как ударили морозцы и стали болота, жизнь на нашем фронте пошла немного веселей. Всю осень мы пробедовали на плесневелых сухарях да на супчике, где капустка капустку догоняла. Мучились без табаку.
Все мысли и разговоры тогда вращались вокруг еды. По вечерам в землянке шли бесконечные рассказы – кто как женился, в центре которых всегда стояло роскошество свадебного пира. Иван Васильевич Каботов так расписывал картины многодневной еды и питья, что слабые духом просили: «Уймись, сатана!».
По санному пути нам стали возить 900 грамм хлеба, выдавать полный солдатский приварок – кашу из концентрата и суп с американской колбасой либо с кониной, если в обозе убивало лошадь.
Мы слегка отъелись, и вшей поубавилось, то ли действительно от успокоения, то ли оттого, что чаще стали присылать походную баню.
Однажды с баней прибыло зеркало. Помывшись и прожарившись, я поглядел в него. Из рамки на меня уставился круглолицый курносый солдатик в каске, похожий на подосиновый гриб. Выходило, что я добился того, о чем так возвышенно размышлял, – стал как все.
Поближе к Новому году к нам начали прибывать посылки из тыла, и все мы радовались вещественной вести, принесшей запах и вкус родного дома. Помню рассыпчатые пшеничные лепешки Семеновой жены, чуть горьковатые от полыни.
Получил и я посылку от родителей с разной снедью и с неизменным изюмом Петеньки Ростова.
Пришли к нам однажды подарки из какого‑то города – рукавички, бумага, конверты, немного еды – бесценные подарки тыла фронту – с записочками, где стояли женские имена и адреса. По этим адресам многие молодые солдаты тотчас отправили письма.
В войну часто переписывались незнакомые одинокие люди – солдаты, оставившие семью в оккупации, с девушками, заброшенными эвакуацией на Урал или в Сибирь. Девушек этих звали «заочницы». Порой такая переписка заканчивалась свадьбой.
Як тому времени хорошо изучил солдатский письмовник и слыл в батальоне неслыханным мастером сочинять письма.
Семен, уходя на пост или по какому‑нибудь делу, часто поручал мне написать письмо. И, не прочитавши написанного, отсылал домой.
– Да чего читать, – говаривал он. – Ты грамотный, знаешь, как написать.
Постоянно обращался ко мне молодой Анисько с просьбой ответить «заочницам», которых было у него несколько штук. Всем он писал, что одинок, семью потерял и готов предложить сердце тыловой подруге, если та пришлет свое фото и проявит желание полюбить молодого солдата Анисько.
Письма «заочниц» обычно читались вслух. Аниськины друзья посмеивались над простодушием тыловых девиц и обсуждали сравнительные достоинства их фотографий.
«Сынок, – писала солдату Анисько женщина, приславшая новогоднюю посылку, – ты мне о любви пишешь, а мне уж пошел седьмой десяток…»
После этого Анисько сперва прочитывал письма сам.
В первый день нового года Шипицын убил большого жирного зайца. Едва заяц был сварен и съеден, как меня вызвали на КП пульроты к замполиту Залиеву.
Явзял винтовку и пошел по тропке мимо заснеженных ельников; идти было с километр мимо второй линии дзотов и землянок, где стояли автоматчики и ампулометчики.
Яне дошел до их землянок метров пятьдесят, как заяц взыграл в желудке, непривычном к обильной пище. Яотошел с тропы в ельничек и мирно присел. Тут ударили немецкие минометы. Кто знает, отчего забеспокоились немцы в погожий день нового года, но полковые мины ложились частыми сериями, неровными подпалинами грязня снег вокруг. Мне бы надо было вскочить и опрометью бежать к ближайшему блиндажу, не застегивая штанов, что заняло бы полминуты. Однако влететь в чужой блиндаж в таком виде означало бы полную потерю лица. Ястал бы посмешищем батальона. Именно это соображение заставило меня остаться под елкой. К счастью, обстрел скоро кончился.
Явспомнил этот эпизод, ибо он свидетельствует, что я уже становился солдатом и мог чувство чести поставить выше опасности…
Когда порядок жизни в обороне перестал быть для меня внове, постепенно начала одолевать тоска по дому, по друзьям, по стихам.
Спасался я от тоски и скуки тем, что сочинял в уме большой роман. Это был роман со многими персонажами, со сложными переплетениями судеб, роман – история поколения, который никогда не лег на бумагу и все же существовал – для одного читателя, для меня, – и постоянно развивался, переделывался и оттачивался. Его вымышленный идеальный мир – а это был роман идеальный, потому не лишенный ходульности – восполнял недостаток идеального в моей повседневной жизни на протяжении всех моих фронтовых и тыловых лет, и его течение настолько меня увлекало, что я забывал о бедах и неприятностях, общаясь с его героями, ставя их в обстоятельства, сходные с моими и как бы проживая эти обстоятельства дважды – в том непосредственном мире, в каком они представали передо мной, и в том усиленном, очищенном и обобщенном, в каком их проживали герои романа.
Бывало, стоя на посту в ночную пору и поглядывая на медленно двигающиеся над березой Качиги, я доставлял себе удовольствие, перебирая эпизоды детства главного героя, его первую любовь – тщательно отобранную из мозаики моих первых увлечений, – эпизоды жизни его друзей и окружающих, составленные из воспоминаний о людях, которых я знал или о которых слышал.
Идеальный этот роман никогда не мог быть написан, потому что в нем было столько же пробелов, сколько и в моем несовершенном опыте, но он был высшей реальностью моего тогдашнего существования, я и сейчас без улыбки читаю редкие заметки о нем в своих старых записных книжках или планы его, изложенные в письмах, потому что там проглядывает суть написанного позже, а идеальный замысел, вновь сниженный и соединенный с реальным опытом, оказался замыслом моей подлинной жизни и воплощением характера.
Время медленно тянулось в обороне. Но 12 января 1943 года войска Волховского фронта приступили к прорыву блокады Ленинграда. В ночь на 12–е я как комсорг лазил по траншеям переднего края, читая в расчетах приказ о наступлении. Притащился к себе в землянку под утро и провалился в сон настолько глубокий, что проспал половину артиллерийской подготовки. А грохот от нее немалый. Проснулся и спросил:
– Началось?
Мы ждали приказа двигаться вперед, но бригада участвовала в наступлении только флангом, а в остальном все пять дней до завершения прорыва сковывала огнем немецкие части, противостоящие нам в районе села Лодва. День и ночь мы вели сильный огонь по заранее пристрелянным ориентирам, состязаясь с сильным ответным огнем противника. К счастью, в нашем расчете обошлось без потерь.
Через несколько дней с радостью узнали о прорыве блокады. И снова на нашем участке наступило затишье.
Однажды утром в конце марта пришел старшина Бербец и приказал проверить пулемет. Ничего у него не спрашивая, мы сразу поняли, что нам предстоит бой. Ночью мы снялись с позиций и были переброшены пешим порядком в район станции Мга.
О бое, в котором мы вскоре приняли участие, вскользь упомянуто в воспоминаниях командарма Федюнинского.
Естественно было мне волноваться перед первым боем, но не менее были тревожны и остальные солдаты. Хотя чем больше думали о предстоящем, тем меньше говорили о нем. Только как‑то притихли, голоса звучали глухо и без выражения, привычные остроты не вызывали смеха. А старший сержант Кабанов чаще обычного тоскливо восклицал:
– Эх, жизня! Она не плошает, она все к лучшему идет!
Под вечер 25 марта мы заняли окопы первой линии немецкой обороны, уже кем‑то накануне отбитые. Днем таяло, и мы промокли. Обуты мы были в валенки, и к вечеру, когда подморозило, все мокрое на нас подмерзло.
Когда совсем стемнело, немец стал кидать легкие мины в наш окоп. Немного задело Кабанова, он завопил: «Санитары!» – и его увели куда‑то. Мы остались с Семеном.
Ночью пришел связной от Никифорова, командира пульроты, принес мне записку, что ранен замполит. Замещать его должен был я.
Что делать, я не знал и решил оставаться с моим пулеметом до утра, когда мы должны были наступать.
Еще не рассветало, Бербец принес в термосах горячий суп. Мы поели, чуть согрелись. Немцы снова начали садить из минометов, и тут ранило в ногу Прянишникова. Но еще были поблизости санитары, и его тоже куда‑то поволокли.
Когда чуть рассвело, ударила наша артподготовка. Она была жидкая и недолгая. Откуда‑то пустили ракету, и по окопу пронесся приказ: «Выходить!».
Уже было совсем светло и все видно, когда и я оперся руками о край окопа, чтобы вылезти и двигаться вперед, и в тот момент поглядел влево вдоль окопа и увидел все, как в остановившемся кадре кино; и сейчас могу подробно рассказать, что увидел в это мгновение: солдат, опершихся руками о край окопа, других, уже закинувших ногу, чтобы выйти наверх, и тех, кто уже вышел и наклонился, чтобы бежать вперед, и одного, картинно падавшего спиной с бруствера, уже, вероятно, убитого, – все это было застывшим мгновением, когда кто– то скомандовал «вперед!», и я занес ногу, чтобы выйти из немецкого окопа первой линии на открытую поляну, со всех сторон окруженную лесом.
С этого момента я руководствовался подсознанием, заботившимся обо мне четко и толково. Едва мне удалось заставить себя выйти из окопа, как сознание превратилось в стороннего наблюдателя, порой уходившего куда‑то и незамечаемого. Оно уходило в те моменты, когда из подсознания выдвигался азарт действия, и приходило вновь в минуты передышки, но оставалось посторонним. Оно все же постоянно присутствовало, ибо потом, в госпитале, возвратило мне все протяжение боя со всей полнотой пережитого страха, усталости и сострадания, со всеми зримыми деталями, ненужными в те часы.
Мы продвигались, естественно прижимаясь к опушке. Косов и Шипицын тянули по снегу пулемет. Я шел рядом, неся запасные коробки с лентами. Приотстав от нас, плелся, тоже с запасными коробками, пожилой боец из хозвзвода, накануне приданный расчету.
Дело, видимо, завязывалось слева от нас. Там слышалась густая пулеметная стрельба. Туда, видимо, били минометы и артиллерия немцев.
На нашем фланге было относительно тихо. Мы осторожно продвигались вперед, прячась за деревьями, ибо в любую минуту нас могли заметить и обстрелять.
Пехоты рядом не оказалось, но мы почему‑то двигались вперед, не зная, что происходит слева и справа, не зная другой задачи, ибо с вечера командир взвода сказал нам только, чтобы после артподготовки двигались вперед. Вот и все.
Метров через триста мы догнали пехоту – с десяток бойцов из роты, которой был придан наш пулемет. Они лежали под елками и закуривали. Командир взвода, видимо, был убит.








