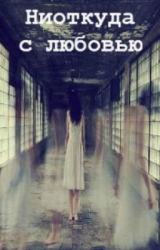
Текст книги "Ниоткуда с любовью"
Автор книги: Даша Полукарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
У Клары и у Ганса в детстве была шкатулка, которую подарили им на Рождество родители. Янтарная шкатулка необыкновенной красоты, музыкальная, с фигурками юноши и девушки, которые кружились под музыку. Маленькие Ганс и Клара постоянно прятали в эту шкатулку какие-то свои маленькие секретики. Когда Клара собралась уезжать, Ганс понимал, что может никогда больше ее не увидеть, и отдал шкатулку ей. А она нашла в ней письмо, которое Ганс ей написал.
– Но… при чем здесь мы? – непонимающе протянула Полина. – При чем здесь наша семья?
– Ты еще не поняла, Полина? Клара была вашей прапрабабушкой. – Сказала Александра Федоровна.
Полина в молчаливом изумлении откинулась на спинку дивана.
– Но почему мама не рассказывала на эту историю?
– Она не знала. Она и Олег не были в курсе.
– А что за письмо лежало в шкатулке? – спросила Маша. Полина вдруг шумно выдохнула. Все посмотрели на нее.
– Оно называлось: «Моей любимой шкатулочнице». Правильно?
Александра Федоровна улыбнулась.
– Откуда ты знаешь?
– Это письмо хранится в нашей краеведческом музее. Яков Петрович нашел его в немецком словаре. – Полина нашла телефон и открыла фотографию письма, которую они сделали с Родионом еще весной. Она показала ее Маше. – Он отнес письмо в музей, потому что, по его словам, его отец не упустил бы такую редкость и продал бы подороже в какую-то коллекцию. Значит, он был прав.
– О чем ты?
– Он сказал, что сочинил историю в музее, что письмо написал своей сестре ее брат. Но это была правда.
– Да. – Согласилась Александра Федоровна.
– А как же письмо попало в немецкий словарь? – спросила Маша, возвращая Полине телефон.
– Красовские – а именно такая фамилия была у того офицера – жили в старой части города, не старейшей, как Портовой городок, а в нынешнем центре. Там до сих пор стоят старые двух и трехэтажные дома. Во время Великой Отечественной войны этот дом был разрушен. Слава Богу, вместе с домой никто не пострадал, только имущество, мебель, но все это оказалось под завалами. Но видимо какие-то вещи уцелели. А шкатулка была в числе тех вещей, которые утащили «добрые люди». Так она надолго пропала из виду. Ее, видимо, продавали и перепродавали за гроши – так в городе появилась легенда о янтарной шкатулке, которую кто-то вроде бы видел, а вроде бы и нет. И лишь однажды мы нашли ее на рынке среди старых вещей. Я помню – мы шли с мамой по Охотному ряду, и она вдруг потянула меня к лотку с разложенными на нем товарами. И когда мама увидела эту шкатулку, она заплакала – она помнила ее с детства. Так шкатулка снова вернулась к нам. Но письма в ней уже не было. Оно пропало. Быть может, это мамина мама, Клара, сама спрятала его в немецкий словарь, кто знает.
– Удивительно. – Сказала Маша. – А могли никогда так и не узнать правду… Так получается, вы можете доказать, что письмо принадлежит вашей семье.
– Не надо, – замотала головой Полина. – Может быть, когда-нибудь. Но там оно будет целее.
Она тяжело вздохнула. Уже на улице ей пришло в голову, что ее сестра так и не узнала этой истории. Она вообще многого так и не узнала. И о многом так с ней, с Полиной, и не поговорила. И уже никогда не поговорит.
* * *
Все, что Полина умела делать превосходно – это врать. Нет ничего проще, чем задурить кому-то голову, придумывая себе образ, не существующий на самом деле, придумывая факты, о которых никто никогда не слышал. Так спокойнее – никто и никогда не докопается до истины, до боли, что спрятана под густым налетом искрометной лжи. И самый лучший «масочник» на свете – Родион – оплошал только один раз: когда поверил ей.
Закончился август, подходил к своему завершению сентябрь. Летние каникулы тоже давно закончились, и начался учебный год, полный новых тревог и волнений, но Полина его не замечала. На пары она ходила через раз, периодически пропадая на целые недели, а если и приходила, то больше никогда не сидела в столовой, прогуливая занятия с одногруппниками. Такая обстановка больше располагала к доверительным разговорам, а всего этого Полька избегала, словно ее должны были пытать, не меньше. Она приходила, восседала на лекциях, как робот отвечала на семинарах и уезжала домой к родителям, обходя стороной и свою квартиру.
Славик вернулся из больницы, и больше и ногой не собиралась ступать в район Затерянной Бухты, но, впрочем, явно горел желанием найти себе какую-то новую тему для расследования. Катька, с которой он общался, рассказала ему, чем закончилась та история с похищением, и по факультету поползли слухи, в которых Полина была главной героиней. Кто-то им верил, кто-то нет, но разговоры теперь сопровождали Полину повсюду, а Славик косился на нее виновато.
Но Полине и до этого было мало дела. Ей теперь мало до чего было дело, все казалось ей неинтересным, ничто не могло возбудить ответного проявления эмоций. Она стала отказываться от заданий редакции, и после разговора с отцом Родиона от нее на время отстали. Все всё понимали.
И от этого было не легче. Полине казалось, что мир наводнился незнакомцами, с которыми она разговаривала на другом языке, и чтобы скрыться от этого языкового барьера, она все больше времени проводила в доме у родителей. И рядом с ней практически постоянно был вернувшийся со съемок Родион.
Когда по дому разносились плавные скрипичные рулады, они выходили на улицу. Закутанные с ног до головы (сухой сентябрь сменился сначала дождливым, а потом и холодным октябрем), выпускали тепло своих дыханий в никуда так же, как когда-то дарили свои мысли друг другу. Теперь мысли находились на тяжелом амбарном замке, варились внутри в огромном стопудовом котле, пока сами обладатели этих мыслей переносили присутствие друг друга.
Ну, точнее, это Полина переносила. Или Полина думала, что это Расков так переносил ее присутствие.
…Полина потянула за ветку рябины, сорвала гроздь ягод и отпустила – ветка взметнулась вверх, разбрасывая по воздуху листья. На черной Полининой перчатке краснели алые ягоды.
– Так что было дальше? – прервала она их с Родионом чинное молчание, наступившее во время разговора о его отце: из дома раздался резкий пассаж и оба на какое-то время замолчали, заслушавшись.
– Дальше… он рассказал мне про мать. То, что не знает и, надеюсь, никогда не узнает Катька. Как сначала долго подозревала его в изменах, как полюбила другого человека, как тосковала по нему, когда они не виделись. Она сбежала в первый раз ненадолго, – тот человек ее бросил. Она сходила по нему с ума. А потом он вернулся и позвал ее, и… Все это бред, Полька.
– Нет. Не бред. – Она замотала головой лихорадочно, как будто цеплялась за эту нехитрую историю. – Расскажи.
Не отводя от Полины тяжелого взгляда, он вздохнул.
– И она собрала чемоданы. И когда она начала метаться – оставить нас или взять с собой, когда только подумала об этом… отец не разрешил ей забрать детей.
– Почему?
– Он не запретил бы ей, если бы она не сомневаясь, захотела взять нас. И потом, когда сказал ей: или остаешься, или забираешь детей с собой – всего лишь проверял ее. Но она не взяла нас сама.
– Может быть, она просто не хотела брать вас в ту неустроенную жизнь!
– Какой бы не была та жизнь – она никогда, даже потом, не сделала попытки вернуться назад, понимаешь? Даже увидеться с нами не хотела! Не позвонила, не написала ни строчки… У нее была для этого уйма возможностей.
Полина помолчала, глядя на высокие прутья забора.
– О чем ты думаешь? – спросил он настойчиво, будто ожидая ее одобрения или подтверждения чему-то.
Она пожала плечами.
– Думаю о ваших с отцом отношениях. Годами вы не могли прийти к согласию, постоянно ссорились, едва ли не до ненависти доводили друг друга, и вот сейчас он рассказывает историю о твоей матери – историю, из-за которой и испортились ваши отношения, и после этого ты… веришь ей.
– Просто… наверное, ему нет смысла врать мне здесь, понимаешь? Незачем придумывать такую запутанную историю – если бы он хотел, он бы отправил меня к матери еще очень давно. А если бы она хотела, она всегда могла бы вернуться за нами, хотя бы позвонить! Но она не сделала ни одной попытки. И сейчас… выходит, что я только-только начинаю узнавать своего отца.
– Везет тебе.
Она слишком сильно отводила взгляд, слишком прятала глаза, слишком натягивала шарф – Родион не выдержал и бросил в нее горсть желтых листьев. Она отвернулась, вскрикнув, но на губах ее Родион заметил быстро промелькнувшую улыбку. Тень улыбки прежней Польки, но Расков все равно засчитал ее за хороший знак.
– В конце концов, – ставя точку в их разговоре, заметил он, – я только сейчас задумался, что никогда не хотел найти ее. Столько лет упрекал отца – и ни разу, хотя бы, чтобы доказать себе, что он неправ… Вот Машка, например, у меня перед глазами был ее пример, а ведь она столько лет подряд пыталась найти отца, собирала какие-то доказательства, выяснила, что он уехал в Европу, нашла его адрес. У меня ни разу не появилось подобное желание. Все-таки… дети не должны искать подтверждения родительской любви. У них даже мысли такой не должно возникать.
Они поднялись по ступенькам, он открыл перед ней дверь.
– И когда ты успел так помудреть? – тихо поинтересовалась Полина.
Вика еще не закончила, хотя от Паганини давно уже перешла к Григу. Глаза ее были полузакрыты, как и всегда в такие минуты, и Полина искренне ей завидовала. Как будто она перемещалась в иную Вселенную, где боль и тоска были настолько абстрактными понятиями, что растворялись от волшебного прикосновения к скрипке. Полина знала совершенно точно – боль не растворяется. Как не растворяет ее снотворное, не растворяют слезы, не растворяет музыка. В такие моменты душа твоя зависает между небом и землей, и парит, парит там в невесомости. Но невесомость заканчивается и вместе с ней приходит отрезвление.
– Все, – неожиданно хлопнул по столу вошедший в комнату отец. – Мы уезжаем.
Полина с Родионом так и замерли на пороге. Вика оборвала свое соло на резкой ноте и повернулась к мужу.
– Куда?
– Я беру нам троим путевки. Польша. Отель. Две недели. – И добавив, обозрев каждого человека в комнате. – Просто… я не могу видеть, как мы и дальше замуровываем себя в доме.
Полина и Вика неожиданно переглянулись. И утопили растерянность в своих взглядах.
Вряд ли они были готовы к реальной жизни.
Вечером на кухне Родион просил не забирать Полину. Он объяснил все честно и правдиво. Он предъявил все возможные аргументы ее отцу, пока мать и дочь вяло ковырялись в тарелках в пустой столовой. Он уверял, что даже смени она двадцать Польш, всем вместе им не выйти из этого состояния скорби.
Отец Полины слушал-слушал, а потом недоверчиво хмыкнул.
– Интересно и складно ты говоришь, Родион… Вот только не будет ли хуже, если она останется здесь одна? Даже если нас не было, всегда была Нина… – голос его пресекся, но он справился и выплыл на нужную интонацию. – Честно говоря, не могу похвастаться тем фактом, что воспитал их обеих. По крайней мере, после 14 лет.
Он помолчал, задумчиво качая головой, а потом неожиданно добавил (хотя Родион уже и не ждал от него ответа):
– Забавно, что вам с Полиной пришла эта мысль в голову одновременно. Она тоже просит оставить ее в доме.
– Просит?
– Да. Я и не думал разрешать, пока… – он красноречиво посмотрел на Родиона.
– Да. – Ответил тот. – Понятно.
– Ну еще бы, – усмехнулся глава семейства и вышел, похлопав Раскова по спине и оставив его в достаточно смятенных чувствах.
* * *
Иногда его будто волной толкало в грудь, он делал судорожное дыхательное движение и пытался понять, зачем все это делает. Почему, несмотря на ее равнодушие (вполне понятное), ее попытки показать, что она ни в ком не нуждается и особенно в нем, почему он продолжает нянчиться с ней, забывая о своих делах, проблемах, планах, почему он даже толком ни разу за последний месяц не задумался о своей жизни серьезнее, чем как о малоприятной и неволнующей его вещи.
Ответы напрашивались сами собой – и разные, но все увиделось несколько иначе, когда он набрел в гостиной на их старую фотку: обоим лет по 13–14, взгляды независимые, сидят плечом к плечу, закинув ноги на впереди стоящий стол или стул… У него волосы немного светлее, чем сейчас, а она – темная, еще не успела перекраситься, хоть до этого и недалеко. В остальном – почти никаких отличий. Он перевел взгляд на фотографию, которая стояла рядом, и перестал улыбаться. Нина и Полина стояли рядом и обнимали друг друга за плечи. Странно, почти невероятно похожие внешне.
Неужели и он начинает жить жизнью Полины, как она жила жизнью своей сестры, ее интересами, мечтами и даже ссорами с ней? Нет…
– Мы мало изменились, – проговорила она, стоя за сего спиной.
– Нет, – он обернулся. – Изменились. Изменились, хоть тебе и хотелось бы, чтобы это было не так. Мы выросли.
Она отступила на шаг, покачала головой.
– Сомневаюсь.
– Мы выросли, Полька. Ты больше не Полли, так же, как и я больше не Рудик. Признай это, наконец.
– Не хочу, потому что это не так, – твердо сказала она, но взгляд ее лгал.
Родион отставил фотографию, сделал шаг ближе.
– Признай, что пришла пора задавать вопросы себе, а не мне, родителям, Штроцу, Нине.
– Прекрати! – крикнула она судорожно. – Мы же договорились!
– Мы с тобой? Я же актер, я могу лгать совершенно искренне, веря в свою ложь.
Она рассмеялась нервно.
– Бред какой! Еще один стереотип, который ты всегда презирал!
– Да, возможно. Но можно соврать, если того требуют обстоятельства. Сейчас они того требуют. Нина бы простила мне это. Но она ни за что не простила бы тебе твою трусость. – Он больше не делал попыток приблизиться к ней. Проговаривал каждое слово четко и жестко, как чужой. И некуда было скрыться. Не было силы, за которую можно было спрятаться.
– Я не хочу говорить о ней, я же сказала! О чем угодно, но только…
– Ты же понимаешь, что если будешь молчать о ней, то она не уйдет из этой комнаты, из твоих мыслей… – он подтолкнул фотографию к ней и десятки других снимков вспыхнули в ее глазах – они царили в этой комнате, изображали детство, юность, планы, мечты, стремления, характеры и, конечно, связь. Несомненную, бессловесную, незримую связь.
Полина долго терпела – слишком мучительно. Подскочив к ближайшей их с Ниной фотографии, она швырнула ее об стену, и рамка раскололась на куски. Одновременно с Родионом они перевели взгляд на фотографию, лежащую в осколках – две девочки сидят на одном диване, старшая положила подбородок на сомкнутые руки, локтями оперлась о столик, она улыбается; младшая смеется, искоса глядя на сестру и отечески покровительственно обнимает ее за плечи.
У Полины рыжие волосы. Ей 16. Она едва закончила школу.
Со внезапно настигающим прозрением Полина посмотрела вокруг, на всю эту жизнь, заключенную в фотографии, на рамку, которая разбилась – почему-то вдруг особенно жалко стало этой рамки, как будто от нее зависела Нинина жизнь. Она закрыла лицо руками и разрыдалась.
Она плакала о долгих одиноких годах непонимания друг друга, об утрате, которую не восполнить ничем, о несказанных словах, о прощании, которое так и не сорвалось с их губ, плакала над усмешкой и иронией судьбы и над тем, как не властны они порой над своими жизнями, которые несутся словно на ярмарочной карусели.
Кресло оказалось за ее спиной, и Полина утонула в нем, и сжалась в комок. Кресло тоже словно вращалось вместе с ее жизнью и оставалось только крепко ухватиться за подлокотники, чтобы ее не выбросило мощной волной в неизвестность.
В один момент она поняла – Родион держит ее, по-прежнему держит, готовый принять на себя удар.
Но есть удары, которые предназначались ей одной.
Тишина растекалась по комнате, по каждой из комнат этого необжитого дома. Полина и Родион молчали. Постепенно ее дыхание выровнялось, она больше не плакала, но все еще полулежала, закрывшись руками и будто спрятавшись ото всего мира.
Неожиданно раздался знакомый проигрыш. Слишком знакомый и однозначный.
«At first I was afraid I was petrified
Kept thinkin' I could never live
Without you by my side…»
– Пела Глория Гейнер, разрывая душу Полины на тысячи частей. Когда-то, когда Нина пропала, но Полина еще этого не знала, в тот самый день, когда они с Родионом поцапались из спектакля, в котором он играл, мир был легкомыслен, и они шли с Ирмой по улице, подпевая уличному радио и «I will survive». Какая огромная пропасть пролегла между этими днями, как будто пролетело сто жизней с тех пор!
Нерешительно Полина распахнула глаза. Родион стоял перед ней, слегка склонившись, и протягивал вперед ладонь. Глаза его улыбались.
– Позвольте пригласить вас на танец, мадемуазель! – негромко заметил он, все еще протягивая ей руку.
– Сейчас? Здесь? – она выпрямилась.
– Пора, наконец, встряхнуть этот дом. Он давно такого не слышал.
Хорошая вещь – рука друга. Всегда можно ухватиться за нее, когда положение твое особенно не устойчиво. Мгновение Полина еще смотрела на ладонь, а потом сначала неловко, но потом крепко вцепилась в нее.
«And so you're back from outerspace
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second you'd be back to bother me…»
Он легко вытащил ее из кресла и оба они едва не врезались в фортепьяно. Сильный голос разносился по комнате, ведомый музыкальным центром, который включил Родион, и они танцевали, танцевали. Неловкие улыбки озаряли их лица, будто они осмелились на них впервые после долгой хмурой болезни. Они крутили друг друга вокруг своей оси, уподобляясь лучшим танцевальным парам, склоняли друг друга к полу, смеялись искренне и вместе, и самое главное – подпевали.
«Oh no not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive».
Присев к фортепьяно, Полина быстро наиграла знакомую с детства мелодию и, вторя Глории, пропела с ней припев дуэтом еще раз.
«Oh no not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give
And I'll survive
I will survive».
– Когда это было моей любимой песней, – под длинный проигрыш заметила Полина, оставив фортепьяно в покое.
– Она вне времени, правда? А еще вот это… – быстрый щелчок пультом в сторону музыкального проигрывателя и комнату наполнили первые длинные аккорды их трамвайного лета.
Они знали кто это, не надо было даже комментировать.
«Смерть забирает самых любимых, как секта,
Оставив нам города и проспекты.
Тобой движет то, что тебя не топит,
Эта тупая боль словно допинг.
Безлюдная тихая ночь расставит всё на места
Мой беспокойный скомканный слог
Мне не забыть добрых людей, нет
И пусть я сам закрыт на замок.
Я жил по-разному, но кеми мы стали?..»
Ассаи. «Остаться».
Вдох, еще один, проталкивая легкие.
Родион сел рядом. Положил руки на клавиши.
– Я тебя ненавижу, – прошептала Полина, кладя голову на сомкнутые руки. – Почему из всех песен именно эта?
Родион уткнулся лбом в ее плечо.
– Потому что я тебя знаю.
– Это официальная версия.
Они замолчали, и вскоре Ассаи замолчал тоже, оставив их наедине. Мимолетная радость вновь покинула комнату, возвращая в реальность, в которой они были вдвоем в этом доме.
И они должны были вернуться к тому, отчего бежали. В конце концов, в этом состояла главная цель Раскова.
– Нина написала хорошие письма, – вздохнула Полина, нарушая молчание, – хоть и дошли они наверно не в том порядке, в каком она рассчитывала. Я все равно получила урок. Пусть и печальный. Но там – в этих письмах, было много важного. Я все поняла про себя, про свои метания, журфак, про чувства, которые я не могу выразить, про прошлое, которое я не хочу забывать. Одного я только не осознала сразу – это то, что ты тоже прошлое. И сейчас, все эти отношения – это то, что мы пытаемся сохранить, вспоминая детство, вспоминая тех нас, какими были когда-то. И любить нас прежних я не могу. Не получается. Все время кажется, что что-то не то. Как будто врешь себе, не понимая, что врешь.
Он даже присел на корточки, чтобы лучше видеть ее лицо, чтобы понять, действительно ли он понимает, о чем она говорит; действительно ли она говорит о том самом?
– Мы сто раз это обсуждали, Поль. – Это все, что он мог ей сказать. Так страшно вдруг стало ляпнуть что-то лишнее, что-то не то. – Мы сто раз обсуждали и пришли к выводу, что хотим узнать друг друга сейчас, нынешних.
– Да, да… Но многое уже было против. Я не знаю, правда ли мы вместе сейчас или много лет назад? Мы привыкли носить столько масок и прятать свои лица от других, что я уже не знаю, какое лицо показываю тебе.
– Ты что, смеешься? Да ты единственный человек, которому я могу доверять все. Абсолютно все. Как раз потому, что я знаю тебя сто лет. – Голос Родиона затих. Его пугал ее взгляд – потухший, взгляд человека, который хочет потерять все, и остатки того, что еще не потеряно.
И он обнял ее, и прижал к себе, и сжал крепко-крепко, заставляя отреагировать на себя.
– Я люблю не ту Польку, которая свистела, стоя под моими окнами. Я люблю тебя. Твой заразительный смех, люблю, когда ты кривляешься, изображая моих и своих друзей. Люблю, когда ты поешь, готовя завтрак, люблю твои шоколадные пироги, люблю твои очки, хотя бы за то, что они так смешно сидят на кончике твоего носа, когда ты сидишь перед компьютером. Я люблю, когда ты читаешь, подперев голову кулаком, и когда тянешь меня на улицу, заставляя прогуляться по городу вечером. Люблю, что тебе нравятся все времена года и что ты готова найти что-то хорошее во всем, что видишь вокруг, люблю твои письма, которые ты оставляешь везде, где только можно. Люблю, когда ты играешь на фортепьяно – глаза у тебя закрыты и вся ты такая торжественная, люблю, что ты умеешь дать другим отпор и всему знаешь меру. Я! Люблю! Тебя! – последние слова он почти выкрикнул, и она потянулась и несмело обняла его за шею рукой, уткнулась в плечо.
– Прости меня.
– Прости, но?..
– Просто прости меня. – Прошептала она. – Я сама не своя в последнее время.
– Я все понимаю.
– И это хуже всего, поверь мне. Так и хочется оставить все это, найти людей, которые ничего не знают о тебе, совсем ничего. Чтобы прошлое не имело значения.
– Прошлое всегда будет иметь для тебя значение, – холодно откликнулся он. – Ты такой человек.
Его покорежило ее желание, ведь как она сказала, он тоже был прошлым. А новые люди – это всегда не он. Ну что ж…
Глядя на него искоса, она быстро покачала головой. Потянулась и поцеловала его в щеку.
– Не думай так. Это лишь минутное желание.
– Откуда ты знаешь, о чем я думаю? – недовольно откликнулся он.
– Потому что я знаю тебя, – ответила она его словами.
– Это официальная версия.
В столовой прозвонили часы, и Полина с Родионом одновременно взглянули на наручные на Родионовой руке. Полночь. Начиналась их первая ночь в этом доме вдвоем, и одна из череды тех, что длились бесконечность. Таких уже было много – ночей.
И дней, когда Расков был рядом, даже вопреки ее желаниям. Полина бесилась, называя себя сквозь зубы «заключенной», а потом ничего, смирилась.
Они преодолели и этот этап. Пересилили. Одного только не могли изменить – она почти не могла спать.
Они – пели, танцевали, кричали, выли на все голоса, пытаясь устать как можно сильнее, но Полинин сон рушился с первым кошмаром, волной рассыпавшегося карточного домика увлекая за собой и сон Родиона.
Они играли в карты, осваивали шахматы, заваривали чай с мятой, рассматривали фотографии. Они заново учились постигать этот мир, как учится этому едва научившийся ходить ребенок. Они узнавали, как много он таит для тех, кто любопытен, отмечали на карте места, где хотели бы побывать – булавками, расписывали себе маршруты, делали домашнее задание друг для друга и смотрели телевизор. Они успели увидеть победу испанцев над греками в футболе, насчитать десять несмешных шуток в каком-то ситкоме, оценить новую коллекцию Майкла Корса и очередной скандал с Киркоровым. Родион увидел интервью с режиссером фильма, в котором он только что снялся и одобрил пятнадцать пропущенных звонков на своем телефоне.
Еще несколько дней назад (Полина об этом не знала), продюсер орал в трубку, разоряясь на все лады, как его достали капризы провинциалов и искренне сомневался в возможности чего-то более важного, чем тусовки с прессой в преддверии премьеры фильма.
А режиссер, с которым Расков тоже поговорил вчера по телефону, называл продюсера «амбициозным дерьмом», и еще раз напомнил ему про свое деловое предложение. Расков уже заранее морщился от решения, которое ему придется принимать. Его бесила всеобщая фальшивая любезность, но он уже и не надеялся счистить с себя этот мерзкий налет.
– Все в порядке? – вскинула брови Полина, поднимая голову. Расков замер на этом интервью, не решаясь переключить канал. Он знал, как она воспринимает все это – даже сейчас, поэтому после случившегося не донимал ее последними новостями. Но сегодня была бесконечная ночь, и она могла вместить в себя абсолютно все.
– Да. Они приглашают меня в новый проект. Не то сериал, не то телешоу… В общем, что-то массовое и великолепно продающееся, – вздохнул он.
– И ты…
– Ты спрашиваешь, собираюсь ли я продаться? – он быстро усмехнулся. – А сама-то ты как думаешь? Лучше или хуже, чем я есть на самом деле?
– Вот ты мне и скажи. – У нее больше не было сил ругаться, а ему до жути хотелось ее растрясти – она это чувствовала. Потому, быть может, и сопротивлялась.
– Скажу… – он помедлил секунду, разглядывая ее внимательно, будто присматриваясь к ее реакции, и все же продекламировал:
– …Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли.
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика,
Так погибают замыслы с размахом,
В начале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.
– Мириться лучше с незнакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться, – задумчиво протянула Полина. И взяла Шекспира, лежавшего на фортепьяно – там, где Родион его и оставил (студенты-выпускники репетировали «Гамлета»). – Так значит, это трусость? Ты откажешься от телевидения ради театра, но это будет твоя форма трусости?
– Наоборот, – будто нехотя заметил Родион. – Трусость – выбрать телевидение. Из боязни потерять шанс и прекрасную возможность – как не устает мне напоминать наш продюсер. Но… я же своим отказом не предам актерство, ведь так? И не пойду по пути наименьшего сопротивления….
– Это твой выбор, – Полина слабо улыбнулась. – Главное, что ты не пойдешь по пути всеобщего безумия.
– Кто знает, все равно я благодарен за этот шанс – сняться в кино. Он помог мне разобраться, что я не буду гнаться за всеобщими иллюзиями…
– Как когда-то гнались за Американской мечтой. Так что… «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль смиряться под ударами судьбы…»
– А ты? – тихо спросил Родион.
– Я? – Полина будто только-только задумалась об этом, словно вспомнила и сама удивилась тому, что жизнь ее идет так же, как и жизнь Родиона, и ее родителей, и Красовского, Маши, Славки, Ирмы…
Он решил помочь ей. Потянулся к лампе, чтобы лучше видеть ее глаза.
– Знаешь, там, на 24 странице, по-моему, есть такая сцена между новым королем, королевой и самим Гамлетом. Король спрашивает: «Ты все еще окутан прежней тучей?». И Гамлет отвечает…
– О нет, мне даже слишком много солнца, – тихо подхватывает Полина.
– Королева: Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет,
Взгляни как друг на датского владыку.
Нельзя же день за днем, потупя взор,
Почившего отца искать во прахе.
То участь всех: все жившее умрет
И сквозь природу в вечность перейдет.
– Да, участь всех, – вздыхает Полина. Она сидит, обхватив колени, Шекспир тихо вздыхает перед ней: нет, это не Гамлет, увы.
– Королева: Так что ж в его судьбе
Столь необычным кажется тебе?
– Мне кажется? Нет, есть. – Она подняла глаза и взглянула прямо на Родиона. – Я не хочу
Того, что кажется. Ни плащ мой темный,
Ни эти мрачные одежды, мать,
Ни бурный стон стесненного дыханья,
Нет, ни очей поток многообильный,
Ни горем удрученные черты
И все обличья, виды, знаки скорби
Не выразят меня; в них только то,
Что кажется и может быть игрою;
То, что во мне, правдивей, чем игра;
А это все – наряд и мишура.
Она захлопнула книгу.
– Похоже, правда? – тихо спросил он.
– У них, конечно, немного другая ситуация…
– Ты же знаешь, что все это только антураж.
Потянув за руку, Родион заставил ее подняться. Они стояли перед окном, в искаженном виде отражались их лица. Книжка оказалась забытой на диване.
Что он имел в виду? Антураж. Театр – антураж их жизней? Шекспир? Или что сама жизнь настолько полна перипетиями, что никакое произведение, даже великое, не способно их передать?
Но возможно он имел в виду лишь то, что все эти реплики универсальны, несмотря на костюмы, обычаи, героев, их имена, и иное время.
Полька поймала в отражении его взгляд и тут же развернулась к нему. Его глаза блестели. Они были одни в этом темном чужом доме, и только в гостиной, где они находились, неярко горел свет – в лампе на фортепьяно и свечах на подоконнике. Сейчас, ночью они казались друг другу обезоруженными, без всего наносного, что преследовало днем, и сегодня, впервые за долгое время Полина действительно ощутила, насколько крепка их связь – на каком-то почти космическом уровне.
И она потянулась к нему, подалась вперед, поймав его мерцающий взгляд, поцеловала, ощущая его руки на своей спине. Такое в последнее время случалось нечасто, но в эту ночь они были настроены на одну волну.
Мир намного больше нас, но мы вместе… и это уже в два раз больше всего мира. Это математика нелогичностей, здесь вопросы не сходятся с ответом, а логика не работает. Здесь на одну меня так много тебя, но нужно еще больше, больше – сжать так, чтобы отозвалось где-то в глубине души и ойкнуло в сердце, чтобы токами пронзало все тело, чтобы согреть друг друга теплом и отключить голову… Дважды ноль будет равняться двум. И это так же просто, как произнести собственное имя.








