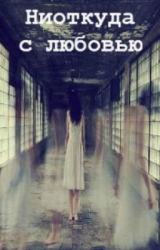
Текст книги "Ниоткуда с любовью"
Автор книги: Даша Полукарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Да, определенно все изменил тот день, когда в город приехал известный столичный режиссер.
Высокий, поджарый, седые волосы, аккуратная седая борода, умные глаза прячутся за стеклами поблескивающих очков, руки сложены за спиной – типичная поза.
Весь спектакль, – а Штроц привез «Она в ожидании любви и смерти» по пьесе Радзинского – Полина сидела как на иголках, грызя ноготь на большом пальце левой руки (полузабытая вредная привычка). И хотя спектакль был потрясающим – так что даже временами она полностью погружалась в его атмосферу, забывая обо всем, – краешком сознания она все равно помнила о том, что после должно состояться интервью со Штроцем на глазах у его труппы. Не то, чтобы она боялась – просто у нее было странно неприятное предчувствие.
Гардеробщица, с которой она разговаривала во время антракта, поила ее чаем и все припоминала славные былые денечки Драмтеатра, который жил совсем другой жизнью, когда там работало больше режиссеров. Полина эти времена почти не помнила, но помнила ту атмосферу и вполне разделяла ностальгические настроения Анны Семеновны.
– Ну как вам спектакль, Поленька? – поинтересовался Игорь Борисович, возникая в свете расставленных вдоль сцены рамп, и не дожидаясь ответа, продолжая: – Прекрасно! И есть над чем подумать, правда?
– Да-да, – неуверенно откликнулась Полли, выдавливая улыбку. Спектакль закончился и теперь мимо нее шли, оживленно переговариваясь, зрители. Программки так и мелькали в воздухе, у сцены держался устойчивый запах цветов. Под ногами валялись случайно оторвавшиеся лепестки.
Штроц появился на пустой сцене и задумчиво прошелся туда-сюда, наблюдая, как разбираются и уносятся декорации.
– Каково, Альберт Александрович, а? – немного торжественно поинтересовался Игорь Борисыч, усаживаясь в первом ряду. Позади пристраивались его студенты. Это что-то новенькое. За их интервью что, и ее «любимые» актеры будут наблюдать?! Черт побери все на свете…
Полина нашла среди актеров Родиона и проследила за его взглядом, надеясь увидеть то, что хотела. Но он не смотрел на сцену. Он болтал с Мишкой Яковинцевым, который, будто почувствовав ее взгляд, повернулся и помахал ей рукой. Она улыбнулась ему.
– А сцена-то… она все та же… – неожиданно заметил Штроц и улыбнулся совершенно по-детски. И это тоже была привычная улыбка. Она придала Полли уверенности. Она подошла и встала рядом с Игорем Борисовичем.
– Альберт, хочу познакомить тебя с одной юной особой. Эта девушка хотела бы взять у тебя интервью для своей газеты.
– О, – очень резво Штроц спустился по ступенькам, приближаясь к тому месту, где сидели студенты и стояла Полина. – Да-да, мы же договаривались с вами по телефону.
– Не со мной, – поправила Полина. – С главным редактором.
– Ну да. Так точно. Но вот вы здесь, – Штроц остановился перед девушкой и любезно протянул руку. – Как вас зовут?
– Полина, – проговорила она немного разочарованно. Но вот Штроц всмотрелся внимательнее, пожимая своей сухой ладонью ее пальцы, и на лице промелькнуло узнавание.
– Полина? – медленно повторил он и ахнул. – Полина Орешина!
– Здравствуйте, Альберт Александрович! – Полина улыбнулась широко и впервые за долгое время искренне. От сердца ее отлегло. Но, впрочем, ничего еще не было закончено – не зря же позади сидели студенты Игоря Борисовича.
– Вы знакомы? – приятно удивился режиссер. Среди студентов прошел легкий ропот. Но через пару секунд волнение усилилось – не обращая ни на кого внимания, Полина и Штроц по-родственному расцеловались и обнялись.
– Поверить не могу, – проговорил Штроц. – Вы и здесь!
Актеры вокруг, пожалуй, тоже не могли поверить: всегда крайне сдержанный, можно даже сказать, тщательно дозировавший свои чувства, Штроц радовался как ребенок. Такое, конечно, случалось с ним – уж его актеры знали это, но так редко, что нужен был очень серьезный повод.
Альберт Александрович Штроц всегда был таким. В работе и в жизни. Большинство людей, знакомых с ним лишь поверхностно, видели в нем всегда умного, но скрытного, даже замкнутого человека. Люди, знающие его поближе, прекрасно осознавали, сколько эмоций и страстей таит в себе душа режиссера, но вряд ли могли бы похвастаться, что часто наблюдали их. Даже когда не удавалась какая-то сцена, или все шло наперекосяк, он редко повышал голос и срывался. Так же редко он показывал, что горд и доволен успешно проделанной работой. Он мог сказать пару скупых слов и улыбнуться своей коронной детской улыбкой, но почти сразу же прятал ее, словно испугавшись быть застигнутым врасплох.
Он не подкупал и не желал разбогатеть и прославиться, у него не было друзей среди политиков и бизнесменов, чье положение было шатким и менялось чаще, чем погода за окном. Но у него была возможность всегда оставаться собой, не меняя принципов, потому что с точки зрения реальной жизни театр мало кто воспринимал всерьез. А между тем, о Штроце писали, о нем говорили, к нему пытались подобраться, его уважали, его приглашали за границу, его награждали и его любили. И после стольких лет, совершив множество ошибок на творческом пути, побывав в самых разных ситуациях, он научился контролировать свою личную жизнь и свои личные эмоции от вторжения других, потому что большинство людей никогда не бывали искренни, даже в его окружении, и однажды все могло повернуться вспять, и его жизнь могла быть использована только против него.
– Вы знаете, – Штроц повернулся к изумленной публике. – Полина была одной из лучших моих учениц в театральной школе при Драмтеатре! В свои четырнадцать она играла лучше, чем многие ребята старше. Я удивлен, кстати, что ты не стала поступать в театральный…
– Да, почти очень многие наши поступали и поступили, но… у меня как-то все перегорело, – чувствуя, как пылают щеки, проговорила Полина.
– Нет, ну нет, я так это не оставлю! – громогласно заявил режиссер. – А ну-ка, на сцену!
– Что? – вмиг изменилась в лице Полина. – Куда?
– Вообще-то я у вас интервью брать пришла, – попыталась она возразить.
– Это успеется, я еще три дня здесь пробуду.
– Но я не готова! И вообще, – с нажимом сказала она, – вы ставите меня в неудобное положение перед вашими ребятами.
– Чушь! – выкрикнул Штроц, но его перебил Игорь Борисыч:
– Правда, Альберт, отстань от девочки. Давай я тебя лучше познакомлю со своими студентами, – с любовью произнес он, а Полина только дух перевела от облегчения. Повспоминать старые времена – это одно дело, но демонстрировать его суперталантливым актерам и местным снобам свои нераскрывшиеся детские таланты – это совсем другое. И крайне унизительно, зная, как местные снобы к ней относятся.
Она перевела взгляд на студентов и неожиданно наткнулась на взгляд Родиона, немного снисходительный.
– Я знал, что ты этого не сделаешь, – проговорил он вполголоса, когда среди студентов Игоря Борисовича началась суматоха, и они придвинулись ближе к Штроцу. – Знал, что испугаешься.
Она покачала головой.
– Я не собиралась тебе ничего доказывать.
– Иногда это бывает полезно.
Ничего другого от Родиона она и не ждала, но тут взгляд ее упал на здоровающегося с каждым из студентов Штроца, и она поняла, что расплата непременно придет, и очень скоро, а справедливость непременно будет восстановлена.
Кажется, Расков это тоже понял, вмиг оценив подступ режиссера. Полина откровенно наслаждалась ситуацией, улыбаясь, а Родион тихо ее ненавидел.
Пожалуй, стоит остаться здесь еще подольше, подумала она, спокойно садясь в кресло. В конце концов, с этим залом ее связывает слишком много, и она вполне имеет право здесь находиться, несмотря на то, что о ней кто-то там может думать.
А если и придется гореть в аду, то, по крайней мере, не в одиночестве.
Она рано радовалась.
* * *
Дело – дрянь.
Интересно, можно ли ненавидеть кого-то сильнее или слабее, ведь ненависть – и без того сильнейшее из человеческих чувств?.. Или это чувство – то самое, что ярким красным шаром разгорается в тебе, когда ты ее видишь – не ненависть?! Не она скручивает узлом все его внутренности и застилает пеленой глаза. Не она заставляет отвернуться, когда нужно посмотреть прямо в глаза. Тогда что?
…Они стояли на сцене друг напротив друга. Свет погас, освещен был единственный участок, в котором они стояли, глядя куда угодно, но только не друг на друга.
Месть Полины удалась, но платить за нее пришлось личным спокойствием.
Неужели ты так сильно меня ненавидишь, что перешагнула через упрямство, называемое принципами, и вышла на сцену? Неужели это того стоило? Тебе мало было, что Штроц узнал тебя и назвал талантливой ученицей, тебе нужно было, чтобы Штроц узнал и меня?
Но виновата была не она. Режиссер бы в любом случае обратил внимание на мальчишку, бывшего когда-то его учеником и, по сути, мало изменившегося с тех пор. Другое дело, что Штроц не знал нынешнего Родиона, который сделал слишком много, чтобы забыть о себе старом.
– Подумать только, два моих ученика собрались в одном зале! – разорялся он на все лады, пока однокурсники изумленное переговаривались, а Мишка пихал его в бок и тревожно спрашивал: «Вы что, давно знакомы с Полиной?!»
Родион только глаза скосил в ответ и безнадежно покачал головой. Его приятель, кажется, положил на Орешину глаз, и это значило, что ему, по крайней мере, Мишке придется все объяснить….
– Родион Расков – очень талантливый студент. Этой зимой получил награду на Всероссийском конкурсе чтецов! – распинался Игорь Борисыч, не замечая, как Штроц хватает его студента за руку и увлеченно трясет, и обнимает самого Родиона, с детской непосредственностью радуясь его присутствию здесь.
– Конечно, он талантливый, конечно, получил! Борисыч, а, как тебе удалось согнать сюда двух моих любимцев? Зная тебя, я бы подумал, что ты все подстроил!
– Хочу тебя огорчить, Альберт, но это не я, – растерянным голосом проговорил Игорь Борисович.
– А все же, вы меня радуете, ребята! Как хорошо, что вы общаетесь и после стольких лет!
Среди однокурсников Родиона многозначительные смешки. Лика Суворина посылает Рудику воздушный поцелуй.
Полина мрачно отступает к сцене, в темноту.
– Вот Борисыч говорил о твоих стихотворных заслугах… А, знаете ли, – обратился он к актерам, – как прекрасно они с Полиной читали в детстве стихотворение Кочеткова? Умение рассказывать стихи у Раскова, мне кажется, с тех самых времен.
– Только не надо делать вид, будто мы его с тех пор ничему не научили… – с некоторой, как показалось Полине, досадой заметил Игорь Борисович.
– Да упаси Бог, но, чтобы не быть голословным, хочу тебе доказать свои слова. Полина, Родион, сделайте одолжение, дайте старому режиссеру вспомнить прошлое.
…Теперь они стояли на сцене, потому что таким просьбам не отказывают. Потому что, несмотря ни на что, они все еще хотели что-то доказать друг другу, а Полина еще и своей сестре. Стояли на сцене, смотрели друг на друга и не могли начать, борясь с чувствами, которые не поддавались определению.
Это уже было много лет назад. Все было другим, и они в том числе. И на сцене тогда стоял Рудик.
Рудик, а не Родион, которым он всю жизнь хотел быть. Это был один из самых страшных его кошмаров, и он ожил здесь и сейчас, на сцене любимого театра, на любимой, знакомой с детства сцене.
Он оживал всегда, когда Родион слышал это полузабытое детское имя «Рудик». Пять букв, две из которых гласные, а три – согласные. Сотня воспоминаний и столько усилий, потраченных понапрасну, чтобы забыть все неприятное, связанное с ними. И даже девочку, которая несмотря ни на что, все еще стоит напротив и смотрит так, как будто знает о нем все.
Свет на секунду мигнул и снова загорелся, но этого было достаточно, чтобы он схватил ее за руку, и, по-прежнему не глядя на нее, произнес, сжав зубы:
– Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана – прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана – Прольется пламенной смолой.
Голос его изменился. Он перестал быть тем, кем был в реальной жизни, он перестал искать, метаться и прикрывать лицо. Оставшись тем же человеком, он словно позволил взглянуть в самую свою суть. И он не жаловался, он говорил так, будто просто размышлял, признавая всю обреченность ситуации. Пальцы Полины чуть дрогнули в его руке. Она подняла глаза и встретилась, наконец, с ним взглядом:
– Пока жива с тобой я буду – душа и кровь не раздвоимы, пока жива с тобой я буду – любовь и смерть всегда вдвоем. Ты принесешь с собой повсюду, ты принесешь с собой, любимый, ты принесешь с собой повсюду родную землю, милый дом.
– А если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, – спросил он настойчиво, – а если мне укрыться нечем от холода и темноты?
– За расставанием будет встреча, – грустно откликнулась она. – Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча. Вернемся оба – я и ты.
Она пообещала… голос ее на мгновение сорвался – она сделала глубокий порывистый вдох, как рыба, вернувшаяся в воду после изнурительно долгого пребывания на суше.
Громкими, охрипшими голосами они дочитали стихотворение, заставившее вспомнить о времени, которого всегда мало и которого всегда не хватает.
Актеры Штроца захлопали первыми. Штроц обернулся и с одобрительной улыбкой поддержал. Им вторили и однокурсники Родиона с Игорем Борисовичем во главе.
– Надо же, не забыла, – тихо без улыбки констатировал Родион.
– Ты тоже, – пожала плечами Полина и выдернула из его руки свою ладонь.
Если и было что-то более бессмысленное в их жизнях, то вот это прочитанное вместе стихотворение перебивало все. Полину трясло. Они еще поговорили со Штроцем, назначили день интервью, обнялись и разошлись. Еще переговаривались актеры и будущие их подобия в фойе, еще гардеробщица и билетерша выражали Штроцу бурные восторги и зазывали его и Игоря Борисовича на чай, а Полина уже вылетела на скользкое крыльцо и вдохнула полной грудью свежий воздух.
Ее мутило, знобило, она не понимала, что с ней. Она едва замечала взгляды однокурсников Родиона и даже заинтересованный взгляд Мишки Яковинцева, который едва не свернул шею, глядя ей вслед. Впрочем, вряд ли в другой день она отреагировала бы по-другому. Сердце ее молчало. Оно вообще сходило больше с ума от выворачивающих душу воспоминаний – Полина бы не удивилась, если бы после сегодняшнего вечера у нее поднялась температура. Однако успокаиваться было еще рано.
Родион шел за ней, следовал по пятам. По шагам она угадала, что это он – в конце концов, только он жил в доме напротив.
– Это приятное чувство, когда ты понимаешь, что тот, кто тебя преследует – не маньяк.
– Ты не можешь быть уверена в этом до конца, – заметил он, поравнявшись с ней.
– Насчет тебя никогда нельзя быть уверенной до конца, – усмехнулась она.
Они ненадолго замолчали, думая о своем, но, в конечном счете, как показалось Полине, все об одном и том же.
– Знаешь, думаю, выражу общую мысль после сегодняшнего вечера, – начал он.
– Да? – она посмотрела на него сбоку.
– Это перемирие очень утомительно. Слишком уж хорошо мы знали друг друга в прошлом.
– И теперь это только мешает.
– Да. И будет хуже, если ты часто будешь выкидывать фортели наподобие сегодняшнего.
– Что? Да Штроц бы по-любому вытянул нас на сцену.
– Верно. И все же… Давай лучше расстанемся сейчас – недрузьями. – Насмешливо протянул Расков.
– Недрузьями, – Полина на мгновение остановилась, чтобы лучше рассмотреть выражение на его лице. – Правда, нам придется видеться все равно. Это вошло в привычку у судьбы – сталкивать нас лбами.
– Это ничего, – пожал он плечами. – К этому легко можно привыкнуть, когда знаешь, что все определено.
– У меня даже камень с души упал, – заметила она, когда они снова двинулись в путь.
– И открывает дорогу для всех возможных отношений. Вот, например, Мишка. – С намеком заметил Родион.
Полина скептически посмотрела на него.
– Советов по поводу личной жизни, у вас, Господин Великий Актер, я спрошу в последнюю очередь.
– Так мы же недрузья, помнишь? – с улыбкой сказал Родион. Они приближались к Полининому дому.
– Ну и что. Тем более, я не буду с тобой на эту тему разговаривать. Чао, передавайте привет вашей сестре, Рудольф!
И махнув на прощание рукой, Полина скрылась в подъезде.
Фонарь у дома Полины вспыхивал и гас с завидной периодичностью. Родион посмотрел на него, думая об их разговоре, и засмеялся-таки, не выдержав. Потом впервые за много лет подошел к озеру посреди их огромного двора и посмотрелся в свое отражение, ставшее совсем другим. Нет, в одиночестве он там совсем не смотрелся… И решительно оторвавшись от темной глади, Родион направился к себе, старательно обходя слипшихся воедино парочек, раскинутых по скамейкам.
На город ложились ранние сумерки, а воздух дышал ароматом наступающего тепла.
«В такие вечера лучше гулять с кем-то, а не в одиночестве», – подумала Полина, выходя из своего подъезда. Она наблюдала за Родионом из подъездного окна и дождалась, когда он уйдет к себе, чтобы выйти на улицу. Она не могла просто уйти, ей нужно было переварить то, что произошло, и лучше будет делать это не дома, где сам воздух был сжат в четырех стенах.
Поэтому сегодня Полина бродила по старому своему дворику, смотрела на светящиеся окна домов напротив и постепенно успокаивалась. Взгляд ее останавливался на привычных дворовых объектах, но не перемещался дальше озера, расположенного посреди двора, делящего двор на две части. Вокруг этого озера прошла добрая часть ее детства. Это вечный водораздел служил основанием для множества сказок, тайн, легенд, ужастиков и прочих историй, часть из которых была полна романтики, другая служила базой для множества игр.
У Полины были и свои истории, и далеко не все из них были выдуманы.
После получасовых хождений, она все же решилась и шагнула к воде. В ровной глади отразилось ее немного искаженное бледное лицо со сверкающими голубыми глазами. Непривычно, даже после стольких лет, знать, что рядом с этим лицом не отразится другое, ничем не похожее на это лицо. Хотя… почему непривычно? Стоит ей лишь захотеть…
Но сейчас она сама не знала, чего хотела. И письма ее сестры, вопреки ее желанию, ни капли не привносили в ее жизнь ясности.
Вот так же она приходила сюда каждый день после школы. Они с Родионом вызывали друг друга специальным сигналом, а потом проводили во дворе долгие часы, бесконечные часы, ни в один из которых им не было скучно. Осенние листья падали с деревьев, а потом еще и собирались в кучи для того, чтобы в сентябре и октябре приходили те, кто устраивал из них дворовый фейерверк. Они летали по двору, падали в озеро и плавали по его поверхности. И сразу становилось понятно, что это осень, и было немного грустно, потому что с осенью заканчивался незабываемый период их жизни. Осень влекла за собой зиму, в лучшие дни и вечера которой лепилось все, что только можно от снежков до огромных внушительных крепостей. Потом, мокрые от снежных битв, продрогшие от долгого пребывания на холоде, Полина и Рудик возвращались домой, сушились и растягивали удовольствие от вечеров за просмотром любимых фильмов (правда, выбор перед этим обязательно сопровождался дракой) с чашкой (или точнее с ведром) чая.
Они встречали весну, начиная запускать первые корабли по ручьям еще с первым таянием снега, и не было и не могло быть ничего упоительнее этих быстро размокающих кораблей, расписанных пожеланиями о лучшем. Эта ежегодная традиция открывала сезон их безумия, которое длилось бы круглый год, если бы не несколько месяцев непогоды.
И в зависимости от того, на чьей стороне двора они играли, на той стороне их озеро отражало щуплого темноволосого паренька и кудряватую девицу с голубыми глазами. Оно оставалось прежним, менялись только их отражения в ровной озерной глади. Сначала это были дети; соревнуясь друг с другом за место, которому не было границ, они непременно старались оказаться рядом друг с другом; дети росли и смеющиеся отражения сменялись более вытянутыми копиями тех же самых детей. Тонкие руки округлялись, волосы отрастали и меняли оттенки, в выражении глаз появился подтекст, а смех раздавался все реже и реже. Нет, они действительно по-прежнему веселились, но, увы, не здесь, и если и подходили к ровной глади скучающего озера, то лишь потому, что вживую друг на друга им становилось смотреть все сложнее. Отражение – это ведь почти то же, что реальность, а если и поднапрячь фантазию, то будет и вовсе не отличить от оригинала. И постепенно озеро перестало видеть детей, оно начало отражать подростков с претензией на взросление. Подростки теперь больше ругались, чем смеялись, хотя озеро и не удивлялось. Оно многое повидало на своем веку: смех, слезы, драки, споры, даже поцелуи. Поцелуев было много, одни вызывали те самые слезы, другие открывали новую дорогу смеху. Кто-то после тех поцелуев приходил в одиночестве и любил подолгу искать свое отражение в темном дне, будто старался узреть изменения.
Та парочка, кстати, тоже не избежала подобной участи.
Но, как справедливо подумала Полина, все это было уже в какой-то неправильной, не той жизни. В той жизни, в которой все происходящее казалось репетицией перед большим спектаклем, в которой были только задор и любопытство, а страха не было совсем. О чем говорила ее сестра в последнем письме? О том, что Полина в последние годы закрылась настолько, что изменилась до неузнаваемости? Что именно страх перед окружающим реальным миром сделал ее другим человеком? Но почему? Если это правда, то когда это началось с ней и почему ее всемогущая сестра это видела столько лет, но не могла открыть на это глаза самой Полине?
Вопросов было много, а вот с ответами была беда. И Полина не была уверена, что сможет найти на все вопросы ответы. Но старое знакомое озеро, которое Полли видела перед глазами всю свою жизнь, подсказывало одним своим примером – все наладится. Как налаживается всегда, только Полина не знала, как и когда это произойдет. Ее сестра оставила ее одну разгребать проблемы, постоянно подкидывая новые. Она словно дразнила ее, даруя всегда желаемую свободу, и усмехалась, стоя в стороне, наверняка уверенная, что Полина не сможет выплыть одна из этого болота, и как всегда позовет ее на помощь.
Только Полина не позовет.
X
Спустя неделю и два дня после расставания с Олегом Красовским в понедельник с утра Маша Сурмина не вышла на работу. Казалось бы, ничто этого не предвещало. Всю неделю она ходила в офис, как прежде, быть может, только была чуточку более отстраненной, чем раньше. Она не заходила к начальнику в середине рабочего дня, их давно не видели обедающими или уходящими домой вместе. Красовского никто из сотрудников вообще не видел уходящим домой (кроме Гриши), а вот Маша ходила теперь всегда одна или с собратом по несчастью стажером Игорем.
По офису поползли слухи, что они расстались. Красавица Елена не преминула воспользоваться этой ситуацией, чтобы лишний раз поехидничать. Основным аргументом ее было следующее:
– Ну, ты даешь… неужели думала, что он будет с тобой дольше? Повстречались немного и хватит. Может, тебя утешит, что иной раз он девушек и раньше бросает, так что тебе повезло.
Она болтала об этом в пятницу, готовя вместе с Машей конференц-зал к встрече с заказчиком. Ее легковесная болтовня надоедливыми каплями воды из не до конца закрученного крана падала на воспаленное Машино сознание. Последняя с трудом сдержалась, чтобы ничего не ответить. Она не была дурой. Понимала, что Лена специально нарывается на грубость, чтобы завалить лавиной своей чепухи и добить ее, вывести на откровенность. Но Маша молчала. Смотрела в окно на кромку близкой воды, на накатывающие на берег волны, и молчала. А в понедельник она не пришла.
Она никому не звонила и не оставляла сообщений. Она просто исчезла, не предупредив ни наставника Михаила, ни своего приятеля Игоря, ни Красовского.
Пришедший к восьми утра и разгоняющий завалы на работе Красовский около десяти услышал смех Лены из приемной. Как только он вышел с намерением дать своей заместительнице задание, секретарша и Лена резко замолчали и округленными глазами посмотрели на начальника.
– Что случилось?
– Да нет, Олег, ничего, а что должно было случиться? – зачастила Лена.
– Я серьезно.
– Ну в общем… не хотели тебе говорить, хотели сначала сами разобраться…
– В чем дело?
– Сурмина не вышла на работу. Мобильник у нее не отвечает. А у Лиды где-то был записан ее домашний номер…
На лице Красовского не дрогнул ни один мускул.
– Звоните. Может быть, она заболела?
– Могла бы хоть Михаила предупредить! – с досадой сказала Лена. – Вот Игорек в случае ЧП мне всегда звонит.
– Хорошо, пусть Лида наберет ей, а сейчас зайди ко мне, у меня есть задание.
Он повернулся и скрылся в своем кабинете. Лена подмигнула секретарше и шагнула за начальником в кабинет.
К обеду ситуация не прояснилась. Игорь ничего не знал, Михаил тоже. Сотрудники шептались, что Маша не выдержала, сбежала от неразделенной любви к Красовскому. Красовский на слухи как всегда не реагировал.
В перерыве женская часть коллектива собралась в холле.
– Бедный Олежек, да ему вообще не до вашей Маши! – говорила бухгалтерша Ира. – Он весь завален работой, он бы и не заметил, что ее нет.
– Заметил, не заметил, а ситуацией нужно воспользоваться, – быстро сказала Лена и взглянула в удивленные глаза бухгалтерши. – Ты что, не понимаешь?
Послеобеденная планерка заканчивалась около пяти, в последнюю очередь обсуждали стажеров.
– Что мы будем делать с Сурминой?
– Что делать, что делать… ждать, когда объявится, – задумчиво произнес Красовский, отворачиваясь от окна.
– А если не объявится? Если она просто сбежала? – протянула Лена. Олег Александрович поднял на нее глаза, но ничего не сказал.
– Может, у нее что-то случилось, – пожал плечами Михаил, – а вы сразу шум поднимаете.
– Ну да, ну да, – недоверчиво протянула Лена.
Когда заместители покидали кабинет Олега, Лена дождалась ухода Миши и задержалась в дверях.
– Может быть, она из-за тебя сбежала, а, Олежек? Поматросил девочку, вот она и не выдержала.
– Напоминаю тебе, дорогая моя Елена, что мы все-таки не в баре с тобой сидим и пьем, а на работе находимся. Думай, что говоришь. – Спокойно сказал Красовский. Нельзя сказать, что он не ожидал от кого-нибудь из своих сотрудников таких слов. Ему было просто любопытно, осмелится ли их кто-то произнести.
Лена лишь хмыкнула и ничего не сказала, а у Красовского даже не осталось шанса с кем-нибудь поругаться. Он пришел домой поздно и ходил из угла в угол. Не выдержав, он все же набрал Машин номер, но ее телефон был выключен. Он оборвал звонок и с досадой уставился в окно.
В среду около пяти часов вечера он въезжал во двор Машиного дома. Нужно было сделать это раньше, но он…
Что? Боялся? Опасался? Он понимал, что только он может это сделать. Не присылать людей, не заставлять сотрудников постоянно звонить ей, а просто приехать.
Скорее всего, у Маши дома он опасался увидеть подтверждение общим мыслям. Боялся, что она действительно не ходит на работу из-за него.
Олег не знал, что он сам чувствует по этому поводу, он не был к этому готов, надеялся, что все как обычно пройдет безболезненно для обоих, и поэтому сейчас в его голове царили сумятица и суматоха.
Медлить больше было нельзя. Он вышел из машины, проскользнул за каким-то жильцом внутрь и, добравшись до шестого этажа, решительно нажал на кнопку звонка.
Машина мама работала медсестрой, и когда они с Машей начинали встречаться, Сурмина рассказывала, что она работает в ночную смену. Олег надеялся застать ее дома.
Ему повезло. Дверь ему открыла высокая немного изможденная женщина с прямой спиной и открытым взглядом – в молодости, вероятно, она ничем не отличалась от своей дочери. Она рано постарела, в уголках глаз залегли морщины, а улыбалась она, как догадался Красовский, теперь довольно редко. Но вся она – это чувствовалось – излучала жизненную силу, цепкую силу, которая служила опорой ко всей скверности каждого дня. На нее хотелось положиться. Красовскому она понравилась, и он совершенно не кстати вдруг вспомнил свою мать. Чтобы выкинуть ненужные мысли из своей головы, он поспешно улыбнулся.
– Здравствуйте. Меня зовут Олег Красовский, я начальник вашей дочери.
– Начальник? – женщина была удивлена.
– Маши уже три дня нет на работе, на телефонные звонки она не отвечает…
Машина мама вздохнула.
– Проходите.
Они сидели в гостиной за круглым столом. Агния Петровна принесла чай.
– Она мне сказала, что ей дали отгула.
– Она исчезла внезапно, никого не предупредила… – Олег пожал плечами.
– Это на нее похоже.
– Похоже? – Олег был удивлен. За те несколько месяцев, что он был с Машей знаком, она произвела на него впечатление самого ответственного и обязательного человека, какого он когда-либо знал. – Я точно не перепутал квартиру?
Машина мама засмеялась.
– Нет, вряд ли. Я не ожидала, если честно, что разыскивать ее будет сам начальник. Обычно для решения таких вопросов присылают курьеров. – У женщины был очень проницательный взгляд, Красовский даже напрягся немного. В его планы не входило рассказывать ей об их с Машей отношениях. Которые, кстати сказать, уже закончились.
– Маша – хороший сотрудник. Я собирался взять ее на полную ставку, а не увольнять. Поэтому меня больше всех удивило, что она пропала. А она скоро придет?
– Маша? А разве я не сказала вам? – Агния Петровна отставила чашку, вздохнула, сложив руки на коленях. – Она в Амстердаме.
Олег едва не вылил на себя весь кофе.
– Где?!
– В Амстердаме.
– В столице Нидерландов? – переспросил Олег для полной уверенности, чувствуя себя полным придурком.
– Да.
– Она уехала отдыхать? – Красовский ничего не понимал.
– Если бы, – Машина мама усмехнулась. – Она уехала к своему отцу.
– И часто она так…
– О да, к сожалению.
Красовский покачал головой. Он не знал, что сказать.
– Но почему так внезапно? Почему она не предупредила меня или кого-то из замов?
– Видите ли, Олег… как вас по отчеству?
– Просто Олег.
– Да, Олег, видите ли, мы с мужем развелись, когда Маше было десять лет. Он исчез внезапно с нашего горизонта, не звонил и не писал. Мы потеряли с ним всякий контакт. И Маша очень хотела с ним увидеться, встретиться. Ну вы понимаете, дети задают очень много вопросов, а она в то время довольно многое уже понимала. А года три назад она получила от него письмо – без адреса. И задалась целью его разыскать. С тех пор она, как бы это сказать, немного одержима этой идеей. У моего бывшего мужа всю жизнь была страсть путешествовать. Боюсь, что Маша заразилась той же болезнью.








