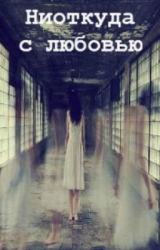
Текст книги "Ниоткуда с любовью"
Автор книги: Даша Полукарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
В конце концов, вряд ли он знакомит с сестрой каждую из своих барышень, а сестра была довольно близким человеком – все, что Маша Сурмина знала, так это то, что когда-то она его воспитала. У них была разница в возрасте – восемь лет.
Когда они подъехали к дому, Вика стояла на пороге – закутанная в шаль, с забранными в мягкий узел волнистыми волосами, выглядела она моложе своих лет. Так и не сказать, что у нее две взрослые дочери.
Маше Вика показалась непроницаемой.
Так она думала всегда, когда, как казалось Сурминой, человек говорил одно, а в глазах, интонации, манерах мелькало совсем другое выражение, совсем другие мысли.
Красовский заглушил мотор и вышел. Маша последовала его примеру. По мере приближения к дому, она понимала: они были похожи, брат и сестра. Не только внешне, в выражении насмешливого ожидания на лице тоже наблюдалась какая-то схожесть, а если присмотреться к ним поближе, наверняка можно было выявить еще множество соответствий.
– Здравствуй дорогой, – произнесла Вика, меняя позу и раскрывая перед гостями дверь. – Рада, что вы, наконец, пожаловали.
Вроде и не было сказано ничего такого, но интонация легкой насмешки все же проскочила и в голосе. Олег никак не отреагировал, правда, Маше на мгновение показалось, что он весь как-то подсобрался и замкнулся в себе. Но это лишь на мгновение. Вот он уже целует сестру в щеку, и представляет Машу, и Вика улыбается ей – приветливо и немного снисходительно. Вот он говорит что-то забавное про дворец на одного, вот они пересекают безупречный уютный холл и заходят в прекрасно подобранную столовую, в которой Маша замечает камин – камин! – совсем не декоративный, но, к сожалению, сейчас не работающий.
– Ну, садитесь уже скорее! Я вас заждалась – все утро у плиты, гостей нет – так и заскучать недолго.
«А где же слуги, придворные или хотя бы просто один маленький паж?» – приходя в веселье, подумала Маша. Этой светской обстановке, кушаньям, беседе не хватает только королевского двора, который будет пристально и в меру волнительно заглядывать хозяйке в рот.
– А где же твои слуги? – неожиданно вопрошает Олег, открыто улыбаясь, и Маша едва не падает со стула от совпадения их мыслей.
– Заперла в кладовке, – спокойно реагирует Вика, расставляя бокалы по столу.
– Своевременно, – одобряет Олег. Он открывает бутылку вина, начинает что-то спрашивать, а Маша не может избавиться от чувства какой-то невероятной напряженности, сквозящей в обстановке. С чего вдруг? Почему?
– Димка вернется только через две недели. Я жутко скучаю, – поделилась Вика, и это уже было похоже на искренность.
– А Польку ты видела?
– Не успела еще. Вчера она была жутко занята, позавчера у нее были пары до вечера и редакционное задание. Сегодня у нее снова какие-то проблемы. В общем, надеюсь увидеть ее хотя бы на выходных. Она отказывается переезжать сюда даже на время. Говорит, что ее бесит дорога, особенно по утрам. Она, видите ли, любит ходить пешком!
Вика пожимала плечами, а Олег в это время разливал вино, усиленно кивая и выражая неподдельный интерес.
Почему-то Маше, наблюдавшей за ними двумя со стороны, показалось, что у Красовского свое мнение насчет племянницы, расходящееся с Викиным, и в этом как раз и заключается один из конфликтов между братом и сестрой.
Приходится выслушивать две стороны, обязательно кого-то поддерживать и кого-то ругать, пытаясь все не испортить и не усугубить отношения в семье. И что-то подсказало, что чаша весов склонялась в пользу племянницы.
Покончив со светской вступительной частью, гости принялись за первое, а Вика – за Машу. Сразу же последняя почувствовала себя на смотринах, причем самого «наикиношного» разлива.
– И как давно вы вместе?
Олег и Маша машинально переглянулись, и Сурмина ответила за обоих:
– Три месяца.
– А-а-а, – острая многозначительность проскользнула в этом простом междометии, и значить она могла много всего, и не самого приятного. – И как отмечали?
– Что? – не поняла девушка.
– Ну как что – три месяца вместе – почти юбилей! – Вика будто делала вызов и надеялась, что он будет принят. Но Олег ловко и привычно не стал поддаваться на ее игры.
– Да у нас каждый день праздник, – спокойно улыбнулся он, сделав глоток вина. – Мясо у тебя, Викуля, сегодня просто потрясающее. Впрочем, как и всегда.
– Спасибо, – поблагодарила его сестра машинально. – А что вы делаете, Маша, кроме как работаете на моего брата?
– Учусь на вечернем. На архитектуре.
– На архитектуре, ну конечно. На вечернем? Такое нечасто увидишь.
– Как по мне – так сплошь и рядом, – улыбнулась Сурмина, прямо взглянув Вике в глаза. Вика первая отвела взгляд. Но Маша все же продолжила: – Я перевелась. На третьем курсе. С очного.
Прекращение стука приборов слева, секундный вопрос в глазах собеседницы напротив:
– А почему?
– По семейным обстоятельствам.
Хочешь вынести обо мне вердикт – ну что ж, тебе придется для этого сильно попотеть.
– Понятно…
И больше ничего не сказала. Спросила только о вкусе подливки и потеряла всякий интерес. Как будто ее и не было здесь.
Извинившись, Маша вышла в другую комнату с телефоном – звонила Женька, уже давно переведенная из реанимации в обычную палату, и Маша начала рассказывать обо всех своих новостях, как привыкла делать это уже очень давно, еще когда ее сестра переживала из-за непопулярности в школе, из-за отсутствия друзей. Старшая сестра просто приходила и начинала вывалить на девочку все, заполняя ее голову проблемами, вопросами, происшествиями, планами, посылая в космос простой сигнал: «Ты нужна мне. Быть может, кому-то нет до тебя дела, но и тебе не должно быть дела до этих людей. А я у тебя есть я, и я буду всегда».
Только проговорив несколько минут, Маша осознала, что попала в большую комнату, вроде зала или гостиной – кому как удобно. Кресла, диван, столики, огромный телевизор, фортепьяно. На средней полке стеллажа – фотографии. Маша подошла ближе, рассматривая их и не вглядываясь. Она просто машинально прикасалась к рамкам, переводя взгляд со снимка на снимок. И только заканчивая разговор, до нее дошло. Она знала людей на фотографиях.
Вот женщина и мужчина, молодые и не такие блестящие, как на последних снимках, сидят в обнимку с улыбающимися девочками лет 10 и 12 соответственно. Вот девочки – чуть младше, сидят рядом, едва касаясь друг друга, необыкновенно похожие, но уже едва уловимо разные – в одежде, выражении лиц, манере улыбаться. Вот они же, только младшая замерла за фортепьяно, с сосредоточенным выражением склонилась к клавиатуре, не видит объектива камеры и фотографа, а старшая на переднем плане – руки в третьей позиции над головой, стоит, отвернувшись от камеры на три четверти, спина прямая, шея вытянута, но голова слегка повернута к объективу, полуулыбка и косящий взгляд подсказывают, что она видит, как их с сестрой снимают. А вот младшая – и Маша прерывисто вздохнула – на одном снимке с Родионом Расковым. Ну, то есть, с Рудиком, – спешно поправила она себя, вспоминая вдруг его древнее прозвище. Им лет по 13, руки скрещены на груди, подбородки подняты, ноги, обутые в разномастные кроссовки, лежат на впереди стоящем стуле. Четыре подошвы сверкают на первом плане, два небрежных взгляда пронзают объектив. Рудик другой – волосы светлее, а глаза темные смотрят еще пронзительнее, с вызовом (с возрастом он стал мягче и в манерах, и в поведении). А Полина с темными волосами, такими же, как у сестры. На следующих фотографиях наблюдается временной разрыв, прошедший с тех детских снимков. Вот Полина уже другая, лет семнадцати, с разноцветными прядями, собранными в высокий хвост, улыбается, обнажая ямочки на щеках, рядом смеется Олег, обнимая ее за плечи. А на последнем снимке Нина и Полина – явно в тот же день, только снимает Олег. Стоят, едва касаясь друг друга руками (оба снимка на набережной, спиной к морю, облокотившись на парапет). Обе совершенно разные вместе. От тех маленьких девочек мало, что осталось, кроме того несомненного факта, что старшая все же стала балериной, а вот та сосредоточенная девочка перед клавиатурой фортепьяно пропала. Она по-прежнему не смотрит в объектив, предпочитая чуть повернуть голову и щуриться на солнце, а вот старшая смотрит четко прямо, в глазах, позе – самодостаточность и уверенность в себе и окружающем мире. Маше показалось, что Полине уж очень не хочется оказаться похожей на сестру, даже в этих взглядах, направленных не в одну сторону.
Сурмина отдернула руку от фотографий, будто прикоснувшись к чему-то запретному, а в голове проносились миллионы лет, прошедшие с тех пор, как она впервые познакомилась с Рудиком и Полиной в Затерянной Бухте. И как они взяли ее под свое крыло, и как однажды Полина пропала, так больше никогда и не объявившись в Бухте. А еще когда-то она говорила, что живет без родителей, с крестным, а он архитектор, и их дом украшен его картинами. «Он потрясающе рисует, знаешь?» – захлебываясь от восторга, рассказывала она Маше в один из самых ужасных дней в темном прокуренном подъезде. Маша тогда уже рисовала, и это было единственной отдушиной, оставшейся в жизни. Она уверяла сестру в прекрасности этой жизни, каждый раз возвращаясь из школы или с прогулки, а сама была по горло в трясине.
Так… пора было возвращаться. Прошло уже минут десять, как она покинула столовую, и Олег вот-вот придет ее искать, и почему-то вмиг стало страшно, что он узнает, насколько заочно они были знакомы или вообще заметит, что она в каком-то смятении.
Непонятно почему, ведь на фотографиях в основном была Полина, но у Маши защемило сердце, она вспомнила об Олеге. И еще сильнее ей захотелось понять, наконец, какой он. Какой был до встречи с ней и был ли всегда так замкнут относительно своей жизни? В каких он отношениях с той же Полиной? Есть ли у него действительно близкие люди, ведь Вика в этом плане, кажется, не в счет? Когда он понял, что хочет стать архитектором? Почему курит лишь тогда, когда хочет спрятать за сигаретой свои эмоции, притушить их или затуманить сигаретным дымом? И почему она до сих пор не может рассказать ему о себе все, не может избавиться от страшного въедливого предчувствия, что тем ближе станет расставание? Где вообще найти гарантию, что она для него больше, чем временная подружка, или просить о таком – глупо? Или может быть, она действительно, как предположила Ника, ему не доверяет? Не доверяет и глупо требовать это от самого Олега?
Мысли, одни и те же острые и жалящие мысли бежали по заколдованному кругу, как лошадки в древней ярмарочной карусели. Они острым страхом прорывались, мешая наслаждаться каждым мигом. Едва вырываясь из его объятий, переставая изматывать себя работой, уходя из больницы от Женьки, она ступала на одну и ту же проторенную тропу сомнений. Иногда она думала о том, что вот, есть ведь девушки, для которых роман – лишь крайне увлекательное приключение, в котором влюбленность – период, когда все меняется, начиная с размера одежды и заканчивая статусом. Они – эти девушки – прекрасно знают, что однажды все закончится, и это не может их не радовать, ведь они не умеют привязываться.
Маша не умела не уметь.
– Поразительно, что с каждым годом, эти девицы все моложе, – из-за дверей раздался едкий голос. Маша вполне могла представить, как искажается это моложавое лицо при произнесении не совсем приятных слов.
В детстве она любила диснеевский мультик «Русалочка». Ее всегда поражало, как четко была прорисована каждая деталь всех персонажей мультфильма, и особенно ее занимала трансформация мерзкой ведьмы Урсулы в не менее похожую на нее худосочную версию, жаждущую украсть принца из-под носа Ариэль.
Вот и сейчас Маша предстала себе такую трансформацию и как морщится при этих словах Олег, и как стряхивает пепел в пепельницу, быстро усмехается и произносит:
– Поразительно, Полина сказала мне нечто подобное. Но в ее словах было все же меньше яда. Ах, прости, я забыл. Там вообще не было яда.
– Не хочешь ли ты поискать себе жену? – не обращая на его слова внимания, спрашивает Вика. – Может быть, вторая попытка окажется более успешной?
– А ты не хочешь заняться благоустройством вашего сада? Как-то он блекло выглядит.
– Ах, да, я всегда забываю, что ты любишь делать все назло и особенно мне. Любишь мне мстить. Это вызывает у тебя необыкновенное наслаждение.
– Вик, очнись, нам не по пять лет. – Внезапно устало произносит Красовский. Голос у него хриплый и слегка надломленный, как у человека, долго спорящего и в итоге оставляющий победу за соперником только из-за того, что сорвал голос. – Ты только вернулась, тебе для начала надо разобраться со своими делами, а не лезть в мои. У тебя с дочерьми что-то непонятное творится.
– Да и к матери надо съездить, – холодно говорит Вика. – Ведь, кроме меня, некому к ней ездить.
– Она мне не мать. И прекратим этот разговор! Где там Машка, пойду уже… А, вот и ты.
Сурмина довольно убедительно «подошла» к двери и открыла ее. Все же ей, по-видимому, не удалось скрыть эмоций, потому что Красовский вдруг обернулся и внимательно посмотрел на нее. Он сидел на стуле задом-наперед, облокотившись локтями о спинку, и курил, сбрасывая пепел в пепельницу.
– Что-то случилось? Женька?
– Да… То есть, нет, конечно, но… что-то мне не нравятся все ее пессимистические разговоры. Залежалась она уже в этой больнице. Хочу навестить сегодня, а то у нее вполне может начаться депрессия.
Она говорила что-то еще, а сама думала только о том, что было много лет назад, что навсегда лишило ее уверенности во многих вещах. И вот она – шутка природы. Надо же было такому случиться, что из тысяч людей в этом городе, она влюбилась именно в того, кто невольно, совершенно невольно напомнил ей о вещах, которые она всей душой мечтала забыть. И что еще намного важнее… вряд ли все это является случайностью. Просто каждая шутка – даже очень плохая, несет в себе какую-то мораль. Каждое наше действие, каждый поступок определяет не только наши жизни, но и нас самих, таких, какими мы зачастую не видим себя со стороны.
Понимая что-то о себе, самое главное – научиться принимать это, потому что от правды всегда страдает все, особенно если она сильно расходится с представлениями о ней. И сейчас Маше нужно было одно – время, чтобы позволить себе принять, в который раз принять свою жизнь такой, какая она есть.
…Он высадил ее у больницы. За все время дороги они едва сказали друг другу десять слов, с каждой минутой напряженно размышляя, что же снова не так. Вариантов ответа было много. Нужно было просто выбрать нужный.
– Маш, все в порядке? – спросил он. – У тебя странное лицо.
– Все прекрасно, – заверила она Олега. – Я скоро приеду.
Мысль ядовита. Она безжалостна и ядовита. Рождается где-то в голове и тянет изнутри. Тянет, тянет. Бывают такие дикие мысли, которые умеют только тянуться. Из них не извлекаются великие выводы, с их помощью не решаются тригонометрические задачи, ради них не совершаются безумные поступки и не выкапываются сокровища. Они существуют лишь, чтобы дразнить наше сознание. Сейчас Маше казалось, что ее голова забита вот такими мыслями, и нет от них никакого покоя. Они наслаиваются одна на другую, заставляя постоянно круглосуточно находиться в поисках того, что важно, а что нет. И они, эти мысли, мешали ей не только днем, но и ночью.
Олег естественно не стал лезть к ней в душу и докапываться, как и всегда – это было очень на него похоже. Но он видел, что с ней что-то творится. А с ней и правда что-то творилось. Уже вторую ночь Маша не могла спать. Дождавшись, когда Олег уснет, в этот раз он действительно спал, а не притворялся, как в предыдущую ночь, Маша встала с кровати и вышла на балкон. Дул свежий ветер с моря, но было тепло – лето уже вовсю вступало в свои права. Было около двух часов ночи, но Ника и Реснянский все еще были на какой-то вечеринке, а Настя и Чернов устроили себе марафон из фильмов-боевиков, при этом Настя подкалывала Чернова, что он умудрился променять свою новую подружку на фильмы, а тот односложно отвечал на это, запихивая в рот горы поп-корна.
Маша посидела с ними немного, но настроения развлекаться не было, и она ушла спать. На площадке лестницы, ведущей на второй этаж, она обернулась – Настя и Дима отбирали друг у друга пульт. На вопрос, почему они с Черновым не вместе, Красовский как-то со смехом рассказал, что на втором курсе они даже пробовали встречаться, как только познакомились, но в итоге разбежались, вынеся друг другу мозг. Для того, чтобы наладить идеальные отношения друг с другом, Настя была слишком язвительной, а Чернов слишком неуравновешенной творческой натурой.
Маша отправилась наверх, но в комнату не пошла. Она дошла до чердака и наткнулась на коробку – одну из тех, что Олег перевез из своей квартиры. Маша нашла, что искала: сверху лежали какие-то выцветшие папки со старыми проектами, а под ними обнаружилась большая толстая папка с рисунками – именно ее девушка видела у Олега в пустой комнате, еще до переезда. Она села на пол и развязала ленты, связывающие папку. Затем быстро пролистала рисунки, пока не нашла один – девушка, повернутая в пол-оборота. Ее удивленные большие глаза смотрели на Машу очень внимательно. Сурмина быстро захлопнула папку и закрыла глаза.
– А ведь тебе он наверняка доверял все свои мысли и секреты, – прошептала она. Это была Аня, бывшая жена Олега.
Маша чувствовала, что больше не может держаться. Внутри нее уже зрело то самое чувство, которое время от времени не давало ей покоя. Правда, с момента последней поездки многое изменилось, но все же… Изменилось ли?..
* * *
…Около шести утра Сурмина неслышно поднялась с кровати. В окно неуверенно прокрадывалось пасмурное утро, и Маша закрыла ему вход шторой, неслышно проскользнув по темному паркету.
Обернулась к кровати. Посмотрела. Олег спал, положив руку на теплое место на одеяле, под которым еще пять минут назад лежала она.
Собралась она быстро. Натянула толстовку и джинсы, умылась холодной водой, почистила зубы, провела два раза расческой по волосам – и, с отвращением глядя на себя в зеркало, закинула все свои вещи в сумку. Помедлив, вытащила свою зубную щетку, привалившуюся к Олеговой, и не глядя, тоже зашвырнула ее в сумку.
Быстро сбежала по любимой лестнице, заглушавшей все звуки, и замерла на пороге, подставив лицо утреннему ветру.
Было прохладно. Она вздохнула, глубоко и полно, как может дышать человек, который собирается затаить дыхание, прикрыла входную дверь, сбежала по ступеням и быстро пошла по петляющей тропе, желая держаться от этого места как можно дальше.
XV
…Огонь горел – к кончикам пальцев змеей поползло тепло, обжигающее, безоговорочное, и Полина, так пристально смотревшая на огонь, в последнюю секунду решительно дунула на пламя. Рука дрогнула.
Рука дрогнувшая сказала обо всем яснее самых четких и однозначных предзнаменований. Письмо, немного мятое от частых прочтений, осталось нетронутым и, не глядя, девушка раскрыла ящик стола и бросила письмо туда, захлопнув вместе с ним свое решение – непоколебимое и четкое. Молча она стояла посреди комнаты, прислушиваясь ко всем звукам, которые кидал к ее ногам город. Там были и вой ветра за окном, и скрип колес машин с проезжей части, и соседский кот, скребущий входную дверь с просьбой впустить в квартиру. Здесь были и разговоры по телефону, и легковесные подзатыльники, полученные «за дело», и крадущиеся шаги парочки по ступенькам лестничного пролета. Здесь были ее мысли, ее чувства, скатывающиеся в оголенный комок нервов, здесь письма из ниоткуда заводили в никуда, здесь Родион Расков поцеловал Полину Орешину, желая согнать ее отчужденность, ее равнодушие, и сделал это так просто, как будто это было самым обычным делом.
Зачем сестра продолжает делать это? Ведь она пообещала оставить ее в покое! Ведь самым разумным было бы больше не писать, но нет… – Это было первое, о чем подумала Полина, занеся зажженную спичку над письмом. И именно это заставило ее задуть огонь.
После того, как она обнаружила это письмо от Нины Родиону, все случайно найденные письма ей, отвращали и вызывали желание немедленно сжечь их.
Они с Ниной не знали друг друга – так думали, и думали, что непонимание – самая главная стена между ними. Но сейчас Полина впервые задумалась о том, что ее сестра действительно знала ее лучше. Узнала, когда месяцами лежала на этом самом диване и наблюдала, наблюдала… За неимением впечатлений из своей жизни, черпала их из жизни Полины. А сама Полина все бежала куда-то, бежала, чтобы вот так резко в один момент остановиться на месте и понять, что выбрала не то направление. Дорога увела так далеко и глубоко в чащобу, что и света не видать. Туман накрыл густым полотном, влажным, как непросохшая одежда, снятая с балкона. Этот туман лип к телу и вызывал неприятные ощущения, и нужно было лишь найти тот источник света, что подарит долгожданное необходимое тепло.
Пусть она не может разгадать загадку писем, присылаемых ей Ниной, как будто не понимает сути или просто не желает ее понимать. Она все мечется по кругу воспоминаний и представлений, потому что разговаривать с сестрой вживую было намного привычнее и понятнее. Письма – это не ее стиль (по крайней мере, в общении с Полиной).
Но Полина вполне может попробовать узнать сестру так же, как она узнала ее – или попыталась узнать. У нее есть источник, достовернее самых красивых слов. И более правдивый.
И впервые за долгое время, впервые, несмотря на неприязнь к Денису, Полина Орешина взялась за их двухлетнюю переписку. Взялась тщательно, почти забыв о своей размолвке с Родионом, о его виноватом лице, которое не могло скрыть проницательности ее суждений. Она читала письма по ночам, по утрам за завтраком, читала, собираясь в университет, читала, как читают хорошую книгу, растягивая удовольствие.
Впервые она погрузилась в жизнь своей сестры так сильно, как, казалось, еще никогда не погружалась в свою, и быть может, от этого шла причина всех ее бед? Все Нинины мысли, мечты, фантазии, все события, которым и она, Полька, была участником, широким веером расстелились перед ней и предстали совершенно в другом свете. Как будто она никогда не знала об этом. Как будто видела или слышала об этом впервые.
Она узнала об одиноких годах в училище. Одиноких, но счастливейших годах ее жизни. О Питере, который расстилался перед ней одной и перед всеми ними. Их муштровали, у них почти не было времени ни на что, но они все равно урывали для себя эти часы с Питером наедине. Они познали вкус свободы и жизни без родительского надзора. Они пробовали курить – как вольные подростки вне отчего крова, но быстро выдыхались и давились от смеха, несясь по темным Питерским улицам и гордились, идиотки, этим маленьким своим приключением. Они любили отражаться – Полина поймала себе на улыбке, читая эти строки – в воде Фонтанки, как любили отражаться в своем озере Рудик и Полина.
Очень быстро Нина перестала играть в игры с юностью, поняв, что играть в игры с людьми веселее, но – увы – у нее не было для этого подходящих кандидатур. И она рано повзрослела, и, узнав, что родители отправились на заработки – на первые, серьезные за много лет, приняла очень важное и очень трудное решение вернуться домой и защищать свою младшую сестру, за которую чувствовала прямую ответственность.
Она всегда старалась делать то, что считала нужным и добивалась того, что хотела. Полина вычитывала все это из обрывков ее мыслей, выложенных совершенно чужому человеку, будто на исповеди, брошенных вскользь намеков и из пространных комментариев. Многое Денис не знал, многое не улавливал сразу так ясно, как улавливала она, Полина, но интуитивно он всегда чувствовал Нину вернее ее родной сестры. И читая, Полина изумлялась тому, насколько лучше, чище была ее сестра, не сворачивающая и не собирающаяся сворачивать с выбранного пути. Ее сестра, в отличие от того, как думала о ней Полина, делала все не из-за воли и одобрения родителей, а из собственных принципов, установившихся, казалось бы, раз и навсегда. И в одних своих мыслях Полина уже казалась себе хуже.
А потом Полина обнаружила, что одно из писем предназначено ей. Оно лежало среди прочих писем Дениса и Нины, и знакомым почерком тонкой ручкой на нем было выведено одно слово: «Полине».
Девушка даже застонала сквозь зубы. Как будто Нина знала, что однажды Полина все же доберется до ее переписки с Денисом.
Ее сестра все тщательно распланировала. Именно мысли об этом заставили Полину схватиться за коробок со спичками. Она была всего лишь в одном шаге от того, чтобы сжечь письмо, даже не прочитав его, но в последнюю минуту все же одернула руку. И развернула листок бумаги. Как бы не съедал ее гнев, она не могла просто так поддаться ему, ведь это будет означать, что она проиграла. И она решительно вчиталась в строки письма.
«Возможно, дорогая моя Полька, ты постоянно спрашиваешь себя, когда наступит предел моим письмам и сколько их еще заложено в моем рукаве? Не волнуйся. Очень скоро это прекратится. Я чувствую, что как ни парадоксально, но эти письма делают меня ближе к тебе. Я будто начинаю лучше понимать и тебя, и себя.
Когда я была рядом, каждый день я видела тебя, смотрела на себя в зеркальное отражение и не могла постичь одну вещь: ты моя сестра, родная, ты ближе мне, чем родители, ближе, чем самые верные друзья, и все же, мы никогда, с тех самых дней, когда под музыку Шопена, я танцевала, а ты подыгрывала на фортепьяно, не могли найти с тобой взаимопонимания, гармонии.
Почему так? Почему мы совпадаем друг с другом в своих чувствах, но не совпадаем в мере, времени, степени их выражения? Почему иногда все держится на волоске, но связывает прочнее самых крепких уз? Почему жизнь настолько непредсказуема, что даже личные профессиональные травмы достижения мы воспринимаем сквозь призму своих отношений с окружающими? Почему так трудно решиться довериться кому-то, а потом невозможно от этого отказаться? И самое главное – на какое время даны нам все эти связи и отношения, то прочные, то крепкие? До какой степени натянута струна, и насколько она прочна? И если срок ее службы мал, то зачем нам вообще все это нужно? Стоит ли начинать привязываться, если страдать приходится вдвое и втрое больше, чем испытывать положительные эмоции? Если бы мы знали ответы на эти вопросы, быть может, никогда в жизни не пришлось бы больше метаться и сомневаться в самих себе… Поэтому я приняла решение больше не говорить о нас. Со стороны всегда видно лучше и я хочу поговорить о тебе.
В один из тех, примерно дней, когда я еще валялась на злополучном диване с больной ногой и выходила только с тобой за ручку два раза в неделю посидеть у подъезда – вот в этот день, в который, как бы ты сейчас сказала «жить особенно не хотелось», мы обе остались дома. Ты не убежала ни по каким делам, ну и я, соответственно, не убежала тоже. Ты как всегда куталась в старый, прожженный сигаретами плед и молчала. Ты ведь всегда молчишь, когда тебе плохо; молчишь, и не думаю, что кто-то из твоих хваленых университетских друзей, считающих тебя вечно веселой клоунессой, знает об этом. И я понимала, что лезть бесполезно – ты ведь и так огрызнулась на меня уже несколько раз. И только вечером ты сказала одну фразу, только одну: «Быть может, глупо говорить это, но, похоже, я потерялась в своей жизни».
Ты потерялась? Ты! Которая лучше всех знает, что ей делать. Ты потерялась. Я знаю, бывает, теряются и в трех соснах, но в твоем случае сосен было всего две, и они стояли рядом. Одним словом, я не поверила тебе. Но мы много говорили тогда – не знаю, помнишь ли ты тот разговор? И лежа как всегда ночью без сна меня пронзила эта мысль о письмах. Просто я не знала, как ее исполнить. Все это было уже потом и просто удачно совпало…
Я очень хочу, чтобы ты выбрала одну из своих казалось бы неисполнимых мечт и занялась ее исполнением прямо сейчас. Когда начинаешь что-то делать, мысли отступают, ты просто делаешь. И, в конце концов, понимаешь, что ничего неисполнимого не бывает. Ты можешь выбрать все, что хочешь. Пойти туда, куда хочешь. Ты можешь сесть в самолет и улететь туда, куда пожелаешь, хоть в Гонолулу, работать там продавцом сувениров из гавайских лечебных трав. Или уехать в Осло, в котором всегда хотела жить. Ты можешь выбрать другую профессию и начать играть в театре, как в детстве. А можешь вернуться к музыке – не зря же тебя к ней постоянно что-то возвращает.
Сейчас, пока не поздно, попробуй что-то кроме журналистики и начни исполнять свои мечты. Твоя Нина».
Твоя Нина…
Полина лежала на спине и безуспешно пялилась в потолок, пытаясь заснуть. Всю ночь накануне она готовилась к зачетам и совсем не спала, поэтому сегодня решила лечь пораньше. Письмо лежало под ее подушкой. Полина доставала его и перечитывала, когда видения особенно остро заполняли мозг. И ей становилось легче. Хотя бы незримо, в этом письме, но Нина была рядом с ней – снова поучала, куда уж без этого, но это было родное бурчание, напоминающее хриплые в помехах голоса, издаваемые кухонным радио.
Она читала и кивала головой. Согласно или нет. Да, Нина, да, права. Я действительно заблудилась в двух соснах, их и правда всего две, но и это кажется безумно большим числом, неизмеримым по количеству проблем. Да, я могу быть кем угодно, все верно, я знаю эту арифметику не хуже тебя. В теории. Проблема лишь в том, что я не знаю, кем хочу быть, понимаешь? Ты всегда знала, кем хочешь стать, и, глядя на тебя, мне казалось, что я тоже знаю. Но это все ложь.
Все дело лишь в том, что я не верю в себя. Я не умею. Меня не учили этому, не научили ни родители, ни фильмы, ни книги, ни школа.
Я умею верить лишь в тебя. В тебя, потому что именно этому меня учили все – всегда и везде. Посмотри на Нину. Нина танцует лучше всех. Нина будет балериной. Нина очень талантлива.
И пришло наверно время сказать: я никогда в этом ни капельки не сомневалась. Я не просто верила в это. Я знала это, потому что слышала маму и папу, и самое главное – потому что видела тебя – как сосредоточенно ты всматривалась в свое отражение, стоя напротив зеркала. Не видя…
Ты не видела себя. Ты просто танцевала. И перед тобой был весь мир.
Передо мной было фортепьяно, которое я думала, что ненавижу. Спустя годы я поняла, как ошибалась. Была слишком упряма. Не могла допустить ни на секунду, чтобы нас хоть кто-нибудь сравнил. «Полина репетирует не столь рьяно, как Нина…»
Все это я произношу в своей голове очень давно. Бесконечный монолог, длинною в тысячелетие. Я могла бы многое сказать тебе. Если бы ты захотела меня услышать.








