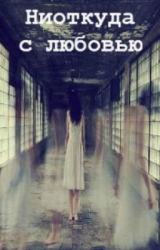
Текст книги "Ниоткуда с любовью"
Автор книги: Даша Полукарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Почему нужно все так усложнять в театре и быть таким простым в жизни? Какую-то свою помощь еще предлагать! Ну его к черту – не будет она его ни о чем просить. Тоже мне – актер. Новые роли ему дают, в кино приглашают…
Хотя справедливости ради стоило сказать, что съемки в сериале прошли и закончились, а новых предложений пока еще не поступало. Сам сериал должен был выйти в начале июня, и Полина представляла, что сделается с женской частью их студенческого населения после начала показа. Ну, а Расков зазнается окончательно. Такая уж эта капризная штука – слава, ничего с ней не поделать.
– Вы дождались меня, Полина! Большое вам спасибо, – проговорил рядом Штроц, и Орешина будто очнулась ото сна. – Простите за это ожидание.
– Ну что вы, Альберт Александрович, – сказала Полина, поднимаясь с места. – Мы не скучали. Думаю, нам нужно уйти в другое помещение, чтобы не мешать, верно?
– Все верно, Поленька, все верно. – Штроц обернулся к сцене, на которой уже появился Игорь Борисович, и начиналась репетиция. На секунду он задержал на ком-то свой взгляд, но потом обернулся к Полине с улыбкой.
– Ну что ж, начнем, пожалуй.
Петька Долгушин следовал за Полиной тенью и молчал. Обычно он не упускал возможности посоперничать и показать, насколько он хороший журналист, но сегодня от него не было ни слуху, ни духу. Впрочем, Полине и не нужна была его помощь. Петька изначально играл роль фотографа сегодня, может быть, поэтому не стремился выделяться.
Полина уже и забыла, как интересно было разговаривать с режиссером. Когда-то его имя ничего для них не значило – они не знали его работ, его взглядов, не знали о его наградах и о непростых отношениях с чиновническими структурами. Тогда, почти семь лет назад, один его голос и его быстрые, острые фразы заворожили их, двенадцатилетних и тринадцатилетних детей, заставили их слушать и слышать. Им было плевать на его титулы, они сразу увидели в нем необычного человека, фокусника или волшебника из сказки, и они раз и навсегда поверили ему.
А началось все с Полининого отца. Он переживал за Полину больше, чем за Нину, ведь Нина была старше, и у нее было увлечение – танцы – и этому она отдавала все свое время. Полина же незадолго до того бросила музыку, заявив, что больше и не прикоснется к музыкальному инструменту, завела себе целую кучу друзей в Затерянной Бухте и проводила дома все меньше времени. А у родителей только появились возможности уехать на заработки. И отец Полины придумал эту театральную студию. Они же жили рядом с театром. Однажды он проходил мимо театра и увидел объявление о наборе детей.
Полька упиралась и никуда записываться, разумеется, не хотела. Тогда мама предложила ей взять с собой Рудика.
– Да не хочу я ни в какую студию, – ныл он по дороге на первое занятие. – Театры – для девчонок.
– Тупица! В театрах и мужчины, и женщины играют! – вопила Полина, забыв, что сама еще не так давно не хотела никуда идти.
– Ой, хватит орать-то! Бесишь.
– А ты меня! Спорим, я первая роль получу?
– Да что ты можешь-то, Орешина?! На пианино бряцать? Это вообще-то не одно и то же.
Полина прищурилась.
– Кто первый добежит до театра, тот первый и получит роль. Идет?
– Идет! – легко согласился Расков.
– На старт, внимание, марш!..
– Какой опыт вы и ваши актеры приобретаете от гастролирования по городам?
– Ну что ж, для нас это опыт, безусловно, положительный. Для меня как для режиссера – это возможность в первую очередь изучить своего зрителя. На что они откликаются, что воздействует на них в большей степени. Для актеров это…
Интервью подходило к концу. Полина задала около тридцати вопросов, но знала, что часть из этого придется вырезать. Она также знала – получится неплохой текст, любителям театра будет над чем поразмышлять. Все дело, конечно, в собеседнике. Штроц умеет говорить и делает это красиво.
– Из тебя бы вышла прекрасная актриса, – сказал Штроц, когда они уже прощались в холле театра. – Жаль, что ты все-таки не пошла в театральный.
Полина почувствовала, что слова режиссера почему-то задевают ее, но она только рассмеялась.
– Актриса, Альберт Александрович? Вы шутите… Вы всегда на меня кричали.
– Это же я так, любя, – рассмеялся и Штроц. – Вы были лучшие в моей студии. Ты и Родион. Я рад, что он остался и развивает свой талант. Но ты бы добилась не меньшего.
Полина поняла, что не может найти слов. Долгушин рядом делал вид, что не слушает, но Орешина чувствовала, что это не так.
– Впрочем, я вижу, что ты становишься хорошим журналистом. Так что… кто знает, может быть, по эту сторону от сцены твое настоящее место. – Добавил Альберт Александрович. Он распахнул объятья, и Полина с улыбкой обняла его. Она чувствовала, что такое, вероятно, бывает ли раз в жизни или не бывает вовсе – чувство, что тебя обнимает твое детство. Штроц помог им с Расковым в тот момент. Он вытащил их из Затерянной Бухты и вытаскивал всегда, помогал им держать голову над поверхностью воды.
– Завтра я уезжаю, – сказал Штроц на прощанье. – Есть у меня парочка мыслей по поводу актеров Игоря Борисовича, но он… немного упорствует. Впрочем, у меня еще есть время его переубедить.
На его лице возникла немного наивная улыбка. Он уже был мыслями в своих делах и планах, и Полина оставляла его с легким сердцем.
Они еще долго шли по улицам с Петькой молча, но Долгушин первым прервал молчание.
– А ты не так проста, как кажешься, Полина Орешина, – сказал он.
– Что? – не поняла Полька.
– Я многого о тебе не знал. Например, о том, что ты была лучшей в вашей театральной студии.
– Одной из лучших, – поправила его Полина. – Я сама об этом не знала.
– Или о том, что с тобой в этой студии учился Родион Расков. И почему ты не сказала нам?
– Когда? Когда поступала в университет? – язвительно протянула Полли.
– Нет, когда, например, я ходил к нему на интервью. Или когда ты потом в столовке читала мой текст при мне. «Эй, Петь, а ты знал, что я с ним в одну студию в детстве ходила?» – он изобразил девчоночий голос.
– Зачем? Ради сенсации? Сенсации в нашей столовке?
– Нет, Орешина, без всякой задней мысли, – сказал Долгушин. – Это что, так странно – делиться с однокурсниками такими вещами? Особенно, когда они сидят рядом, а ты читаешь материал твоего однокурсника. Неужели это не естественное желание, а? Ты думала, мы будем тебя об этом спрашивать? Будем узнавать подробности твоего детства? Там что, такие уж тайны?!
– Отстань, Петь! Я просто не придала этому значения. Мало ли кто кого знал в детстве!
– Ну да… – недоверчиво согласился Петя и замолчал, поглядывая на нее сбоку.
Полина закатила глаза.
– Мы с ним с детства не общались, зачем мне было об этом говорить?! И вообще, давай закроем тему. Мне надоело обсуждать Раскова, как будто больше и поговорить не о чем! – разозлилась Орешина.
– Может тебя просто беспокоит, что он уже чего-то добился, а ты могла бы тоже пойти в театральный, но не пошла, и теперь жалеешь об этом?! – легкомысленно заявил он, казалось, просто чтобы что-то сказать.
Полина остановилась, Долгушин тоже. Они посмотрели друг на друга. Орешина покачала головой, не находя слов.
– Дурак. – Наконец, сказала она, развернулась и пошла в другую сторону.
Она шла бездумно довольно долго – пока не вышла к парку. Воздух был влажный, а с моря дул прохладный ветер, но на улице было довольно тепло, и неожиданно солнце выглянуло из-за туч, обозревая город и его окрестности. Парк, как и всегда, был полон народу. Сейчас, в дневное время людей было поменьше, и можно было найти уютную скамейку и относительно пустую аллейку, но Полине не хотелось сидеть в одиночестве. Она бродила среди людей, вглядывалась в их лица, видела мамочек с колясками и бездумные мысли скользили в ее голове, одна за другой, пока совершенно ясно не показалась одна.
Эта мысль засела в голове простым вопросом: «А что если она выбрала не свою дорогу? Что если она идет не в том направлении, в котором нужно идти?»
И действительно, что если несколько лет назад она ошиблась, когда решила, что должна пойти учиться на журфак? Почему вообще она не пошла в театральный, ведь в студии она чувствовала свое родство со сценой, залом, кулисами, с запахами и звуками. Ей все это до ужаса нравилось, так как же она могла бросить это, отказаться от этого?
Она знала, как. Она знала, почему. Это было условие их закончившейся с Рудиком дружбы. Они договорились не видеться, а значит, она не могла больше ходить и в театр.
Полина никогда не думала об этом, как о жертве. Ей было жалко бросать театр, безусловно, но тогда казалось, что по-другому никак. Сердце ее было разбито, и уж точно не только из-за театра, одной потерей больше, одной меньше – разницы уже не было.
К тому же, несколько лет спустя, Полина все равно получила доступ к сцене. Она стала больше понимать театр, она взглянула на него с разных сторон. Только вот иногда, в непогоду, в те периоды, когда ничего не получалось, когда она ссорилась с сестрой, когда не могла найти выхода из ситуации, сидя в глубине зала с воспаленными глазами, она думала, что было бы, если бы она не бросила театр и пошла в театральный? Как повернулась бы ее судьба?
Полина откинулась на скамейке, опершись спиной о спинку, взглянула, запрокинув голову, в непривычно ясное небо, и закрыла глаза. Нет смысла о чем-то жалеть, и она не будет тоже. Все сложилось так, как сложилось. Во всех случаях она совершала свой осознанный выбор.
Полина взглянула на часы – нужно было появиться в университете на семинаре по социологии, иначе зачета ей было не видать. Время поджимало. Полина встала со скамейки и засунула замерзшие пальцы в карманы пальто. Нужно было идти. Пальцы левой руки наткнулись на ключи и какую-то мелочь, а вот в правом кармане обнаружилось нечто непривычное, хрустящее. Орешина решительно потянула это из кармана и увидела сложенный в несколько раз листок бумаги.
Внезапно сердце ее упало. Так происходило всегда и только в одном случае.
Когда она получала письма от Нины.
Не сказать, что любая бумажка могла быть принята за письмо, нет, только вот какое-то странное чувство внутри, не оставляло сомнений – это было письмо от Нины.
Полина перевернула лист. На нем стояло одно слово: «Полине».
…Она еле высидела этот семинар. Толку от ее присутствия там, впрочем, было мало. Дважды она ответила невпопад, дважды преподаватель удивленно приподнимал брови, выслушивая ее ответ. А на третий раз он только посмотрел в ее сторону и… ничего не сказал.
Не ощущая ног, Полина прибежала домой сразу после пары, открыв перед этим трясущимися руками дверь, бросила пальто на вешалку, сумку в кресло, а письмо бережно положила на письменный стол в комнате. Разделась она в катастрофически рекордные сроки. Скорее, скорее, вернуться к этому письму и подумать, что делать с ним.
Первой мыслью, мелькнувшей у нее еще там, на лестничном пролете, было бросить письмо в мусоропровод и больше не думать об этом – с нее хватило предыдущего письма о страхах, которое сильно выбило ее из колеи. Но потом… то ли ей захотелось выяснить до конца всю эту историю с письмами, то ли она просто посчитала, что если не прочитает, то будет жалеть об этом, но только не прошло и двух минут, как он разорвала самодельный конверт и прочитала письмо.
…Письмо подложили в карман ее плаща. Можно было не сомневаться, что сделано это было уже в театре – утром она выворачивала карманы в поисках жвачки и не заметить письма до этого просто не могла. Но вот только когда же точно это было сделано? Когда они ждали Штроца, и ее пальто валялось рядом с ней в кресле? Пальто было у нее на виду все время, с той стороны, с которой оно лежало, ряд был пуст. А может быть, это сделал тот, кто обнимал ее напоследок в фойе? Штроц? Да нет… Долгушин? Да зачем ему это нужно и откуда бы он взял его? Тогда как это письмо попало ей в карман?!
Это была загадка, над решением которой Полина должна была сломать всю голову – и в этом тоже была элегантная задумка ее сестрички.
– Хм, спасибо тебе, – небрежно отбрасывая ее письмо, заметила Полина и пошла ужинать.
– Спасибо?! Ты потрясающе играешь, – кажется, Нина фыркнула. Полина лишь взглянула недовольно.
– А я не играю, – скривилась она. Нина ее раздражала – стоит себе спокойно у подоконника кухни, пилит ногти и мешает есть. Одним своим видом просто мешает.
– Знаешь, что меня просто раздражает… – не выдерживает Полина и бросает ложку на стол. – Меня раздражает, что ты считаешь, будто можешь управлять моей жизнью! Вот так просто… написав несколько писем, ты якобы можешь изменить меня и сделать такой, какой тебе хочется, чтобы я была! Тебе всю жизнь этого хотелось!..
Она нарезала круги по квартире, не замечая, что сестра всюду следует за ней, из кухни – в зал, из зала – в комнату, из комнаты – в коридор и опять в кухню. Везде, где бы она ни оказалась, сестра опережала ее, как делала это всю жизнь, и спокойно высиживала с ничего не значащим выражением на лице.
– Ну что ж, я тоже могу рассказать много о том, что меня раздражает…
– О, я не сомневаюсь, – откликается Полина.
– Да. Могу. И если бы я действительно не имела над тобой никакой власти, ты бы ни разговаривала сейчас сама с собой, думая, что отвечаю тебе я. – Спокойно отозвалась Нина, даже не повернув головы.
Полина моргнула. Отвернулась к окну. Она не сошла с ума, Нины не было за ее спиной, она знала это также точно, как и то, что единственная, разозлившая ее вещь лежала в ее комнате на столе. И Полина не знала, как избавиться от наваждений и перестать испуганно вздрагивать от простого белого листа, на которым тонким темным стержнем было выведено: «Полине».
Орешина не выдержала и, в конце концов, шагнула к столу, схватив сложенный лист, и еще раз развернула его.
«Полли, я знаю, ты там наверно бесишься, проклинаешь меня всеми возможными словами, ненавидишь, и фыркаешь сейчас, читая мое письмо. Я знаю, ты в смятении, даже если будешь уверять в обратном. Я знаю, ты наверняка уже не раз подумала, что я над тобой издеваюсь, особенно прочитав последнее письмо. Так и слышу, как ты орешь: «Кем ты себя возомнила? С чего ты взяла, что можешь за меня решать, как мне жить?!» Знаю-знаю, Полли, не отпирайся, передо мной можешь не придуриваться. Я знаю это также точно, как и то, что ты не можешь понять, зачем же я все это делаю. Зачем я мучаю тебя этими письмами? У меня есть ответ, и я не хочу больше держать это в себе.
Мне кажется, я виновата перед тобой, Полли. Я виновата уже много лет, с тех пор, как родители впервые оставили тебя на мое попечение. Отец тогда отправился в командировку, а мама получила возможность выступить на концерте, и оставила меня на пол-дня и весь вечер с тобой. В тот день она сказала: «Нина, это очень важно. Послушай меня очень внимательно. Я оставляю тебя с сестрой, и ты должна смотреть за ней. Следить за ней лучше, чем за собой. Ты и только ты в ответе за нее, пока нас нет». В тот день я впервые подумала, что ты для родителей важнее, чем я. Неважно, что может случиться со мной, главное – защитить тебя. Конечно, потом я осознала, что мама имела в виду другое, но в тот день она поселила во мне ощущение, что я должна защищать тебя во что бы то ни стало. Когда родители уехали надолго, а мне пришлось вернуться незадолго до выпуска, я знала, что в этом мой долг перед тобой. И вовсе не потому, что мне хочется бросить академию и корчить из себя няньку. Я осознавала, что если бы родители не поселили во мне это чувство ответственности в детстве, я бы не мучилась так сейчас. И в 16 лет я злилась на тебя из-за этого. Злилась и считала себя невероятно благородной, только потому, что вернулась и пожертвовала своим образованием. Но я была неправа. Родители научили меня, что значит быть взрослой – нести ответственность за кого-то или за что-то. А я вместо благодарности злилась на тебя. Но все же моя злость вскоре прошла, когда я осмотрелась по сторонам, когда я поняла, что с балетом не все покончено, когда я узнала тебя поближе. Я осознала, как много в моей жизни прекрасного. Я была ослеплена своей взрослостью и тем, что ты зависишь от меня, но на самом деле это я зависела от тебя. Без тебя я бы не смогла стать взрослой.
Я виновата не только в своей необоснованной злости, но и в том, что чрезмерно опекала тебя, не давая жить своей жизнью, не давая делать свой выбор. Так вот, Полина, ты уже давно взрослая, не трать свое время на мои поиски, займись тем, что тебя на самом деле интересует. Займись своей жизнью, а не моей. Но для начала нужно полюбить ее. И вот мое предложение тебе, Полька. Хочешь, делай это, а хочешь, нет, я в любом случае не узнаю. Запиши все положительные моменты своей жизни. Не задумываясь, напиши о том, что тебя устраивает. А потом задумайся и допиши еще. Это поможет – конечно, не полюбить мир вокруг себя, но хотя бы понять, что можно исправить, чтобы полюбить.
А я… написав такое длинное письмо, я устала и не уверена, что смогу написать еще хотя бы одно. Поэтому просто сверни это письмо и поступи по-своему. Начни принимать самостоятельные решения, не думай ни обо мне, ни о ком-то еще.
Твоя Нина».
Несколько минут, а может быть, несколько часов, Полина сидела в кресле у стола, бездумно глядя в окно. Письмо оказало на нее странное воздействие. И кажется, она разобралась, что за чувство продолжало мучить ее саму изо дня в день, с момента исчезновения сестры.
Чувство вины.
В комнате уже давно стало темно, и, совершенно механически, Полли дотянулась до лампы и включила ее. В комнате стало уютно и спокойно. Полина шагнула к зеркалу.
Вы когда-нибудь ощущали себя призраком? Чувствовали себя бесплотным существом, настолько прозрачным, что увидеть его практически невозможно? А вы когда-нибудь ощущали свое лицо чужой маской, неузнаваемым отражением в зеркале?
В последнее время Полина только такое лицо и видела в зеркале.
Не свое.
* * *
В город пришли теплые дни. Весна, наконец, вступила в свои права, поняв, что пришло ее время, и Маша Сурмина была искренне этому рада. Ее настроение с приходом солнечного мая тоже развеялось, и непонятно, то ли погода в этом играла существенную роль, то ли гладкость и легкость, возникшая в ее отношениях с Олегом.
«Что-то изменилось, – думала она, глядя на него в залитом солнцем конференц-зале, – что-то определенно стало другим».
– Да нет, ничего не изменилось, – смеялся по телефону Олег, разговаривавший со своим другом Реснянским. – А что могло измениться?
Секретарша, невольно присутствовавшая при разговоре – дверь в кабинет начальника была открыта – лишь покачала головой, услышав это. Она понесла корреспонденцию по кабинетам и по дороге ей попалась Лена.
– Ты не знаешь, что творится с нашим шефом? У него то истерики, то непозволительно хорошее настроение… – мрачно поинтересовалась она у подруги.
– Что-что… – Процедила Лена. – Сама знаешь, что с ним творится.
Маша, проходившая мимо, не смогла удержать улыбку, и две подружки не преминули этот факт прокомментировать.
– Сияет так, что тошно становится, – с отвращением высказалась Лена. С Лидой она не притворялась.
– А с другой стороны, – Лида посмотрела девушке вслед, – может быть, не стоит к ним лезть? У них вон все хорошо – может, мы просто завистливые дуры и ничего не понимаем?
Лена скептически взглянула на подругу, прищурилась.
– Да уж чтобы мы с тобой ничего не понимали?.. – тихо сказала она. – Или ты в первый раз слышишь, чтобы кто-то делал себе карьеру через постель?
Лида недоверчиво покачала головой.
– Так думаешь, она просто себе карьеру делает?
Лена фыркнула.
– Ну, ты и святая простота!
– Да ну ладно тебе! Красовский же у нас не наивный мальчик, чтобы таких вещей не видеть!..
– А кто тебе сказал, что он этого не понимает? Все он прекрасно понимает!
– Тогда зачем он с ней?
– Просто у него в этом какой-то свой расчет.
– Что ему взять от студенточки Маши Сурминой?
– Видимо то, что нам с тобой ему уже не дать.
Лида приподняла брови и Лена закончила:
– Молодость. Неопытность. Она им восхищается, и он за это терпит ее далеко идущие планы.
Лида с сомнением помолчала, но потом все же пожала плечами.
– Ну что там между ними на самом деле мы вряд ли узнаем, но даже ты не можешь не признать, что этот союз имеет свои плюсы.
– Ой, да какие?
– Она вернула Игоря. Твоего обожаемого подопечного.
Лена скривилась, но промолчала. Здесь ей нечего было возразить.
Девушки могли строить сколько угодно предположений, могли втянуть в этот разговор всех сотрудников огромного бизнес-центра, в котором расположены еще десятки офисов, но они вряд ли получили бы то, что так упорно хотели получить. А им очень хотелось узнать, что там было на самом деле между Машей Сурминой и их боссом. И даже самые из смелых их предположений не могли приблизиться к реальности. Это и злило их, и бесило, и заставляло выдумывать новые подколки и остроты, но Маша и Красовский никого не пускали за черту своей жизни.
Конечно, Маша знала все эти офисные разговоры. Они преследовали ее ежедневно. Они входили вместе с ней каждый день на работу, и ей удавалось отвязаться от них только вечером, когда она выходила из здания в последний раз за день. Это было наказание, преследующее ее. Со временем она научилась практически не обращать внимания на сплетни и пересуды, на то, что ее жизнь контролируют шаг за шагом, но в ее голове все это по-прежнему продолжало ее волновать, что жутко в свою очередь бесило Красовского, которому все пересуды были до лампочки.
– Людям всегда нужно о кого-то обсуждать. Они без этого не могут, – говорил он как-то вечером у себя дома, когда Маша в очередной раз затронула эту тему. Она сидела на полу в гостиной и, держа на коленях большой блокнот на пружине, вырисовывала корабль с выгнутым ветром парусом.
– Не то, чтобы меня это сильно беспокоило. Скорее я не понимаю, почему они так долго обсуждают меня.
– Радуйся, ты в центре внимания. Иногда люди годами добиваются, чтобы их услышали. Тебе же сейчас остается только кричать то, что тебе хочется, а слушать тебя будут в любом случае.
– Смеешься? – Маша обернулась к Красовскому, лежащему на диване, и, поймав его взгляд, констатировала: – Смеешься.
Обернувшись окончательно, она начала его щекотать, зная, как он ненавидит щекотку. Красовский естественно тут же засмеялся, перехватывая ее руки.
Прошло уже две недели с тех пор, как они помирились, и как, придя на следующий день на работу, Олег все-таки позвонил Игорю, извинившись перед ним и попросив вернуться. С тех пор все как-то нормализовалось и утихло, будто наступил штиль.
Странное дело, как только Маша рассказала Олегу про отца, они оба словно открыли внутри себя невидимые краны. Теперь они говорили постоянно. Друг о друге, о людях, которые их окружали, о планах, о привычках, о вкусах и детских мечтах. Им оказалось действительно интересно друг с другом разговаривать.
Маша чувствовала: они преодолели какой-то рубеж в отношениях, переступили через какой-то этап, откинув его за ненадобностью. И, хотя вслух они никогда этого не говорили, они стали ближе друг к другу, и оба это чувствовали. Правда, единственный вопрос без ответа заключался в квартире Олега. Огромной сумрачной квартире с подписанными коробками сложенных вещей в полупустых комнатах. Две комнаты были полностью завалены этими коробками, а вот гостиную Маше удалось приспособить под место обитания. Ничто не указывало, что хозяин квартиры рад возвращаться домой вечерами.
Маша помнила, какое ощущение произвела на нее эта квартира в первый раз. Как будто человек, который здесь живет, уложил в коробки всю свою жизнь и не особо позаботился о том, чтобы что-то когда-то оттуда достать. Сам же Красовский воспринимал эту обстановку спокойно, как будто так все и должно было быть.
Однажды Маша спросила его:
– Почему твоя квартира выглядит так, как будто ты туда только въезжаешь?
– Она выглядит так, как будто я из нее выезжаю. И это так и есть.
– Ты собираешься переехать? Куда?
– В свой новый дом, – удивленно посмотрел на нее Красовский. – Но он еще в сыром состоянии.
– Тогда зачем же ты уже сейчас собрал вещи? – задала она очевидный вопрос. Красовский взглянул на нее и пожал плечами. Он так и не ответил на этот вопрос, словно оставлял за собой право сохранить это втайне или словно сам не знал ответа. Но эти коробки, угрожающе застрявшие в комнатах, словно вытягивали из квартиры жизнь, меняли саму атмосферу.
Как-то она заглянула в одну из них – не заклеенную скотчем. И с удивлением обнаружила рисунки. Наброски, карандашные портреты, один из которых поразил ее – девушка, развернувшаяся вполоборота. Как будто она увидела, что ее рисуют или обернулась на громкий звук. Ее глаза были большими и задумчивыми. Она будто несла в себе какое-то знание, которое томило ее, и не с кем было им поделиться. Ее волосы были заплетены в косу, пряди выскочили и обрамляли лицо. Ее лицо притягивало, с ней хотелось поговорить, спросить, что она хранит в себе?
Эта девушка показалась Маше знакомой, как будто она уже знала ее или знала в прошлой жизни. На обороте стояла дата. Портрет был нарисован давно – десять лет назад.
Маша быстро пролистала другие работы. Портрет девушки был самым ранним, все остальные картины были датированы более поздней датой. Маша и подумать не могла, что Олег рисует, просто не могла представить. Он, который так часто говорил ей, что ее фантастические дома увлекают, но сильно отвлекают от четкости и строгости архитектуры. Что она сама себя расхолаживает, и что умение четко и точно рассчитывать, иной раз намного более важно, чем творческие порывы и вдохновение.
В тот день Маша быстро положила рисунки обратно в коробку и так и не спросила Красовского о них. Она будто бы боялась. Боялась? Боялась узнать правду? Боялась узнать его?
…В итоге Маша вырвалась из плена его рук, мешающих ей щекотать его, и, отложив блокнот в сторону, уселась на Красовского сверху. Сейчас он был простым, милым и домашним, и совсем не походил на успешного высокомерного архитектора. Она поймала его смеющийся взгляд и вдруг резко замолчала. Между ними пролегла ниточка понимания. Вот в такие моменты Маша всегда и чувствовала, что их двое, что они оба по одну сторону.
– Маш, – сказал он тихо.
– Олег, – подражая ему, тихо сказала она.
Он улыбнулся, но вновь посерьезнел.
– Маш, я хотел тебя спросить. Давно.
– Да?
Он помолчал. Потом быстро сказал:
– Как там твоя мама? Как она приняла?..
Он не договорил, но Маша поняла, что он хотел сказать, как и то, что первоначально хотел задать другой вопрос.
Машина мама устроила дочери целый допрос относительно ее отношений с начальником. Красовского она видела, он ей понравился еще когда она не знала, что они встречаются. Потом в больнице она поняла, что их отношения все же выходят за рамки «начальник-подчиненная», и ее мнение раздвоилось. Она добивала Машу только одним вопросом: «Что будет, когда ты захочешь уйти на другую работу или когда он поймет, что ты работаешь хуже, чем он к тебе относится?»
– Ничего, совершенно ничего, – убежденно говорила Маша, а мама ее качала головой.
– Что будет, когда к вам на работу придет новая сотрудница, которая его увлечет? Что будет, когда ваши отношения изживут себя? Что будет, когда он поймет, что ты хочешь выйти за него замуж, а для него это лишь очередной роман? Как ты будешь бороться с этим?
– Мам, ну что же мне, теперь не жить совсем? Если я буду сидеть дома и никуда не выходить, и на работе ни с кем не буду общаться, тогда конечно, со мной ничего плохого не случится. Но и хорошего тоже.
– Я просто не хочу, чтобы этот роман стал твоей самой тяжелой ошибкой молодости.
– А я не хочу пропустить молодость совсем, – парировала Маша.
В итоге мать махнула на нее рукой, поняв, что бесполезно взывать с такими вопросами к человеку, у которого на все есть свой ответ. Но Маша знала – она недовольна. Она не рада этим отношениям, они заставляют ее нервничать. И каждый раз, когда она знала, у кого Маша задерживается, у кого она может ночевать в те дни, когда она сама дома, а не на работе, ее голос был чуть более нервным, ее молчание было более угрожающим, чем самый громкий крик. Маша старалась об этом не думать – все-таки, это был еще не самый худший вариант развития событий.
Но когда ее спросил об этом Олег, Маша не стала рассказывать все свои соображения и все детали их разговора. Она только пожала плечами.
– Все будет нормально.
– Я знаю, – Сурмина и не заметила, как Красовский перехватил ее ладонь и сжал пальцами.
– Маш… я хотел тебя спросить о другом.
– Я знаю.
– Я хотел спросить… не хочешь ли ты пожить со мной в моем новом доме?
От неожиданности у Маши перехватило дыхание.
– Что?
– Не хочешь ли ты?..
– Я слышала.
– Просто я подумал… все эти твои половинчатые ночевки у меня, эти утренние возвращения домой, детская конспирация… это уже вроде как ни к чему, когда твоя мама… знает.
– Но как же… а вдруг она закатит мне истерику? – быстро произнесла Сурмина и только потом поняла, какую ляпнула глупость.
– А ты сама хочешь переехать?
– Да, – быстро сказала она, не успев подумать. – Да.
И только произнеся это, она поняла, как боялась того, что Олег переедет в новый дом, в новую жизнь и оставит ее за бортом.
– На выходных устроим переезд, – буднично произнес Красовский, как будто речь шла о внутренней отделке помещения. И вдруг он улыбнулся и подтянул ее к себе. – Я рад.
* * *
Озеро всегда показывало нас теми, кто мы есть на самом деле…
Полина смотрела на свое отражение в ровной озерной глади. В последнее время она стала это делать что-то уж слишком часто. Но… вряд ли что изменилось с тех самых пор, когда она действительно любила отражаться.
– Полин… – раздался позади знакомый голос. Полли обернулась.
Родион шел к ней от своего подъезда. Как бы ни бежало время, в какую бы сторону оно не завернуло, одно оставалось неизменным – ее силуэт на фоне озера. Этот образ преследовал Рудика на протяжении нескольких лет. К этому озеру после их разрыва он так больше и не подошел.
Не подошел и сейчас. Прошел половину пути и вдруг поманил ее рукой. Полина, знавшая, что так и будет, даже не сделала попыток удивиться. Вчера он тоже не дошел до нее, и сегодня все повторилось снова. Полина не спросила его, с чем это связано.
Сегодня они снова встречались на том же месте. Весь предыдущий день они провели в библиотеках, пытаясь найти книги их города, в которых упоминались бы разные легенды. Там они пытались найти и историю о шкатулке.
– Мой отец сказал мне сегодня про нашу Центральную библиотеку, – начал Расков, едва поздоровавшись с ней. – Говорит, что там собрана самая большая коллекция книг и можно было бы попытаться спросить там. Если не знают работники той библиотеки, то мы нигде больше подобную книгу не найдем.








