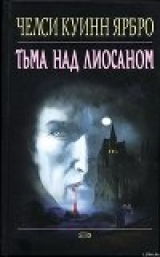
Текст книги "Тьма над Лиосаном"
Автор книги: Челси Куинн Ярбро
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
На ступенях второго уровня ее встретил Ингвальт.
– Хозяин еще не встал, – проворчал неприязненно он.
– Пусть спит, он может делать что хочет, – ответила Ранегунда. – Я иду не к нему, а наверх.
Ингвальт нахмурился.
– Вы там уже были. Я слышал, как работал станок.
– Думай, что говоришь, – грубо отозвалась Ранегунда. – Я не работница. Или тебе это не известно? Если в швейной кто-то и был, то уж определенно не я.
– Вы герефа, – произнес он с нотками непонятного осуждения. – Кто еще может таскаться тут по ночам?
Будь на месте Ингвальта кто-то другой, он тут же вылетел бы за крепостные ворота. Но слуга сына Пранца получил лишь короткую отповедь:
– Прикуси свой язык. Ты пожалеешь, если примешься распускать обо мне небылицы. Надеюсь, ты понял меня?
– Да, герефа, – сказал Ингвальт, склоняя нехотя голову. И добавил: – Я не глупец.
Ранегунда, кипя от гнева, поднялась в швейную и, чтобы успокоиться, прислонилась к стене. Но ярость в ней не ослабевала а нарастала, и дерзость Ингвальта была повинна в том лишь частично. Борясь с собой, она заскрипела зубами, топнула ногой и, чтобы не потерять равновесия, ухватилась за ткацкий станок.
– Ранегунда, – окликнул ее чей-то голос.
Она обернулась.
– Сент-Герман? Я не слышала, как вы вошли.
– Вас занимало другое, – сказал Сент-Герман и прибавил: – Смею думать, что Пентакоста. Она провела здесь всю ночь.
– Геновефа сказала мне то же. – Ранегунда поразилась тому, как напряженно звучит ее голос.
Сент-Герман прошел дальше и указал на светильники:
– Они все горят. Она что-то напевала, но что – я не разобрал.
– Пустая трата масла, – сказала Ранегунда. – Это помещение предназначено только для женщин. Вам не подобает тут быть.
– Ухожу. – Он направился к двери.
Ее охватила обида.
– Вижу, вы рады поскорее избавиться от меня.
– Нет, – был ответ. – И вы это знаете. Просто сейчас вы встревожены и, чтобы я этого не заметил, гоните меня прочь.
– Нет, все не так, – возразила она, вновь ощущая прилив раздражения.
– Как бы там ни было, не беспокойтесь. Я не уйду далеко. – Он улыбнулся. – И вовсе не потому, что пошел снег.
– Ну-ну. – Ранегунда вздернула подбородок. – Как я могла об этом забыть? Сент-Герман благороден, он выше всех подозрений и в минуту опасности никогда не пугается, да?
– Нет, – сказал Сент-Герман. – Хотя я достаточно хладнокровен. Презрения достойно бездействие. А не страшится опасности только безумец.
– Но только трусы бегут от нее.
Он опять улыбнулся.
– Не всегда, дорогая, отнюдь не всегда.
– Вы бегали от опасности? И сами же в том признаетесь? – Изумление Ранегунды не имело границ.
– Чаще, чем я мог бы припомнить, – ответил он, все еще стоя в дверях. – Бывают моменты, когда высшая доблесть состоит в отступлении, ибо иначе не победить.
– Что же может заставить вас отступить? – спросила она, обрадовавшись возможности поговорить на отвлеченную тему.
– Неодолимая сила, беззащитное состояние, серьезные повреждения, утрата оружия, открытый огонь, – перечислил Сент-Герман без запинки. – И еще многое, что не вошло в этот реестр.
– Не могу в это поверить, – сказала она.
Он склонил голову.
– Благодарю за столь высокое мнение о моей скромной персоне.
Ранегунда с вызовом подбоченилась.
– Но я не хочу отступать, – заявила она.
– А вам и некуда, – сказал ласково Сент-Герман, хорошо понимая, что в ней творится. – Это застава, рубеж. Место, где подводятся все итоги и оплачиваются все счета. Тут можно либо выстоять, либо потерпеть полный крах, и второе всегда ходит рядом.
– Не говорите так. – Она прикоснулась к его рукаву. – Но… у нас теперь стало и вправду опасно.
Он помолчал.
– Чего вы боитесь? Предательства со стороны Пентакосты?
– Не знаю. – Ранегунда потупилась. – Может быть. Видите ткань? – Она указала на ткацкий станок, возле которого находилась. – Ее фактура вряд ли вам что-нибудь скажет. Но я и отсюда вижу, что она заклята. Против кого творилось заклятие? Против меня? Против крепости? Против брата? – Она задохнулась, но взяла себя в руки. – Я должна выяснить это. Именно потому и пришла сюда.
– А получится у вас что-нибудь? – тихо спросил Сент-Герман, зная, что для нее это вовсе не пустяки.
– Возможно. Я могу распознавать скрытые символы. У нас это многие могут, даже монахи. – Она перекрестилась, словно в подтверждение правдивости своих слов. – Мы в большинстве перешли под длань Христову. Однако по-прежнему помним обычаи прежнего времени и порой позволяем себе кое-что.
– Например, украшаете ветками заново перекрытые крыши? – спросил Сент-Герман.
– Да, они охраняют жилище, – сказала Ранегунда. – С той же целью рисуют змей на потолочных балках. И ворожат над пуповиной младенца, чтобы тот не столкнулся с похитителями дыхания.
– До того как его окрестят монахи? – уточнил Сент-Герман.
– Именно так. – Ранегунда склонилась к станку и тут же отпрянула. – Вороний бог, – прошептала она.
– Что там? – спросил Сент-Герман.
– Что? – Ранегунда пощупала ткань, попятилась, осеняя себя крестным знамением, и с отвращением заявила: – Это не ворожба. В этой материи заключено очень сильное колдовство.
– Что вы имеете в виду?
– Ее узор. Он притягивает к себе столь могучие силы, что платье, пошитое из этой ткани, может превратить надевшего его человека в раба той, что соткала ее. – Она поднесла руку к горлу. – Его дух будет следовать за Пентакостой и после смерти.
– Так ли? – позволил себе усомниться в услышанном Сент-Герман. – Ведь существует много людей, не поддающихся ворожбе и внушению.
Ранегунда словно не слышала его слов.
– Я ведь считала, – потерянно шептала она, – что невестка моя мало чем отличается от остальных здешних женщин. Думала, ей известны те же заговоры, что и другим. Но теперь вижу, что она или колдунья, или училась у тех, кто знаком с волшбой.
– Вы уверены? – опасаясь, что причитания затянутся, перебил ее Сент-Герман.
– Да, – кивнула она и поспешно добавила: – Я сама никогда не занималась чем-либо таким. И не собираюсь. Но я… вижу это.
Сент-Герман взял ее за руку.
– В таком случае объясните мне почему. Откуда в вас это знание?
Она резко дернулась.
– Что?
– Если вы знаете, как и для чего соткана эта ткань, значит, вы с этим когда-нибудь да встречались. Вот я и интересуюсь: когда? – Он говорил спокойно и дружелюбно, но Ранегунда покраснела и отдернула руку.
– То, о чем вы спрашиваете, – мой грех. И прощен ли он мне, я не знаю. Мне будет тяжело рассказывать о том, что прошло.
– Зато потом будет легче, – сказал Сент-Герман. – Не изводите себя, Ранегунда. Успокойтесь и расскажите мне все.
К его великому удивлению, Ранегунда повиновалась и, отступив от него на два шага, начала свой рассказ.
– Это было давно, еще до «черного мора». – Она указала на свои щеки. – Тогда в нашей крепости жили два брата. Два близнеца, похожие один на другого как две капли воды. Они умели читать и писать и столь преуспели в учености, что прослыли среди людей чародеями.
– Только потому, что умели читать и писать? – уточнил Сент-Герман.
– Не совсем. Но они освоили много всяческих хитрых наук, и отец стал с их помощью укреплять Лиосан. Они охотно работали, но выговорили условие, что им разрешат расширять свои знания. Речь шла о магии, но отец их проверить не мог, а потом, когда все понял, не мог и остановить. – Ранегунда в волнении стиснула руки и повторила: – Это было давно. Я была маленькой и часто пряталась у них в комнатах, наблюдая за ними. И многое видела там. – Она побледнела и вскинула голову. – Вот почему я сразу определила, что вы не колдун, даже когда вы построили свою печку. Я видела, как творится волшба. Ваши занятия не имеют к ней ни малейшего отношения. – Глаза ее сделались жалкими, на лице отразилось страдание. – Я не должна была к ним ходить. Узнав, как далеко завело меня любопытство, отец велел дать клятву никогда и никому не говорить о том, что я там видела, оберегая любимицу-дочь от монашеского суда и расправы. – Она быстро перекрестилась. – Но такая дерзость мне все-таки с рук не сошла, и Христос Непорочный отметил меня, а потом и епископ.
– А что сталось с близнецами? – тихо спросил Сент-Герман.
– Маргерефа Карвик приехал за ними, а потом их в Бремене забросали камнями. А нас посетила черная оспа. Мой отец знал, что это я навлекла ее на Лиосан. И знал также, что я выжила лишь для того, чтобы напоминать ему о моем прегрешении. – Голос ее звучал уже ровно, но лихорадочный блеск серых глаз все еще говорил о сильном душевном волнении. – Я оставалась верна своей клятве до этого дня, а теперь преступила ее. Я вам доверила то, о чем не осмеливалась сказать ни брату Эрхбогу, ни Гизельберту, и тем самым оскорбила память отца, а себя обрекла на новые муки.
– Нет, Ранегунда, – возразил Сент-Герман. – Ничего страшного не случилось. Я никому ничего не скажу, и ваша тайна останется тайной. – Он посмотрел на нее. – А ваш брат? С него тоже взяли такую же клятву?
– Нет. Он был мал и не знал о моем причастии к чародейству. А когда вырос, проклял этих двух колдунов и запретил упоминать их имена. Но это было уже после смерти отца. – Ранегунда испуганно оглянулась, словно страшась, что камни стен примутся ее порицать. – Никто не должен знать о том, что я вам здесь сказала. Помните это. Никто. Никогда.
– От меня никто ничего не узнает, – размеренно повторил Сент-Герман.
– Поклянитесь, – потребовала она, дрожа всем телом, и снова перекрестилась. – Клянитесь же, Сент-Герман.
– Конечно, – сказал он спокойно. – Если так нужно – клянусь. Своей жизнью и всем, что мне дорого.
– Прекрасно. – Она вдруг порывисто схватила его за руку. – Вы ведь не станете меня презирать?
– Презирать? – Он посмотрел на нее с удивлением. – И за что же?
– Я соприкасалась с отвратительными вещами, – прошептала она. – И видела демонов.
Он с трудом удержался от смеха.
– Меня самого принимали за демона. Правда, очень давно.
Она сердито поджала губы.
– Зачем вы шутите так?
– Я… – Сен-Герман замолчал и тенью скользнул к распахнутой двери. – Я слышал какой-то голос, герефа. Похоже, женский, но точно не поручусь.
Ранегунда, опешив, сморгнула, затем поняла.
– Ладно, я разберусь, кто тут был, – сказала она с деланным раздражением.
Сент-Герман послал ей одобрительный взгляд и повернулся, отвешивая поклон спускавшемуся с пятого этажа капитану.
– Доброе утро, капитан Амальрик. Надеюсь, дежурство было спокойным?
– Все ничего, если бы не зверский холод, – проворчал капитан, останавливаясь. – Вечером я прихвачу с собой два плаща. И надену жилет на меху. – Он кивком указал на дверь: – Что-то случилось?
– Похоже, ночью там кто-то работал, – сказал Сент-Герман. – Герефа пытается выяснить кто.
– Хм. – Капитан Амальрик, пожал плечами, показывая, как мало его это заботит. – Ночью был шторм.
– Да, – кивнул Сент-Герман. – Но вы ведь не спали.
– Не спал, но припомнить ничего не могу, – отозвался офицер, стягивая перчатки.
– Возможно, вы слышали что-нибудь, капитан Амальрик? – спросила Ранегунда из швейной.
– Кажется, до меня пару раз донеслось чье-то пение.
– И вы не поинтересовались, кто тут полуночничает?
Капитан шумно вздохнул.
– Нет, герефа. Мне тогда пришлось бы отойти от огня, а это запрещено. Кроме того, я не могу представить, кто мог бы тут шляться. Лично я не стал бы этого делать даже за кружку сидра и ломоть зрелого сыра.
Ранегунда уловила намек.
– У поваров вы все это найдете. – Кивнув капитану, она посмотрела на Сент-Германа. – В принципе я довольна вашей работой, но мне нужно с вами кое-что обсудить. Зайдите ко мне в оружейную, когда я вернусь из деревни.
– Конечно, герефа, – сказал Сент-Герман и, приложив руку ко лбу, пошел вниз по лестнице, следом за капитаном.
Ранегунда, оставшись одна, еще раз осмотрела станок и, чтобы унять нервную дрожь, крепко стиснула руки. Вот странность, девчонкой ей было все нипочем и она пробиралась в комнаты колдунов, испытывая восторженный трепет. А сейчас при виде каких-то там узелков ее всю трясет – и не от холода, а от какого-то непонятного страха. Что его вызывает? Дурные предчувствия? Но их уже сонм, и они роятся все гуще. Она вспомнила свой разговор с Сент-Германом и залилась краской стыда. Не стоило откровенничать с ним, но, как ни странно, это и вправду принесло ей некое облегчение. Ранегунда вздохнула и с особым тщанием осенила себя крестным знамением, надеясь, что Христос Непорочный прольет часть своей благосклонности не только на нее, но и на вверенную ее попечению крепость.
* * *
Завещание бывшего бременского торгового посредника Карала, составленное 21 декабря 938 года.
«Во имя Христа Непорочного я, верный подданный короля Оттона Карал, ранее бывший жителем ныне разоренного Бремена, решаюсь со смирением в сердце сделать последние распоряжения в отношении принадлежащих мне мирских ценностей и недвижимости в преддверии моего смертного часа. Мои пожелания записывает сестра Колестина из монастыря Святейшего Милосердия, где я оказался, после того как меня подобрали в окрестностях Люнебурга, захлопнувшего ворота перед такими, как я, что подвигает меня предварить свое завещание описанием последних дней моей жизни.
Отвергнутые, мы двинулись дальше на север в поисках хоть какого-нибудь приюта, но менее чем через день пути я свалился от боли во внутренностях и меня принесли в этот монастырь, где добросердые и приветливые монахини с радением и приязнью ходили за мной. Однако боли усиливаются, давая понять, что моя кончина близка, и я принимаю это как благо.
Хотя мой родной город разграблен, до меня дошли сведения, что принадлежащий мне дом, находящийся в квартале Каменотесов, уцелел. Я оставляю его своему племяннику, носящему мое имя, если он жив. Если же в десятилетний срок он не сыщется, сей особняк пусть перейдет к близлежащей церкви Мучеников Агаунума для основания странноприимного заведения, привечающего мне подобных – обездоленных и гонимых людей. Этой же церкви я оставляю три золотых франкских ковчежца со всем их содержимым – в надежде, что тамошние служители Божьи призреют мой дом, до тех пор пока не отыщется упомянутый племянник или пока они сами не вступят во владение.
Что касается моей жены и детей, то они мертвы, и мой род на том прекращается, о чем я, утратив богатство свое, скорблю много менее, чем мог бы скорбеть в лучшие для меня времена. Но все же мне хочется оберечь семейство мое от всепоглощающего забвения, в связи с чем я прошу отметить мою могилу надгробием, на котором вместе с моим именем упоминались бы имена всех членов моей семьи. Перечень имен оставлен сестре-настоятельнице, дабы она впоследствии передала его каменотесу. Пусть тот также высечет на могильной плите изображение змеи, дважды оплетающей крест, а на самой могиле пусть посадят тысячелистник.
Прошу известить о моей смерти моего дядю в Госларе и передать ему копию этого завещания, чтобы хоть один мой родственник знал, что сталось со мной и с моей семьей.
Тех родственников, которые могут пожертвовать какие-то средства, прошу передать их в призревший меня в последние дни мои монастырь.
Силы мои на исходе, голос слабеет, и поддерживает меня только вера, что Христос Непорочный даст душе моей место на Небесах. Я оставляю земную юдоль в темное время года, но воспринимаю это не как дьявольский знак, а как знамение, что все мрачное в моей жизни закончится, а навстречу мне воссияет свет славы Господней.
Карал, некогда житель Бремена.Исполнено рукой сестры Колестины в монастыре Святейшего Милосердия».
ГЛАВА 6
Беренгар недовольно поморщился.
– Что ж, если хотите, покажите свое мастерство.
Сент-Герман поднялся со скамьи и в соответствии с правилами местной учтивости поднес руку ко лбу.
– С вашей стороны это очень любезно, правда, я не играл уже более года.
– За год пальцы многое забывают, – ухмыльнулся в ответ Беренгар.
– Посмотрим, – уронил Сент-Герман и взял цитру в руки.
Общий зал пропах сырой шерстью и потом. Здесь собралась большая часть обитателей крепости Лиосан. Разомлевший после ужина люд отдыхал, наслаждаясь теплом и приятным ощущением сытости.
Пентакоста, сидевшая около Беренгара ослепительно улыбнулась и облизнула губы кончиком языка.
– Сыграйте нам что-нибудь такое, чего мы не слыхивали, иноземец.
– Если получится, – сказал Сент-Герман и глянул на Ранегунду: – А что хотелось бы услышать вам, герефа?
– Я полагаюсь на ваш вкус, – ответила она, затем прибавила: – Что-нибудь новое. Репертуар Беренгара мы знаем.
Сент-Герман присел к столу, подкрутил колки и взял несколько пробных аккордов.
– Струны надо бы заменить, – заметил он, повернув голову к Беренгару. – Эти уже износились.
– Надо бы. Да где их возьмешь? – отозвался тот тоном, каким обращаются к слабоумным.
– Я могу их изготовить для вас, – невозмутимо сказал Сент-Герман. – В благодарность за разрешение воспользоваться вашей цитрой.
– Если сумеете, что ж.
Беренгар покосился на Пентакосту. Та не ответила на его взгляд, пожирая глазами элегантного, затянутого во все черное музыканта.
– Вот и прекрасно, – отозвался рассеянно Сент-Герман, размышляя, какую мелодию выбрать. Лидийский строй цитры несколько ограничивал его в выборе. Впрочем, песня, какую напел ему восемь столетий назад Гай Плиний Младший, вполне этому строю отвечала. Он вскинул инструмент и запел, сам наслаждаясь дивной и замечательно выверенной ритмикой латинских стихов.
В ночи есть особая сила,
которая дню не дана.
Сребрится в сиянье эфира
объятая негой луна.
Пускай наша жизнь быстротечна,
нам может с тобою помочь
продлить ее танец беспечный
бездонная дивная ночь.
Беренгар неприметно для всех кусал в ярости губы. Он сидел, сложив на груди руки и придирчиво склонив голову, показывая тем самым, каким тяжким испытанием для его нежного слуха являются вокальные упражнения чужака. Но делать это было весьма нелегко, ибо его поневоле завораживали и звучный голос певца, и уверенное искусное обращение с цитрой, и чарующая мелодия исполняемой им песни. К тому же сын Пранца был образован и знал латынь. Возможно, не в совершенстве, но все же достаточно, чтобы понять, о чем поет Сент-Герман.
Лишь ночь нам несет утешенье,
дневные заботы гоня,
даруя нам радость сближенья,
мерцанием звездным маня.
День блеском своим ослепляет,
день нас норовит обокрасть.
Но к ночи опять оживает
в сердцах наших нежная страсть.
О чем поет иноземец, понял наконец и брат Эрхбог.
– Что за кощунство! – возопил он, брызжа слюной и тыча в исполнителя пальцем. – Этому человеку не подобает тут находиться! Он нечестивец! Он воспевает праздность, похоть, бесстыдство! Ни один добрый христианин не должен внимать ему, дабы не осквернить свою душу! Он прославляет грех!
– Что прославляет? – спросила Винольда, которая, как и большинство обитателей крепости Лиосан, абсолютно не знала латыни.
– Да, – вызывающе улыбаясь, поддержала ее Пентакоста. – Растолкуйте-ка нам, о чем он поет.
– О грешном, о сугубо мирском, – отозвался брат Эрхбог. – Большего я не могу вам сказать. Все, о чем он поет, непристойно.
По залу пронесся невнятный шепот, но никто не осмелился оспорить монаха. Никто, кроме самого певца.
– Эту песню сочинил один мой друг, человек очень известный и очень достойный, – хладнокровно сказал Сент-Герман.
– Да? – удивился монах. – Все равно он бесстыдник!
– Позвольте ему закончить свое выступление, достойный брат, – спокойно произнесла Ранегунда. – Ведь слова в песне латинские, и никто, кроме вас, их тут не понимает. К тому же он иноземец, не удивительно, что его песни не походят на наши. Пусть допоет.
– Конечно! – воскликнула Пентакоста, похоже, впервые за время своего пребывания в крепости согласившись с золовкой. – Ничего страшного не случится. Пускай допоет.
Спорить с первыми дамами крепости брату Эрхбогу не хотелось, да и резоны их были достаточно основательными, но он все же счел нужным сказать:
– В песне этой воспевается ночь, а ночь – время демонов и мертвецов. – Он истово перекрестился. – Но, как тут было сказано, этот человек и впрямь иноземец. – Сухой палец монаха описал в воздухе замысловатую линию, а глаза опять отыскали певца. – Пусть допоет, но сочинителя песни следует привести к вере Христовой, дабы он чистосердечно покаялся и ничего подобного более не писал.
– Уже не напишет, – заверил Сент-Герман. – Как это ни прискорбно, он умер, и, признаться, довольно давно.
Услышанное несколько смягчило монаха.
– Не сомневаюсь, что он уже послужил растопкой для адских печей, ибо за подобные песенки в рай его не допустят. Ночь опасна, порочна. Воспевающие ее прославляют греховность.
Сент-Герман кивнул с еле приметной долей иронии, потом перекрестился, правда в греческой, а не в римской манере, и обратился к Ранегунде:
– Герефа? Должен ли я продолжить?
Ранегунда решительным жестом выразила согласие.
– Да.
Ей может довериться каждый,
кого зной дневной обожжет.
Она утоляет все жажды
и тайны свои бережет.
Она всем возлюбленным рада
и гонит сомнения прочь.
Она мой оплот и услада,
бездонная дивная ночь.
Когда Сент-Герман умолк, еле слышно пощипывая струны цитры, в зале на какое-то время воцарилась полная тишина. И песня, и ее исполнение понравились многим, особенно женщинам, но присутствие брата Эрхбога не давало слушателями выразить свое одобрение чем-либо, кроме благоговейного восторженного молчания. Геновефа тихо плакала, а Хрозия, сидевшая рядом, раскраснелась, как цветок, название которого было включено в ее имя.
Правда, воины во главе с капитаном казались несколько озадаченными, и Сент-Герман, заметив это, сказал:
– Я знаю другую песню. Она вам понравится больше. Ее написал один император, прославляя мощь своих войск. Вот, послушайте…
Он склонился к цитре и парой-тройкой аккордов перевел нежную мелодию прежней песни в бравурный марш.
Рим над землею парит, как орел!
Юг покорил он и север обрел.
Чу! Слышен топот победных колонн!
Грозный стремится вперед легион!
Твердь сотрясается, ворог дрожит
и посрамленный в испуге бежит!
В песне было еще тринадцать строф, но Сент-Герман решил, что довольно будет и шести, чтобы довести публику до приятного, горячащего кровь возбуждения. Вскоре мужчины и впрямь начали вторить ему, отбивая ритм ногами и стуча кружками по столам – точь-в-точь как это делали много ранее римские легионеры. На этот раз, когда он умолк, зал разразился восхищенными криками. И только брат Эрхбог с явным неодобрением смотрел на певца.
– Не знаю, о чем эта песня, – сказал Герент, щеки его пылали от выпивки и восторга, – но она, определенно, волнует. Маршировать под такую музыку было бы подлинным удовольствием.
Именно этого и добивался Нерон, подумал Сент-Герман, с неожиданной болью припомнив и Золотой дворец, выстроенный в Риме по капризу своевольного императора, и самого Нерона, впервые исполнившего там этот марш, и Оливию, с которой в ту ночь они под лавровым деревцом осмелились предаться любовным утехам, несмотря на шумящее вокруг празднество и близость ее мужа. Он вдруг осознал, что к нему обращаются, и вскинул голову.
– Прошу прощения, я задумался. Повторите, что вы сказали?
Капитан Амальрик, насмешливо крутя ус, повторил:
– Я спрашиваю, нет ли возможности перевести для нас эту песню? Чтобы мы могли ее петь и понимать, что поем.
Нерон пришел бы в восторг, улыбнулся мысленно Сент-Герман, узнав, что его марш будут востребован и через девять столетий.
– Полагаю, это возможно, – помолчав, сказал он. – Если вы дадите мне несколько дней.
На деле ему и часа хватило бы, но это вызвало бы излишние разговоры.
– Разумеется, – пришел в восторг капитан Амальрик. – Судя по тому, с какой охотой ребята вам подпевали, они с этой песней пойдут и в бой. Если, конечно, слова им понравятся. – Капитан оглянулся. – И если их одобрит брат Эрхбог, – сказал он с кислой миной, но воодушевился опять и от избытка чувств хлопнул чужака по плечу: – Вы замечательный малый!
Сент-Герман склонил голову.
– Благодарю. Буду рад, если это мнение возобладает над остальными.
– Разумеется, – хохотнул капитан Амальрик. – У вас есть чему поучиться. Но что делать, тут недолюбливают пришельцев. Утешьтесь, не только вас, но и всех. – Он повел бровью в сторону Беренгара. – Саксонцам по нраву только саксонцы, и этого не изменить.
– Да, – кивнул Сент-Герман. – Мне это известно. – Он повернулся к хозяину цитры: – Еще раз благодарю.
Беренгар в полном молчании забрал у него инструмент.
– Ваша цитра отменно звучит. Я с удовольствием изготовлю для нее комплект новых струн. Думаю, через неделю-другую, – с искренним дружелюбием произнес Сент-Герман, игнорируя неучтивое поведение сына Пранца.
Тот опять промолчал, но Пентакоста молчать не стала.
– Я не подозревала, что вы умеете петь, – с многообещающим придыханием сообщила она. – У вас чарующий голос. Может быть, вы исполните еще что-нибудь?
Сент-Герман почтительно поклонился.
– Если пожелает герефа и если хозяин цитры не воспротивится, я непременно сделаю это, но… не сейчас.
Пентакоста нахмурилась, но овладела собой и вновь ослепительно улыбнулась.
– Я буду ждать.
Она встала и, дразняще покачивая бедрами, пошла к очагу, заслужив осуждающий взгляд брата Эрхбога. Тот стоял в самом удаленном от пламени углу помещения, выказывая тем самым свое презрение ко всему, что направлено на ублажение плоти.
– Смилуйся надо мной, Христос Непорочный, но иногда мне хочется ее удушить, – еле слышно пробормотала Ранегунда, когда Сент-Герман приблизился к ней.
– Возможно, она испытывает к вам те же чувства, – произнес Сент-Герман столь же тихо. – Берегитесь. Она не задумываясь сотрет вас в порошок, если будет уверена, что ее за то не накажут.
Ранегунда кивнула.
– Сент-Герман, – повысив голос, сказала она, окидывая взглядом собравшихся, – заверил меня, что как-нибудь еще раз порадует нас своим пением, но исполнит уже то, что одобрит брат Эрхбог.
– Великолепно, – шепнул Сент-Герман, отступая.
Вскоре он уже покидал общий зал – вместе с потянувшимся к выходу людом. На чужеземца посматривали, но никто не заговаривал с ним и не пытался подойти к нему с похвалами.
Падал снег, непрерывный, колючий. Воздух был так холоден, что дыхание обжигало гортань. Сент-Герман потуже закутался в плащ и решительно зашагал к северной башне, приминая подошвами девственно-белый покров. Он, впрочем, лежал не везде. У стены, общей для пекарни и кухонь, образовалась огромная лужа, замерзшая по краям. Сент-Герман старательно обошел ее, но, поглощенный обдумыванием того, что сказал капитан Амальрик, даже не задержал на ней взгляд. Приходилось признаться, что неприязнь большинства обитателей крепости все-таки задевала его, и возможно, он решился сегодня взять в руки цитру не столько из любви к музыке, сколько для того, чтобы хоть в самой мизерной степени растопить этот лед. Однако, кажется, так ничего и не добился. Сент-Герман удрученно вздохнул и, подходя к башне, невольно залюбовался ее очертаниями – быть может, грубыми, но в полной мере отвечающими суровости этого края. Огонь наверху был уже разведен. Кто там дежурит? Наверное, Осберн. Этот малый – настоящий сгусток непримиримости. Отмалчивается, когда к нему обращаешься, не смотрит в глаза и крестится всякий раз, как завидит.
В лаборатории было холодно: пергамент не сдерживал сквозняков. Сент-Герман остановился, чтобы подбросить в жаровню дубовую плаху. Красные язычки пламени весело заплясали на узловатых наростах. Такие наросты некогда очень ценились. Их отделяли от стволов, распиливали, шлифовали, а потом получившиеся пластины собирали в панели для внутренней облицовки жилищ очень богатых людей. Но это делали тысячу лет назад – в Риме. А здесь все, что не годится для досок, идет на дрова.
Сент-Герман подошел к одному из обвязанных веревками сундуков, открыл его, повозившись с замком, и нахмурился, хотя увиденное вовсе не обмануло его ожиданий. Он и так знал, что найдет внутри пустоту с жалкими горстками темно-бурого грунта. Из семи сундуков с карпатской землей полными оставались теперь только два. Их содержимого в лучшем случае хватит лишь на полгода. Потом его начнет мучить жажда, следом появятся приступы тошноты… О том, что с ним сделает солнце, не хотелось и думать.
Он сел на кровать и стянул с ног сапоги, затем вынул из них кожаные толстые стельки и аккуратно постучал одной о другую над стоящим рядом мешком. Убедившись, что полости стелек совсем опустели, он встал и опять направился к раскрытому сундуку, чтобы наполнить их новыми порциями защитного грунта. Когда стельки снова улеглись в сапоги, Сент-Герман удовлетворенно кивнул, снова закрыл сундук и запер замок, опечатав его печаткой со знаком солнечного затмения. Потом подтянул стул к письменному столу, сел, высыпал в крошечную ступку толику угольного порошка и растер ее в капле животного клея. Приготовив таким манером чернила, он взял из глиняного стаканчика отточенное гусиное перо и принялся за работу.
Время шло. Осберна на дежурстве успел сменить Рейнхарт, в кухнях затихли последние звуки возни, когда наконец раздался слабый стук в дверь – одновременно и неожиданный, и долгожданный.
Он быстро приотворил дверь и тут же закрыл, едва не прищемив полу плаща проскользнувшей в лабораторию гостьи.
– Что-то не так? – Ранегунда недоуменно вскинула брови.
– Ингвальт следит за мной, – пояснил Сент-Герман.
– Почему? – спросила она, обвивая его шею руками. – Зачем ему это?
– Я инородец, и этого уже достаточно. – Сент-Герман сам удивился горечи своего тона и поспешил улыбнуться: – Не беспокойтесь, за мной следят не впервые и, думаю, далеко не в последний раз, но сейчас судьба щедро вознаграждает меня за это мелкое неудобство. Я благодарен ей – и в большей степени, чем вы можете представить, за то, что вы не похожи на остальных своих соплеменников и не шарахаетесь от меня, как они.
– А я благодарна ей за то, что вы не походите на наших мужчин, – сказала, откидывая капюшон, Ранегунда. Встретив его вопросительный взгляд, она пояснила: – Иначе и вы крутились бы около Пентакосты, как маргерефа Элрих или Беренгар. Ненавижу, когда она смотрит на вас. Мне хочется крикнуть: «Это мое! Не смей трогать!»
– Но я и впрямь ваш. На все отведенное нам вышним промыслом время, – произнес он с едва уловимой печалью.
– Мой?
– Да. – Сент-Герман поцеловал ее в краешек рта. – Я ваш с тех пор, как вы вошли в мою жизнь, и до своей истинной смерти.
Она приложила палец к его губам.
– Вы все-таки иноземец. – Глаза их встретились. В серых читался упрек. – Говорить так – значит кликать беду. И потом, мне мало того, что вы мой. Мне хочется…
Она замолчала.
Сент-Герман внимательно посмотрел на нее.
– Чего? – Он догадался: – Детей? Но я уже говорил, что это для нас невозможно.
– Но вы также говорили, что кровь – это жизнь, – храбро возразила она. – Разве из этого не может что-нибудь получиться? – Глаза ее с тревогой зашарили по его вдруг замкнувшемуся лицу. – Нет? Я сказала что-то не то? Я неправильно поняла вас?








