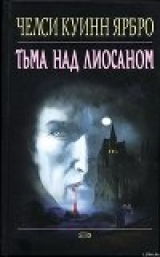
Текст книги "Тьма над Лиосаном"
Автор книги: Челси Куинн Ярбро
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
– Датчане, – почти прошептала Мило. – Их было чересчур много. Они захватили не только меня.
– Это случилось в начале или в конце схватки? – спросил зачем-то брат Эрхбог, хотя было ясно, что в его суждении ничего не изменится, каким бы ни был ответ.
– Ближе к концу. Датчанам удалось расколоть наш отряд надвое. Я оказалась в меньшей его половине, – ответила терпеливо Мило.
– И они увезли тебя с собой в Данию? – спросил брат Андах, пытаясь приободрить ее благожелательностью тона.
– Да. – Мило посмотрела на море. – В Данию. Да.
– И ты стала рабыней? – уточнил брат Гизельберт. – Вот почему тебя в первый раз заклеймили.
Она содрогнулась.
– Да.
– И какую работу тебе поручили? – спросил брат Андах. – Ты ведь что-то делала там, как рабыня?
На мгновение ветер утих, и до слуха собравшихся, заглушая плеск волн и шум леса, вновь долетело пение славящих Господа певчих.
– Я очищала очаг и соскабливала с котлов жир. – Голос Мило звучал совсем тихо. – Там были и другие рабыни.
– А что еще они требовали от тебя? – вкрадчиво поинтересовался брат Эрхбог. – Почему появилось второе клеймо?
На щеках Мило загорелись красные пятна, но выражение лица ее не изменилось: оно оставалось по-прежнему отстраненным.
– Они поступали со мной как с добычей, – сказала она после краткой заминки. – И с другими женщинами тоже.
– То есть пользовались твоей плотью? – бесстрастно спросил брат Гизельберт.
– Да, – отозвалась Мило. – Они сказали, что изобьют меня, если стану сопротивляться.
– И они избили тебя? – спросил брат Андах.
– Да, – был ответ.
– И потом избивали?
– Восемь раз, – сказала Мило. – А до бесчувствия – дважды.
– Вот как? – воскликнул брат Эрхбог. – А кто это подтвердит? И как нам понять, за что тебя били? Может, за нерадивость или за что-то еще. – Он прищурился, осененный новой догадкой: – Скажи-ка, ты каждый раз им сопротивлялась? Или они развратничали с тобой много чаще, чем избивали?
– Чаще, – очень тихо ответила женщина.
Брат Эрхбог возликовал.
– Значит, были моменты, когда тебе это нравилось?
– Я хотела получить передышку от боли, и только. А потом смирилась, иначе они убили бы меня.
Она замолчала и оглянулась, вытянув шею.
– Я знаю, знаю, – сказал капитан Жуар.
Брат Эрхбог решил, что услышанного достаточно.
– Вот оно! – вскричал он. – Она не сумела сохранить целомудрие! И предала и мужа своего, и Христа!
Брат Андах поднял руку.
– У нее не было возможности сохранить целомудрие, но она не предлагала себя этим мужчинам. Насильники избивали ее, не давали проходу. Она просила перевести ее на другую работу и была даже согласна убирать навозные кучи, лишь бы укрыться от них.
– Любая женщина пытается найти себе оправдание, – сказал кротким тоном брат Эрхбог. И обернулся к Ранегунде: – Женщины – вот причина грехопадения всего человечества.
Эти слова переполнили чашу терпения капитана Жуара.
– Ее можно осуждать не более, чем наших рабынь, – заявил он. – Их ведь не считают преступницами, когда мы их берем, не порицают, не топят.
– У них нет мужей, – возразил брат Гизельберт. – Семейный раб – это звучит смехотворно. А стоящая здесь женщина замужем. Она не просто сожительница, а супруга.
Сент-Герман скорбно покачивал головой, наперед зная, что монахи добьются победы. Воздух вокруг уже словно сгущался, образуя смертоносное жало, и острие его приближалось к Мило. Он с тревогой посматривал на Ранегунду. Та сидела в несвойственной ей позе: с неестественно выпрямленной спиной и низко склоненной, словно придавленной тяжким ярмом головой. Капюшон плаща был откинут, узел волос чуть сместился, оголяя затылок и шею, что делало ее трогательно беззащитной. Сент-Герман еще раз вздохнул.
– Сколько мужчин пользовалось твоими услугами? – выкрикнул брат Эрхбог.
– Я не знаю, – равнодушно ответила Мило.
– Несомненно, у тебя должно быть представление, – не отступался брат Эрхбог. – Двое? Трое? Четверо? Говори!
– Я не помню, – повторила она.
И опять над собравшимися пронеслись торжественные звуки молитвенных песнопений. Брат Гизельберт качнул головой и внушительно покосился на лист пергамента, расстеленный перед одним из писцов.
– Ты должна нам сказать – или будешь осуждена.
– Я не знаю, – вновь ответила Мило, уже громче.
И опять брат Андах попытался прийти ей на помощь.
– Братья, – сказал он с мягкой улыбкой. – Она дала мне такой же ответ. Я верю, что ей трудно определить, сколько раз на нее накидывались насильники.
Маргерефа Элрих встал со своего места и, намеренно погромыхивая боевыми латами, большими шагами прошелся вдоль грубо сколоченного стола.
– Она уже трижды сказала, что не знает этого или не помнит. Но утверждает, что сделала все возможное, чтобы сохранить незапятнанной свою душу, несмотря все происки гнусных врагов, пытавшихся, но не сумевших ее осквернить. Чего же вам больше?
– О душе она не говорила, она сказала только, что не помнит число мужчин, тешивших с ней свою похоть, – возразил брат Гизельберт. – И подобная похоть, возможно, возникала ответно и в ней.
– Нет, – подала голос Мило.
– А скорее, она сама ее тешила и вызывала в других, – крикнул брат Эрхбог. – Она солдатка и привыкла к мужской опеке. – Он ткнул в женщину пальцем. – Я утверждаю, что ты отдавалась датчанам, чтобы найти себе опору в чужом краю. Ты ведь не знала, что тебя выкупят, и не могла это знать. Ты думала, что останешься в Дании навсегда.
– Нет, – снова сказала Мило.
– А для меня это очевидно. – Брат Эрхбог прищелкнул от удовольствия языком. – Подобное двоедушие свойственно дочерям Евы, всегда пытающимся склонить сыновей Адама к греху. Ты смогла убедить капитана Жуара в своей невиновности лишь потому, что он тобой ослеплен. Но мы не обольщены твоим телом. Я вижу насквозь всю твою лживость и знаю, что ты…
– Моя жена не лжет, – прервал его капитан Жуар. – Лжешь ты, лукавый, жестокосердый монах, обуянный гордыней!
Наступило тягостное молчание, прерываемое лишь завыванием ветра.
– Это тяжкое обвинение, – произнес наконец брат Гизельберт.
Капитан Жуар вновь положил ладонь на эфес боевого меча.
– Говорю вам, я знаю свою жену и знаю, что она мне верна. Она бы осталась там, где была, если бы я думал иначе. А клейма для меня ничего не значат. Если хотите утопить кого-нибудь, добрые братья, приглядитесь к распутной язычнице в крепости Лиосан, которая развлекается с кавалерами и ублажает старых богов, отрицая Христа.
Еще не договорив этих слов, он осознал, что зашел чересчур далеко, и выпрямился, готовясь к тому, что секунду назад казалось ему невозможным.
– Мило моя, и только моя, лишь я над ней властен. Клянусь спасением, ее и моим, что она никогда не предавала меня, и Христос Непорочный – мой свидетель.
Огромные руки воина легли на женские плечи.
– Она лишь моя…
Руки сомкнулись. Раздался негромкий хруст, и Мило упала на землю. Шея ее была неестественно вывернута, глаза застыли.
– Она лишь моя, – повторил капитан Жуар.
Монахи перекрестились. То же сделали и все воины.
Маргерефа Элрих замер, совершенно ошеломленный.
– Почему?! – вскричал он. – Ведь ты только что заплатил…
– Она моя жена. Я должен был избавить ее от позора, – глухо сказал капитан. – Я имел право убить ее и не хотел уступать это право монахам.
Он опустился на колени возле недвижного тела, перекрестился и зарыдал.
Ранегунда встала, протянув руку к брату.
– Объяви, что она безгрешна, Гизельберт, умоляю тебя!
Брат Гизельберт побледнел, но глаза его были по-прежнему непреклонны.
– Как я могу, если сам муж осудил ее?
– Но он вовсе не осуждал ее, – возразила Ранегунда, пытаясь говорить увещевающе ровно. – Он сделал, что мог, а когда понял, что брат Эрхбог от своего не отступится, решил принести ее в жертву.
Она настороженно наблюдала за братом, понимая, что вступила на зыбкую почву.
– Капитан Жуар сказал много лишнего, – мрачно проговорил брат Гизельберт. – Пытаясь выгородить свою жену, он стал возводить напраслину на чужую.
– Он был в отчаянии, а Пентакоста действительно любит кокетничать, – произнесла, холодея от собственной смелости, Ранегунда. – У нас и впрямь ходит слушок, что она по ночам навещает прибрежные гроты. – Она помолчала. – Но последнее – вздор, ведь не существует способа выйти из крепости, минуя ворота, а они у нас крепко заперты и за ними следят. Однако крестьяне всерьез полагают, что дело нечисто и что Пентакоста умеет летать.
Наступило молчание, нарушил которое Гизельберт:
– Должен сказать, что тайком выйти из крепости можно. Существует лаз, очень узкий, и Пентакоста знает, где он идет.
Он смотрел на крест над часовней.
Ранегунда оцепенела.
– И ты ничего мне не сказал? Оставляя на меня крепость? – Она не могла бы определить, что больше душило ее в этот миг – гнев или ужас. – Почему ты так поступил? Какой в этом смысл? Гизельберт, объяснись!
Он пожал плечами.
– Ты женщина, Ранегунда. Ты можешь проговориться под пыткой, и крепость падет.
– Под пыткой? – тихо переспросила она. – А Пентакоста, значит, не может?
Гизельберт усмехнулся:
– Ее никто и не спросит. А потом, я думал тогда, что у нас будут дети, которых она могла бы спасти в победный для недругов час.
Он повернулся и пошел от сестры к монахам и воинам, столпившимся вокруг рыдающего капитана Жуара.
Ранегунда, двигаясь медленно, словно слепая, отошла от стола. В глазах у нее стояли слезы, душу давила холодная ярость. Она, сильно хромая, двинулась к берегу, но далеко не пошла и встала, всматриваясь в огромное серо-зеленое море. Сказанное все еще не укладывалось в ее голове. Ясно было одно: брат ее предал. И предал дважды, ибо скрыл от нее, что в час осады существует возможность зайти врагу в тыл или отправить гонцов за подмогой, а также сильно ослабил обороноспособность крепости, открыв тайну взбалмошному и непредсказуемому существу, вполне способному распорядиться ею во вред Лиосану.
– То был поступок, продиктованный полным отчаянием, – мягко сказали у нее за спиной.
– Что? – Она резко обернулась и едва не упала.
– Капитан Жуар понял, что ее не спасти, – пояснил Сент-Герман. – Он не вынес бы зрелища казни.
– Не вынес бы, – механически согласилась она.
Он осознал, что она потрясена чем-то другим, более для нее ужасающим, чем гибель несчастной.
– Вам что-то сказал брат?
Вопрос был задан предельно доброжелательным тоном, но из глаз ее хлынули слезы.
– Ну, полно, полно, – сказал Сент-Герман, сознавая, что на них могут смотреть, и потому держась на почтительном от нее расстоянии. – Что бы он ни сделал и ни сказал, теперь не должно иметь для вас большого значения. Пожалуйста, успокойтесь и выкиньте все обиды из головы. Вы ведь герефа, а он лишь церковник.
– Он…
Продолжить она не смогла и закрыла лицо руками.
– Что?
Сент-Герман терпеливо ждал.
– Он, – подавив рыдание, прошептала она, – верит мне меньше, чем Пентакосте.
Сент-Герман не повел и бровью.
– Он ее муж.
– Он мой брат. – Она опустила руки. Оспинки на ее щеках искрились от слез, взгляд серых глаз был мрачен. – Оказывается, в крепость ведет тайный ход. Он рассказал о нем Пентакосте.
– А вам не сказал? – спросил Сент-Герман, понимая, что в ней творится.
Он стал подыскивать утешающие слова, но вдруг заметил, что к ним приближаются, и заговорил другим тоном, словно бы отвечая на какой-то вопрос:
– Я, как и вы, полагаю, что несчастная заслуживает достойного погребения – и по возможности в освященной земле. – Он обернулся. – Не правда ли, маргерефа?
– Да, – лицо королевского представителя пылало от возбуждения, всклоченная борода выдавалась вперед. – Но они говорят, что не могут оставить ее у себя. Даже на какое-то время. Мы могли бы увезти ее в крепость, однако ваш монах заявил, что не позволит хоронить ее там и что тело грешницы нужно выбросить в море.
– И брат Гизельберт с ним согласился? – покосившись на Ранегунду, спросил Сент-Герман.
– Он сказал, что ее следует закопать на перекрестке дорог, – ответил маргерефа.
– Как преступницу или колдунью, – с отвращением заключил Сент-Герман.
– Вот им! – Непристойный жест маргерефы выразил все его отношение к жестокосердию и лукавству монахов. – Брат Андах возблагодарил Христа Непорочного за то, что оставил в крепости свою булаву, иначе он точно кого-нибудь бы покалечил.
– Возможно, это было бы вовсе нелишним, – сказал Сент-Герман, но его слова заглушило стройное пение, снова всплывшее над плеском волн и взывавшее к милосердию и справедливости.
* * *
Письмо брата Андаха епископу Герхту, врученное тому в Гамбурге вооруженными нарочными через тринадцать дней после отправки.
«Высокочтимому епископу Герхту в двадцать восьмой день ноября девятьсот тридцать восьмого года Господня.
Я пишу вам из Люнебурга, где маргерефа Элрих решил обосноваться на зиму, сообразуясь с тем, что до этих мест пока еще не добралась волна помешательств, а самому городу не угрожают враги. Когда прекратятся снегопады, мы прибудем в Гамбург, где, надеюсь, мне будет дозволено вас посетить.
А сейчас этим письмом мне представляется важным уведомить вас о событиях месячной давности, имевших место в монастыре Святого Креста. Душа моя до сих пор страждет под бременем воспоминаний о суде над женой капитана Жуара, и я хочу, хотя бы частично, освободиться от них.
Ваше преосвященство, вам следует знать, что я первым выслушал исповедь этой несчастной, вырученной из плена за немалые деньги, и был полностью удовлетворен, убедившись, что она не грешна, хотя ее тело использовалось датчанами для плотских утех. Что с того? Ведь эта женщина в их глазах была только рабыней, и для них не имело значения, замужем она или нет. Я не нашел в признаниях жены капитана Жуара ни единого намека на то, что эта женщина извлекала какое-то удовольствие из надругательств над нею, и потому лишь призвал ее к покаянию, чтобы она могла с чистой душой вернуться к своему прежнему положению и прежней жизни. С таким моим мнением согласились и маргерефа Элрих, и капитан Жуар, вполне понимавший, как обходились с жёной в Алании, но посчитавший, что никакого урона ее и его чести это не нанесло.
Однако духовник крепости Лиосан брат Эрхбог не счел нужным примкнуть к нам. Он обвинил жену капитана Жуара в прелюбодеянии и обратился с просьбой определить, кто из нас прав, в монастырь Святого Креста. В связи с тем, что новый настоятель этой обители брат Гизельберт являлся раньше герефой упомянутой крепости, требование брата Эрхбога не встретило возражений.
Суд, как и положено, состоялся под монастырскими стенами, но обвинители вели себя очень заносчиво, заранее посчитав, что обвиняемую следует покарать. Их предвзятость и каверзные вопросы настолько удручили капитана Жуара, что, не видя возможности защитить жену свою от мучительной гибели, он предпочел, воспользовавшись своим правом супруга, умертвить ее более легким способом. Брат Эрхбог тут же потребовал осудить капитана составом того же суда, но маргерефа тому воспротивился, заявив, что сам накажет своего офицера за грубое вмешательство в судебное разбирательство, и велел своим людям взять его под арест. Капитан Жуар, однако, вскричав, что жена его невиновна и что он не расстанется с ней, вскрыл мечом вены на своей шее, после чего скончался, не успев испросить у Господа прощения за свой грех.
Теперь они оба, капитан Жуар и жена его, закопаны на перекрестке ведущих к Ольденбургу дорог – с лицами, обращенными вниз, к аду, куда, как сказал брат Эрхбог, им и должно попасть. На спины им положили ростки остролиста, чтобы не дать им воскреснуть даже на призыв судных труб. Несмотря на возражения брата Эрхбога, я все же прочел над ними молитву, после чего могилу забросали землей.
Я искренне верю, что эта женщина не была прелюбодейкой, а потому скорблю о ней и не порицаю ее супруга за роковое решение, ведь он был воином, а те в безвыходных обстоятельствах склонны, к решительным и радикальным поступкам. Кроме того, я считаю, что выбор места их последнего пристанища был ошибочным, ибо несправедливо приговоренные к вечным скитаниям души покойных станут терзать путешественников до тех пор, пока не будут отмщены. Я уведомил о том брата Гизельберта, но его мнение не совпадает с моим.
Надеюсь, что вы, ваше преосвященство, с вниманием отнесетесь к моему сообщению и не сочтете за труд поразмыслить над ним. Если эти две смерти не пройдут без последствий и навлекут на нас нечто ужасное, знайте, что в том повинны брат Гизельберт и брат Эрхбог. Так не лучше ли, не мешкая, призвать их на ваш праведный суд. Жену капитана Жуара вознамерились покарать уже после того, как на нее была наложена епитимья, а ни один закон – ни Божий, ни человеческий – не предусматривает двойного наказания за один и тот же проступок, и те, что затеяли это судилище, ответят перед Христом Непорочным. И мне почему-то думается, еще в этом мире.
Всегда преданный вам и покорный кроме того только воле Христовойбрат Андах,духовник и писец маргерефы Элриха».
ГЛАВА 5
За окном свирепствовал ветер, он свистел во всех дырах и трещинах крепости Лиосан, залепляя их мокрым снегом. Пентакоста сидела в швейной, склонившись над ткацким станком и подпевая этому свисту. Два масляных светильника проливали свет, достаточный для того, чтобы она могла двигать челнок, не напрягая глаза. Красавица улыбалась и время от времени прерывала работу, чтобы погладить упругую ткань, шероховатую от узелков, слагающихся в причудливые узоры. Они, несомненно, порадуют старых богов, наславших на крепость морской ураганный ветер. Но он ей нипочем; ее плащ подбит лисьим мехом, под которым тепло даже плечам. Холодно только пальцам: они так озябли, что, кажется, превратились в хрупкие прутики. И все же их надо заставлять двигаться, ибо работу нужно окончить к утру, иначе старые боги от нее отвернутся.
«Это предельно ясно, – говорила она себе, пряча руки в теплые рукава, чтобы как следует отогреть их. – Иноземец захотел тебя с первого взгляда и просто не осмеливается приблизиться, чтобы не подвести замужнюю женщину. Это бесспорно читается в его жестах, в его голосе и глазах. Иначе зачем бы ему затягивать свое пребывание тут, в глуши, где ничто остальное не может привлечь внимание разумного человека?»
А его повышенный интерес к Ранегунде – всего лишь уловка. Ни один мужчина не предпочел бы рябую и хромоногую женщину ей, дочери герцога Пола, первой красавице Саксонии, а может, и всей Германии, – недаром сын Пранца крутится возле нее. Он ведь очень умен, этот чужак. Он сразу смекнул, что без доброго отношения Ранегунды ему бы пришлось сидеть взаперти, а так он живет совершенно вольно. И очень неторопливо плетет свою сеть.
Красавица улыбнулась. Ей доставила удовольствие мысль о том, как осторожно к ней подступаются. Не так уж часто встречаются столь деликатные кавалеры, знающие, что сначала следует заслужить уважение женщины, чтобы потом с уверенностью рассчитывать на все остальное.
Вернувшись к работе, Пентакоста с новой энергией принялась повторять его имя и делала это, пока ткань не стала достаточно длинной. Все переменится, как только она подарит ее чужаку. Тот велит сшить из нее что-нибудь и, подталкиваемый неодолимым желанием, незамедлительно перейдет к решительным действиям, которым она не станет противиться. И у нее наконец появится достойный любовник. Богатый, знатный, влиятельный – словом, такой, какому не страшен ни герцог Пол, ни Пранц Балдуин, ни даже король этого скучного государства. Он на ней женится и увезет в свою страну, где ее наконец-то оценят.
Она намеренно уколола палец и дождалась, пока кровь не оставила на материи достаточное пятно, вновь повторяя имя своего будущего возлюбленного и очень четко перечисляя, что ей хочется от него получить. Ее уже одолевала усталость, но не настолько, чтобы она упустила что-то из виду. Монотонность занятия навевала дремоту, однако ради новой и радостной жизни стоило пожертвовать ночным сном… хотя бы для тренировки, ведь в скором времени их ожидает череда бессонных ночей. Эта мысль подбодрила ее, и она принялась думать о восхитительных переменах в своем положении, продолжая двигать взад и вперед равнодушно постукивающий челнок.
Пергамент на окнах уже начал светлеть, когда в дверях швейной появилась Геновефа. Лицо ее было припухшим от сна.
– Я зашла в вашу комнату, но там вас не оказалось, – сказала она осуждающим тоном. – И ваша кровать холодна.
– Я не могла заснуть, – мечтательно произнесла Пентакоста. – И решила занять себя чем-нибудь.
– Занять? – нахмурилась Геновефа, с тревогой оглядывая станок. – Черная шерсть, сотканная в ночи?
– Только трусихи могут увидеть в ней что-то дурное, – ответила Пентакоста. – Это обыкновенная шерсть.
Геновефа перекрестилась, все еще продолжая присматриваться к станку, затем, потрясенная, взглянула на Пентакосту.
– Что у вас на уме, высокородная госпожа?
Пентакоста рассмеялась.
– Ты вспоминаешь о моем звании, только когда сердишься, милая медхен. Чем же я рассердила тебя?
Геновефа потупилась, потом вздернула подбородок.
– Комната сына Пранца находится прямо под швейной. О чем вы думали, когда шли сюда?
– Слуга Беренгара спит в ногах у своего господина. Расспроси его, развлекались мы тут или нет.
– Он всего лишь слуга и скажет то, что ему велят, – отозвалась Геновефа.
– Тогда разузнай, кто дежурил в эту ночь у огня. И поговори с ним, выведай, было ли тут что-нибудь. Он не слуга и скажет правду. – Пентакоста встала со стула. – Я основательно потрудилась и теперь готова уснуть. Так крепко, что мне позавидует сам Христос Непорочный.
Она перекрестилась и одарила служанку улыбкой. Самой обворожительной из арсенала своих обольщающих средств.
– Я переговорю с караульным, – с непримиримым видом отозвалась Геновефа. – А вы, если далее будете вести себя столь безрассудно, вскоре окажетесь в Лоррарии, у отца, который вряд ли обрадуется вашему возвращению.
– Этот развратник, возможно, мне и обрадуется, – вспыхнула Пентакоста, – но этому не бывать. Я скорее сбегу от вас всех и сдамся датчанам. – Она вскинула голову и прошествовала мимо Геновефы к дверям. – Я иду спать и намереваюсь как следует отдохнуть, а ты можешь стеречь меня хоть весь день, если хочешь.
Это был ловкий ход, позволяющий ей без помех выспаться днем, чтобы освободить ночь для старых богов и показать им заговоренную ткань.
Спустившись на нижний этаж, она взглянула на дверь, ведущую в обиталище иноземца. Ей мучительно захотелось открыть ее и войти, но она понимала, что время еще не настало. Ничего, через несколько дней грядет полнолуние – и она наконец-то восторжествует над Ранегундой, а эта дверь растворится перед нею сама.
Когда Пентакоста вышла из швейной, Геновефа внимательно огляделась вокруг, чтобы выяснить, чем занималась здесь ее госпожа, ибо знала по опыту, что любое тайное занятие всегда связано с чем-либо пагубным. Она тщательно обыскала всю комнату в поисках талисманов и амулетов, могущих подсказать, какие силы привлекались хозяйкой для осуществления ее тайных намерений, однако ничего серьезного не нашла и рассеянно взяла в руки моток черной пряжи. Но тут же, словно обжегшись, выронила его и подула на пальцы. Потом дважды перекрестилась, надеясь, что колдовство, заключенное в пряже, не успело перескочить на нее, затем выбежала из швейной и бросилась вниз по лестнице, страшась оглянуться назад. Там могло оказаться нечто ужасное, например, та же черная шерсть, преследующая ее, чтобы опутать ей ноги.
С бешено бьющимся сердцем она бежала по заснеженному двору к южной башне и чуть не упала, толкая тяжелую деревянную дверь. Потом ударом ноги закрыла ее и стала взбираться по лестнице на третий этаж, страстно желая, чтобы Ранегунда оказалась на месте. Та и впрямь была у себя, но она говорила с Дуартом, и Геновефа в изнеможении рухнула на стоящую в коридоре скамью.
Староста поселения хмурился, лицо его выражало крайнюю степень неодобрения.
– Надо бы все же послать монахам зерно, – бубнил он угрюмо. – Урожай у них был весьма скудным. И теперь им приходится подтягивать пояса.
– Как и мы их подтянем, – отрезала Ранегунда. – Уже к новому году.
Она все-таки вняла словам Сент-Германа и отобрала у поваров и крестьян летнюю рожь, но не решилась ее уничтожить и держала в запасе. Пусть сначала докажет, что болезнь гнездится в зерне, ведь мука уже на исходе.
– Они зависят от нас, – рискнул напомнить Дуарт. Он почти полностью оправился от приступа помешательства, но время от времени у него все еще судорожно подпрыгивали бровь и щека. – Мы удручим Христа Непорочного, если не накормим монахов.
– У них есть собственные поля, и они работают на них, как и мы. Но все равно я поддержала бы их, однако мне надо кормить людей, оставленных здесь маргерефой. Еще тридцать девять ртов на все тот же припас – это отнюдь не мало. Я поклялась заботиться о жителях крепости, а не об обитателях монастыря Святого Креста. Мой брат слышал клятву.
Она зябко поежилась, ибо утренний холод давал себя знать.
Отдышавшаяся Геновефа сунулась в дверь и воззвала:
– Герефа!
– Сейчас, Геновефа. – Ранегунда кивнула. – Обожди пять минут – и я выслушаю тебя. – Она выжидающе глянула на Дуарта. – В деревне сейчас есть лишний сыр. Отвези им мешок сыра. Добавь к нему пару корзин репы и одну из дойных коз. Для молока или на мясо – как пожелают.
– Ваш брат не порадуется такому решению, – гнул свое Дуарт. – Вы должны блюсти его честь, как и честь крепости Лиосан.
– Если мой брат сочтет, что я его подвела, пусть приедет и сам все проверит, – резко отозвалась Ранегунда. – А потом пусть покажет, как выправить положение.
Она тряхнула головой, забрасывая за спину косы.
– Сыр, репа, коза, – повторил для памяти Дуарт.
– И если у жены Дженса остался мед, отвези им и меду. Гизельберт любит мед, по крайней мере любил, – сочла нужным добавить она, вспомнив о строгости монастырского быта.
– Я скажу ему, что вы так распорядились, – произнес Дуарт со страдальческим видом.
– Конечно. Он поступил бы так же. – Ранегунда без трепета встретила взгляд старика. – Можешь не сомневаться.
Дуарт сдался и, отступая назад, поднес руку ко лбу.
– Кого взять в охрану?
Ранегунда задумалась.
– Герента, Фэксона и… и еще Северика. – Она помолчала. – Прихватите с собой алебарды и возьмите подкованных лошадей. Каких, спросишь у Сент-Германа. А мула выбери сам.
– Конечно, герефа, – ответил Дуарт и с перекошенным нервной гримасой лицом двинулся к двери.
Как только он удалился, Геновефа подступила к столу.
– Прошу простить меня за плохое известие. Я бы смолчала, но… – Она поднесла руки к лицу. – Это ужасно, ужасно.
– Что тебя ужасает? – спросила сочувственно Ранегунда.
Она уже поняла, что дело нешуточное, ибо заметила, как бледна ее гостья.
– Я видела… Я не хочу говорить, но должна. Это дурно… ох, как это дурно!
Геновефа перекрестилась и, боязливо оглянувшись на дверь, замерла.
– Ну? – Ранегунда взяла ее за плечи и легонько встряхнула. – Что ты видела? Говори.
Мгновение Геновефа молчала.
– В швейной комнате весь большой ткацкий станок опутан черными нитями с узелками, – с трудом выговорила она.
– Пентакоста? – Ранегунда вздохнула. – Что опять она натворила?
Геновефа принялась рассказывать сызнова.
– Говорю же, она зарядила ночью в челнок черную пряжу, на которой навязаны узелки.
– Ох! – Ранегунда вздохнула еще раз. – Что навлекает на нас все эти невзгоды? – Взгляд ее затуманился, но через миг прояснился. – Возьми себе в помощь Хрозию, и не отходите от Пентакосты весь день. К вечеру я подыщу в деревне кого-нибудь, кто последит за ней ночью. – Глаза ее остановились на мутно просвечивающем окне. – Хотя такой снег не для прогулок. – Она вдруг подумала о потайном ходе и содрогнулась. – Особенно дальних.
– Хрозию? Хорошо, – кивнула Геновефа. – А Винольду?
Ранегунда мотнула головой.
– Нет. Пентакоста берет у нее травы. Попроси Джусту побыть с тобой, когда Хрозия отлучится. Всем нужно присматривать за детьми. – Она свела пальцы рук, потом развела их. – Докладывайте мне обо всем, что она станет делать. А в швейную я загляну без тебя.
Геновефа благодарно перекрестилась.
– Какую из деревенских женщин вы хотите просить за ней последить?
– Возможно, Оситу. Она здесь недавно и не дрожит перед Пентакостой, как вы.
– Многие знают, чем она занимается по ночам, – быстро произнесла Геновефа. – И Джуста, и Хрозия, и другие.
– Или полагают, что знают, – уточнила Ранегунда. – Я, например, не видела, чтобы Пентакоста летала, как птица. И другие, думаю, тоже.
Она укутала плечи подбитым мехом плащом и заколола его большой римской булавкой. Металл был на ощупь приятен. И, может быть, лишь потому, что эту вещицу отковал для нее Сент-Герман.
– Но она ведь как-то выходит из крепости, – округлила глаза Геновефа. – Наверняка с помощью каких-нибудь заклинаний.
– Вот ты бы и разобралась с этим.
В голосе Ранегунды слышалось раздражение, но сердилась она не на служанку, а на Гизельберта, так и не сказавшего ей, где находится потайной лаз. Поначалу она думала, что его скрытность питает все то же дурацкое недоверие к ее выдержке, но постепенно уверилась, что причина молчания – растущее день ото дня отчуждение и застарелая неприязнь.
– Она ничего такого не говорит, – сказала жалобно Геновефа. – Я даже прислушиваюсь к тому, что она напевает, но в ее песнях нельзя ничего разобрать.
Ранегунда поморщилась.
– Ну разумеется. Она для этого слишком умна. Но ты все же не расслабляйся, авось что-нибудь и узнаешь. – Она озабоченно сдвинула брови. – А я после швейной дойду до деревни. И заодно поговорю с лесорубами. Зима уже близится, а у нас еще нет стольких бревен, сколько надобно королю.
Геновефа поежилась.
– И как они не боятся выбираться за частокол? Когда в лесу лежит снег, разбойников и волков становится больше.
– Не становится, – возразила Ранегунда. – Просто зимой они голодны, вот и все.
– Не хотела бы я выйти замуж за лесоруба. – Служанка зарделась. – А если вышла бы, ни за что не пускала бы мужа за частокол.
Ранегунда ничего не сказала на эту глупость и пошла по лестнице вниз. Дурочку, кажется, удалось успокоить. Но как успокоить себя? Пентакоста все более распоясывается, чувствуя свою безнаказанность: ведь за ней стоит Гизельберт. Пусть он монах, но жену свою ценит более, чем сестру, и, если дело зайдет далеко, без сомнения, примет сторону первой. Не хочется идти против его воли, но, похоже, придется, или Пентакоста играючи втянет крепость в беду.
Дойдя до нижнего этажа, она так продрогла, что решила отдать приказ оставлять в помещениях на ночь жаровни, и, отворяя дверь, задохнулась от ветра, ударившего в лицо. Хотелось есть. В общем зале уже завтракали, но Ранегунда прошла мимо. Надо было сначала осмотреть швейную, пока та пуста. А затем разыскать Сент-Германа – пусть скажет, что думает по поводу того, что она там обнаружит.








