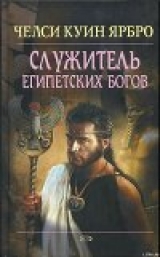
Текст книги "Служитель египетских богов"
Автор книги: Челси Куинн Ярбро
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Часть 2
СЕНХЖЕРЕН. РАБ
Письмо графа де Сен-Жермена, адресованное Мадлен де Монталье и отправленное из Швейцарии в Египет 4 октября 1825 года.
«Мадлен, дорогая! К этому времени наводнение должно пойти на убыль. Хапи возвращается в свою пещеру в устье Нила, которая называлась „атур“ или „атур-нир“, когда я жил в Египте под именем Сенха, а затем Сенхжерена и Санхкерана. Как давно никто не произносил эти имена!
Ты пишешь, что все еще находишься в Фивах, поэтому туда я и отправляю это письмо. Насколько я знаю, богатства Фив превосходят всякое воображение, если, конечно, город не был полностью разорен и разрушен. Помни, сокровища, там таящиеся, несметны как в переносном смысле, так и в прямом.
Отвечаю на твой вопрос, как и обещал: меня перевезли из Мемфиса в фиванский храм Имхотепа после того, как я прожил в стране, именуемой Черной Землей, чуть долее века. В то время Египтом правил фараон Аменхотеп III, а Фивы являлись столицей, где он проживал. Это был способный, энергичный и честолюбивый правитель, собравший вокруг себя внушительный двор. Он приближал к себе всех, кто мог прибавить ему славы. Среди его избранников оказался и верховный жрец Имхотепа Мерезеб, который для пущей помпы привез с собой большое число рабов.
На новом месте мне повелели ухаживать за тяжело больными людьми, что считалось привилегией в сравнении с присмотром за умирающими. То, что рабу-чужеземцу поручили подобное дело, было совсем не в порядке вещей. К счастью, жрецы не догадывались в полной мере о моей истинной сущности, иначе меня бы забили камнями».
– Фараону нездоровится, – сообщил Бак, раб-цирюльник, во время еженедельной процедуры бритья.
– Фараон немолод, – лаконично откликнулся Сенхжерен.
– Он правит более тридцати лет, и Черная Земля процветает, – восхищенно заметил Бак. – Боги к нему благосклонны. – Он оглянулся, а потом внимательно посмотрел Сенхжерену в глаза. – А как они относятся к тебе, чужеземец?
– Я не пытаюсь понять богов, Бак, – ответил Сенхжерен тоном, означавшим, что он не намерен обсуждать эту тему.
– Хозяина вызвали к фараону, чтобы он нашел причину болезни. – Бак покосился на молчаливого чужака. – Хозяин избавит фараона от всех недугов.
– Пусть ему сопутствует успех, – произнес Сенхжерен, понимая, что Мерезебу не справиться с неумолимостью возрастных изменений. Обернувшись к молодому рабу, ловко управлявшемуся с бритвой, он сказал: – Грудь я побрею сам.
Юноша потупился.
– Я бы это сделал, чужеземец, но твои шрамы…
Сенхжерен машинально прикрыл рукой белые рубцы ниже ребер, и его вновь кольнуло воспоминание о ножах и крюках.
– Старые раны, – сказал он.
– И очень тяжелые, – отозвался Бак, считавший себя тонким знатоком медицины.
– Когда-то были, теперь – нет. – Сенхжерен взял у раба бритву и выполнил за него остальную работу. Юноша съежился, принимая свой инструмент.
«Когда Аменхотеп III умер, он оставил после себя процветающую страну и сына, Аменхотепа IV, жаждавшего занять место среди богов или основных сил природы. Он также стремился покончить с интригами жрецов, сосредоточивших к тому времени в своих руках такую огромную власть, что они могли потягаться с могуществом фараона. Аменхотеп IV отменил всех богов, кроме единого бога Египта Атона, и, оставаясь единовластным правителем государства, сделался еще и верховным его жрецом, повелев впредь именовать себя Эхнатоном и заложив новую столицу на том месте, что теперь зовется Амарной.
Так как Имхотеп не считался Атону соперником, Мерезебу было позволено вместе со своими жрецами переехать в Дом Жизни в новой столице. Он был одним из немногих священнослужителей, каким разрешили поклоняться своим богам, а потому сразу нашлось много завистников, готовых при первом удобном случае подставить ножку тому, кого относили к любимчикам нового фараона».
– Ненавижу это место, – прошептал Мерезеб, совершая ежедневный обход умирающих. – Эти люди, уходящие в иной мир, – они насмехаются надо мной.
Сенхжерен, шагавший рядом, удивленно взглянул на жреца.
– Насмехаются? Каким образом?
– Каждый из них являет собой доказательство, что Имхотеп слаб, – пояснил Мерезеб, косясь на небо. – Очень многие радуются, когда мы посылаем за жрецами Анубиса. Для них это лишний повод упрекнуть фараона. Они говорят, будто боги, каких мы обидели, лишили нас силы.
– Теперь существует только один бог, Атон, – напомнил ему Сенхжерен.
Мерезеб неприятно рассмеялся.
– Только потому, что фараон объявил это. А ведь он сам… – Жрец умолк, завидев приближающегося Бака. – Ты не станешь повторять мои слова.
Сенхжерен вздохнул.
– Ты господин, я твой раб.
Старые кости побаливали, но Мерезеб приосанился.
– Да, это так. – Он снова понизил голос. – А все эта хеттка. Она буквально околдовала его. Фараон так ослеплен ее красотой, что не видит священных теней, а боги этого не прощают. – Он махнул рукой, отпуская раба. – Ступай. Здесь полно тех, кому нужна твоя помощь.
– Повинуюсь, – кивнул Сенхжерен и тут же пошел прочь. Он был уверен, что знать слишком много о жизни двора опасно.
«Как мне объяснить, что я почувствовал, когда в Дом Жизни доставили Хесентатон? Жрецы Имхотепа даже не попытались ее исцелить – они ничего не могли сделать.
Это была дочь скульптора, отказавшаяся выйти замуж за человека, который успел заплатить за нее выкуп. Она предпочла другого. Отец девушки попытался вернуть жениху деньги, но тот отказался их взять. А девушка тем временем сбежала со своим избранником. К несчастью, отвергнутый поклонник погнался за ними и, когда настиг, убил своего соперника, а девушку приказал отнести на вершину высокой скалы и подвесить там на веревках, чтобы она погибла от жары или жажды. Если бы отец не нашел ее, то к заходу солнца она бы умерла, что было бы для нее милосердием. Но вышло не так: она обгорела, ослепла – и ее оставили на мое попечение».
Кожа девушки казалась обугленной, на нее нельзя было наложить даже легкий компресс, не увеличив при этом в десятки раз ее муки. Поначалу она просто стояла, не разрешая к себе прикоснуться.
Сенхжерен подошел к ней.
– Я принес тебе воды, выпей.
– Не… могу, – проскрипела она.
– Я стою прямо перед тобой, – продолжал Сенхжерен. – Протяни руку, и я передам тебе чашку.
У нее даже не было сил сморгнуть.
– Не могу, – сказала она и качнулась.
– Без воды у тебя закружится голова и ты упадешь, – предостерег страдалицу Сенхжерен. – Это будет больнее, чем взять чашку. – Он выжидал, терпеливо, спокойно.
– Ты где? – спросила она чуть погодя, с трудом шевеля языком.
– Все еще прямо перед тобой, – ответил он. – Подними руку, и я отдам тебе чашку.
Больная отпрянула.
– Нет. Стоит мне согнуть руку… – На ее глаза навернулись слезы, но не скатились.
– Позволь тебе помочь, – произнес Сенхжерен, не сознавая, что впервые предлагает такое. Он сделал шаг вперед, поднимая чашку и стараясь не прижимать ее к потрескавшимся губам. – Пей, – велел он, наклонив чашку.
Девушка сделала глоток, но тут же качнулась и стала падать. Сенхжерен, вытянув вперед руку, не дал ей упасть.
– Я поддержу тебя, – сказал он, когда она попыталась вывернуться. – Перестань. Я поддержу тебя.
Она вздрогнула и усилием воли заставила себя выпрямиться, но у нее вырвался тягостный стон.
– Не-е-ет, – протянула она.
Вытянутая рука раба не дрожала, хотя Хесентатон была рослой девушкой.
– Стой смирно, – велел Сенхжерен.
Она начала жалобно поскуливать, хотя старалась сдерживаться. Обожженное лицо ничего не выражало, но Сенхжерен сумел что-то прочесть в незрячих глазах.
– Дай мне умереть, – наконец прошептала она.
Эти слова пронзили его, как горячий ветер пустыни, хотя ему приходилось слышать их раньше бессчетное количество раз. Он снова протянул ей чашку с водой и произнес в смятении:
– Пей!
На этот раз ей удалось выпить немножко больше, но она тут же закашлялась.
– Я хочу умереть, – сказала она, когда вновь смогла заговорить.
– Почему? – невольно вырвалось у него.
– Разве можно так жить? – прозвучало вместо ответа.
У него не нашлось слов утешения, зато была выносливость, позволявшая поддерживать эту девушку сколько угодно, – больше он ничем не мог ей помочь. Оглядывая двор Дома Жизни, раб попытался вспомнить, сколько раз он сталкивался со столь же безнадежными случаями, как этот, и сказал:
– Вода еще есть.
Из ее горла вырвался звук, который когда-то мог превратиться в смех, но солнце выжгло в ней смех, как и все остальное. Голова ее запрокинулась, щека коснулась его руки, и девушка тут же вскинулась с внезапным ужасающим воплем.
– Нет!
– Сделай глоток, – велел Сенхжерен, пытаясь поднести к ее губам чашку, но девушка рывком оттолкнула ее, пролив на себя воду и тем самым усугубив свои муки. Ему оставалось лишь поддерживать умирающую, которая брыкалась и извивалась.
– Перестань, – монотонно повторял он, не опуская руки.
Наконец она беспомощно обвисла на ней и со стоном перевела дыхание, а потом очень отчетливо произнесла:
– Положи меня.
– Нет, – сказал он.
– Ты ведь не можешь держать меня так все время. Положи меня.
– Нет, – повторил он, – и не проси.
Она расставила ноги пошире.
– Я могу стоять сама. Посмотри. – Ее тело содрогнулось, когда она попыталась выпрямиться.
– Ладно, – решился наконец Сенхжерен, – я подведу тебя к стене, и ты сможешь на нее опереться. Потом принесу тебе снадобье. Оно облегчит твою боль, если ты сумеешь сделать хоть пару глотков.
Она посмотрела на него невидящими глазами.
– Сумею.
Он помог ей сделать несколько шагов до стены и упереться руками в ребро небольшой ниши.
– Я скоро вернусь. Держись. Или кричи. Я сразу же прибегу. – Обезображенное лицо мало что выражало. – Мужайся.
Сенхжерен понимал, что слова его звучат глупо, но ничего лучшего не придумал и поспешил к Дому Жизни, надеясь, что у нее хватит сил продержаться. Входя в храм Имхотепа, он ударил в ладоши, подзывая кого-нибудь из рабов, и первому, кто подбежал, сообщил:
– Мне нужно попасть в комнату с лечебными травами.
Раб пошел впереди него, громко оповещая всех, что в храме находится Сенхжерен. Возле двери в хранилище дремал молодой жрец. Его лишь недавно допустили к несению храмовой службы. Заслышав шаги, он заставил себя проснуться и выслушать, что понадобилось рабу, который служил при Доме Жизни, но никогда в него не входил.
– Против правил, – коротко бросил он, когда Сенхжерен умолк.
– Тут все против правил, – кивнул Сенхжерен. – Девушку нельзя спасти, так зачем же ей мучиться? Если дать ей настой, о котором я говорю, она легко расстанется с жизнью.
Молодой жрец покачал головой.
– Не слишком ли легко? – спросил он, с подозрением глядя на чужеземца.
Сенхжерен горестно рассмеялся.
– Настой ускорит ее уход всего на полдня. Разве это имеет большое значение? Либо мы все это время будем выслушивать вой обезумевшей умирающей, либо она во сне перейдет на попечение бога мертвых Анубиса.
– Не мне решать, – отрезал молодой жрец, озираясь по сторонам.
– Не тебе, ибо я все решил, – не отступал Сенхжерен. – Или иди и сам приглядывай за несчастной.
– Я? – молодой жрец попятился, потом облизнул губы. – А вдруг кто узнает?
– Тогда и ответ держать мне, – сказал Сенхжерен. – Я приму наказание. – За все годы службы при храме Сенхжерен подвергался порке лишь дважды, и молодой жрец о том знал.
– Я дам тебе настой, – сдался он. – Но если верховный жрец начнет расспрашивать, куда он девался, я сошлюсь на тебя.
– Хорошо, – согласился Сенхжерен и принялся ждать, когда юноша вынесет керамический сосуд с жидкостью, выжатой из корней и листьев карликовой хеттской яблони.
«Насколько я помню, этот настой состоял в основном из белладонны и еще одного ингредиента, скорее всего, грибной вытяжки. Жрецы всегда держали в секрете рецепты своих снадобий, и только прошедшие вторую стадию посвящения, допускались к изготовлению лекарств. В то время я еще не интересовался, как делаются настои и что в них входит, а когда сам стал жрецом, то многое в этом искусстве успело перемениться. Кстати, тот молодой жрец через двадцать лет сделался в храме главным лицом и однажды приказал меня высечь в отместку за пережитое им унижение. Он часто напоминал мне, что я тогда преступил границы дозволенного и что, будь его воля, он высек бы меня в тот же день. Но эта возможность у него появилась только двадцать три года спустя, а я… я и впрямь в тот день впервые осмелился перейти границы дозволенного и потребовать то, на что не имел права. Теперь, оглядываясь на прошлое, я не могу сказать, что именно заставило меня действовать так и почему именно Хесентатон пробудила во мне столь острую жалость. Впрочем, возможно, я и не испытывал никакой жалости и мое чувство было гораздо сложнее. Я тогда не сумел в нем разобраться, не могу и теперь, когда между мной и прошлым встали тысячелетия».
Она умерла под утро, когда в небе едва забрезжил рассвет. Обезображенное лицо было спокойно, девушка лежала на тюфяке, не испытывая ни боли, ни душевных страданий. Пока настой творил свое волшебство, она что-то напевала – звуки были ужасными, но ей они, видимо, нравились. Потом из груди умирающей вырвалось нечто похожее на прощание или имя, затем она снова легла, и огонек в глазах ее тихо угас.
Сенхжерен опустился возле тюфяка на колени и долго оставался недвижным. Со стороны могло показаться, что он тоже умер.
– Бедное, бедное дитя, – произнес он наконец на языке исчезнувшего народа.
«Отец девушки подошел ко мне после того, как она была подготовлена к погребению, и спросил, чем он может отблагодарить меня за заботу о его дочери. Впервые кто-то предлагал мне награду за мой труд, и я даже несколько растерялся. В конце концов я попросил его сделать изваяние Нефертити, жены фараона, и подарить его ей в память о Хесентатон. Как я слышал, Эхнатон остался доволен бюстом, надеюсь, эта работа смягчила и отцовское горе.
После этого случая я не мог больше спокойно наблюдать за умирающими. Их муки угнетали меня, разрушали мне душу. Я менялся, но не в один миг, а в течение нескольких лет. Я стал пытаться целить тех, кого высылали из Дома Жизни, и время от времени кто-то из моих пациентов выздоравливал. Не будь я чужеземцем и рабом, кто знает, возможно, мне разрешили бы изучать тексты самого Имхотепа. Как бы там ни было, меня к ним не допускали, но я не особенно горевал. Я шел и шел наугад, как несмышленый ребенок, впервые покинувший пределы отчего дома, и, будь у меня чуть больше свободы, наверное, повернул бы назад.
Не суди меня слишком строго, любовь моя. Я ведь тебе много раз говорил, что стал, чем стал, лишь пройдя через многие испытания. И хотя теперь я сожалею о многих своих поступках, это уже сожаление цивилизованного человека, а не раба. Египет – наковальня, где ты либо обретаешь закалку, либо разлетаешься на куски.
С нетерпением жду твоего очередного письма. Странная вещь: я рад, что ты занимаешься делом, к какому давно стремилась, и одновременно хочу, чтобы ты была рядом, хотя это и неразумно. Твоя смелость и целеустремленность наполняют меня гордостью за тебя, и в то же время я жажду защитить тебя, укрыть от всех невзгод и опасностей этой жизни. Сколько в этом тщеты и противоречий!
Если бы я не любил тебя столь глубоко, все могло сложиться иначе: у каждого из нас появились бы лучшие перспективы. Однако без этой любви, я впал бы в отчаяние, еще более горькое, чем то, что мне довелось пережить в Вавилоне.
Ты для меня свет, рассеивающий мрак, ты пламя моей души.
Сен-Жермен(печать в виде солнечного затмения)».
Ноябрь 1825 – октябрь 1826 года
Письмо профессора Бондиле, отправленное из Фив в Каир Ямуту Омату.
«Дражайший месье Омат! Позвольте вновь поблагодарить вас за гостеприимство, оказанное мне на прошлой неделе. В глубине души я чувствую, что злоупотребил им, ибо слишком часто наносил вам визиты, впрочем, оправданные вашими заверениями, что мое общество вас нисколько не тяготит. Вилле вашей нет равных ни в Фивах, ни в окрестностях Фив (если не брать в расчет строения времен фараонов), а ваше радушие превосходит все европейские представления о таковом. Празднество же, на которое я был приглашен, лишь упрочило мое высокое мнение о вас, вашей дочери и достоинствах вашего дома.
Рассмотрев ваши претензии, выдвинутые на днях, я должен признать, что полностью разделяю вашу точку зрения. Ваши аргументы вполне убедительны и совпадают с тем, о чем я подумываю давно. Несомненно, ценности, обнаруживаемые экспедициями вроде моей, в большей мере принадлежат вам, как египтянину, нежели заграничным университетам. Я склонен серьезно отнестись к вашему предложению и обсудить с вами после вашего возвращения ту форму сотрудничества, которая удовлетворила бы нас обоих. Я готов предоставить вам в полной мере свои услуги, но так, чтобы не скомпрометировать экспедицию в глазах властей и не бросить тень ни на одного из моих коллег.
Позвольте мне подробнее остановиться на этом пункте. Местный судья, некто Кариф Нумаир, с невероятным тщанием наблюдает за деятельностью моей экспедиции, так что, боюсь, нам придется учитывать рвение этого достойного человека, если мы хотим, чтобы наше частное соглашение принесло ожидаемые плоды. Досточтимый судья наезжает на место раскопок с инспекциями, просматривает все наши записи, что создает проблему, урегулировать каковую способны лишь вы. Лично я не знаю, как лучше всего действовать в данном случае, но надеюсь на вашу опытность в подобных вопросах, ибо было бы неосмотрительно начать реализацию нашего плана без предварительной нейтрализации служебных амбиций упомянутого судьи.
Теперь, когда паводок спал, раскопки опять можно будет вести полным ходом, да и сезон относительной прохлады, нам на руку, и непросохший песок. С ним управляться легче, чем с мелкой сыпучей пылью, в какую его превращают сезоны жары. Не сомневайтесь, я буду держать вас в курсе всех наших достижений в области изучения прошлого вашей страны. У меня есть все основания полагать, что мы стоим на пороге великих открытий. Их обещают каждая напольная плитка, каждый фут отвоеванной у пустыни стены. Почту за честь принять вас у себя, когда вы вернетесь, чтобы оговорить условия нашего соглашения.
С наилучшими пожеланиями и убежденностью, что наши совместные усилия послужат залогом нашего дальнейшего процветания,
искренне ваш
Ален Бондиле.22 ноября 1825 года, Фивы».
ГЛАВА 1
– Что это за фараоны, о которых он пишет? – потрясая письмом, вскричала Мадлен и тут же повернулась к Эраю Гюрзэну: – Что вам о них известно?
– Практически ничего, – ответил тот. – Я слыхал о Рамзесе и еще кое о ком. Все остальные – загадка. – Коптский монах стоял у высокой конторки, разглядывая древнюю надпись. – Первую половину я еще могу как-то понять, но конец фразы, – он постучал карандашом по листу, – совершенно непостижим.
– Почему? – спросила Мадлен. – Что вас ставит в тупик?
– Мне кажется, все дело в стиле. Эта фигурка, например, совершенно не похожа на те, что встречались мне прежде. Она может означать непереведенное до сих пор слово или просто являться вариантом уже известного нам понятия. Как это узнать? – Гюрзэн отошел от конторки и устремил взгляд в окно, словно ответ висел где-то там – в полуденном воздухе Фив.
Они находились в приемной виллы Мадлен, превращенной в большой кабинет путем перемещения диванов и всей остальной мебели в столовую и одну из спален. Теперь тут главенствовали широкий раскладной стол и два запирающихся секретера.
– Эхнатон, – сказала Мадлен, заглядывая в письмо. – Этот фараон нам поможет. Если верить тому, что говорит Сен-Жермен, мы еще с ним столкнемся. Он перенес столицу – должно же об этом хоть где-то упоминаться.
– Если только последующие правители не повелели стереть с камней его имя, – заметил Гюрзэн. – Такое случалось.
– Да, вы говорили, – кивнула Мадлен. – Тем не менее, если бы нам удалось сыскать одну-единственную зацепку, мы сумели бы разобрать очень многое и, может быть, даже восстановить хронологию. – Ее фиалковые глаза засияли. – Как бы мне хотелось использовать это письмо! Каждое слово в нем ценно. Но как объяснить, откуда оно у меня? Как на него ссылаться, не создавая при том… трудностей ни для себя, ни для Сен-Жермена?
– Никто не поверит ни вам, ни ему, – проворчал коптский монах. – Скажут, что все это выдумка, да и только. Всегда легче сомневаться, чем верить. – Какое-то время он сосредоточенно делал пометки на полях лежащего перед ним листа, потом отложил карандаш. – Сен-Жермен со мной никогда особо не откровенничал, но я почему-то верю, что он знает прошлое не понаслышке. И то, что у вас в руках, служит лишним тому подтверждением – разве не так?
– Да, – настороженно согласилась Мадлен. – Более или менее служит.
Гюрзэн, помолчав, склонился над иероглифами. Через какое-то время он снова заговорил.
– Дитя мое, все, что вы сочтете нужным доверить мне, останется тайной, как если бы это было доверено Господу. Я не сделаю ничего, что могло бы повредить вам или Сен-Жермену. Я вполне сознаю, что и вы, и он в чем-то не похожи на остальных людей.
Мадлен сложила письмо и спрятала в сумочку, с которой не расставалась.
– Разумное предположение, – сказала она негромко.
– Видите ли, я учился у Сен-Жермена. Он появился здесь в тысяча восемьсот третьем году, если считать по вашему календарю, и пробыл до тысяча восемьсот девятнадцатого года. За все это время я не заметил в нем никаких перемен. Речь не о том, что мы не замечаем перемен в близких людях, ибо ежедневно видимся с ними. Он действительно совершенно не изменился. Когда мы с ним познакомились, на вид ему было лет сорок пять, а когда уезжал, я бы дал ему столько же. – Гюрзэн отошел от стойки. – Он ничего не объяснял, а я не выпытывал.
– Он старше, чем выглядит, если на то пошло. И я тоже, как уже говорила, – отрезала гневно Мадлен, надеясь, что никто из прислуги их не подслушивает.
– Никлос Аулириос, – кротко продолжил монах, словно не замечая ее раздражения, – успел рассказать мне – до того, как его расстреляли французы, – что помнит еще времена римского императора Диоклетиана и что именно Сен-Жермен подарил ему столь долгую жизнь. – Монах в коптской манере осенил себя крестным знамением. – У него не было причин лгать.
– Я не знала Никлоса Аулириоса, – сказала Мадлен, – но слыхала о нем. – Она и вправду слыхала. И теперь ее вдруг кольнул вопрос: почему Сен-Жермен счел необходимым снабдить Оливию Клеменс верным слугой, а для нее ничего такого не сделал? Как-нибудь, сказала она себе, надо будет его об этом спросить. Набраться смелости и спросить… приблизительно через полвека.
– У Сен-Жермена был слуга, светловолосый, худой, – продолжал Гюрзэн, словно заглянув в ее мысли. – За время жизни здесь он тоже не состарился ни на год, хотя выглядел чуть постарше хозяина.
– Роджер, – кивнула Мадлен. – Я его знаю.
– Аулириос сказал, что Роджер родился в эпоху Флавиев и что Сен-Жермен много его старше. – Монах потер глаза. – Мне нужно бы отдохнуть. Если позволите, я прервусь… ненадолго.
– О, конечно, – оживилась Мадлен. – Хотите чашечку кофе?
– А вы присоединитесь ко мне? – поинтересовался Гюрзэн, так вежливо и невинно, что это походило на вызов.
– Нет, но… спасибо. – Она взяла в руку колокольчик. – Итак?
Гюрзэн рассмеялся.
– Кофе – моя слабость. – Он с хрустом потянулся, потом спохватился: – Простите, мадам. Утром я отбивал поклоны, и мне казалось, что скрип моих старых суставов разбудит весь дом.
Мадлен сочувственно закивала.
– Тогда вам нужен не кофе, а чай. С корой ивы. У меня есть запас. И трецветка тоже найдется. – Колокольчик весело зазвенел. – Только мигните – и вам это все принесут.
– Благодарю, но все-таки не сейчас. – Копт улыбнулся.
– Как пожелаете, – сказала Мадлен и развернула свиток. Длинная полоса бумаги, подклеенная во многих местах, норовила свернуться. – Эти две птички почему-то всегда изображаются вместе. – Мадлен наморщила лоб. – Как бы уговорить молодого британца помочь нам? – Она имела в виду вовсе не юношу, в чьи сновидения время от времени ей доводилось вторгаться, а его товарища, отменного аналитика, умевшего нестандартно мыслить.
– Вы говорите об Уилкинсоне? – поинтересовался Гюрзэн.
– Да, кажется, его так зовут. Он здесь пятый год, мне сказали. – Мадлен ноготком прикоснулась к одному из рисунков. – Видите, эти люди собирают камыш, а ниже идет подпись. Дальше трое египтян измельчают камыш – и опять подпись.
– Они изготовляют папирус, – прокомментировал коптский монах и умолк, ибо в дверях возник слуга-мусульманин.
– Чего желает мадам? – почтительно, однако без лишнего подобострастия спросил он и поклонился.
– Я хочу, Реннет, чтобы вы выслушали брата Гюрзэна и принесли то, что он вам закажет. – Мадлен потянулась к мешочкам, набитым песком, и стала осторожно переносить их на свиток, чтобы прижать непокорную бумагу к столу и умудриться при этом не повредить места склеек.
– Принесите кофе, пожалуйста, и немного вина, а к ним какую-нибудь выпечку, но без фруктов и меда, – сказал монах. Он сделал благословляющий жест и прибавил: – Благословение последователя Святого писания не оскорбляет Аллаха.
– Вы живете по Библии, – произнес бесстрастно Реннет, отвешивая второй поклон. – Ваше повеление будет незамедлительно выполнено. – Он повернулся и вышел.
Гюрзэн пожевал губами.
– Ему наверняка не понравилось, как мы здесь праздновали Рождество, ведь он живет не по Библии, а по Корану.
Мадлен пожала плечами.
– Если он обращает на это внимание… Разве не достаточно того, что я чужестранка?
– Более чем достаточно, потому-то он так пристально и следит за каждым вашим шагом. Очень разумно с вашей стороны, что вы не даете ему повода для пересудов. – Гюрзэн внимательно посмотрел на Мадлен. – Очень разумно.
– Вы полагаете, он… подслушивает? – спросила Мадлен после длительной паузы.
– Не он, так кто-то другой, – ответил монах. – Вы чужеземка, и вы в Египте. Разумеется, вас подслушивают. – Он прошелся по комнате и остановился возле одного из секретеров. – Какие материалы вы здесь храните?
– Полевые дневники, переводы, отчеты, – пробормотала Мадлен, сосредоточенно изучая рисунки. – Зачем вы спрашиваете? Вам это известно и так.
– Вы уверены в прочности этих замков?
– Ключ я ношу с собой, – ответила она, поднимая глаза. – А что? Вы думаете, они ненадежны?
Гюрзэн какое-то время молчал.
– Я думаю, тот, кому по плечу обчистить чью-либо усыпальницу, легко с ними справится. Я думаю, будь у меня такие шкафы, я бы хранил что-то ценное в другом месте. – Он повернулся к Мадлен. – А здесь я бы поместил что-то второстепенное, но имеющее первостатейный вид.
– Как приманку? Или для отвода глаз? – уточнила Мадлен, усмехаясь.
– И как первое, и как второе, – серьезно ответил Гюрзэн. – Вы никогда не замечали, что с запорами что-то неладно?
– По-моему, нет, – сказала Мадлен, но тут же сдвинула брови. – Постойте, примерно неделю назад мне показалось, будто ключ в одном из замков слишком легко провернулся. – Она склонила голову к плечу. – Вы думаете, кто-то из слуг пытался его вскрыть?
– Весьма вероятно, – с тяжелым вздохом ответил Гюрзэн. – Прискорбно, когда прислуга ведет себя столь недостойно. – Он сложил молитвенно руки. – Я для них, впрочем, тоже чужой.
– Потому что вы христианин, а не мусульманин? – удивленно спросила Мадлен. – Вы ведь, как и они, местный житель. Неужели различия в отправлении религиозных обрядов достаточно, чтобы видеть в земляке чужака?
– Для некоторых из них – да. Для других – это вопрос скорее удобства, нежели веры. – Копт на секунду прикрыл глаза, потом другим тоном спросил: – Кто-нибудь из коллег заходил к вам в последнее время?
– Профессор Пэй и профессор Ивер. Пять дней назад, вы должны помнить. Сначала мы прочли рождественские молитвы, а потом работали здесь допоздна. – Она обвела взглядом приемную. – Часы в вестибюле били одиннадцать, когда они уходили.
– Я имею в виду нечто более неформальное. Кто-нибудь наведывался к вам… частным образом? – Монах подошел к окну. – Вы как-то обмолвились, что профессор Бондиле демонстрирует… гм… неравнодушие к вашей особе.
– Да, но он не такой дурак, чтобы заявиться сюда. Нет ничего триумфального в рандеву, когда кавалер в доме дамы. Вот если дама рискнет навестить кавалера под вечерок, тогда торжество его будет полным и абсолютным. – Мадлен натянуто улыбнулась. – Бондиле не хватает женского общества, а я здесь единственная европейка, с какой он, можно сказать, на короткой ноге.
– Это вас беспокоит? – спросил Гюрзэн и умолк, ибо в комнату вошел Реннет с подносом в руках.
– Куда поставить, мадам? – спросил слуга.
Мадлен оглянулась.
– Думаю, на квадратный сундук. Его крышка достаточно широка. – Она жестом пригласила Гюрзэна к импровизированному столу. – Спасибо, Реннет.
– Мадам, – с поклоном ответил тот и удалился.
Придвигая к сундуку стул, Гюрзэн сказал:
– Может быть, не мое это дело, мадам, но поведение вашего Бондиле внушает тревогу. Он присвоил вашу работу, выдав ее за собственную, он домогается вас. От таких добра не жди.
– Как и от многих, – отмахнулась Мадлен, опять наклоняясь к свитку. – Он хочет взять надо мной верх, но, к счастью, у него очень скудное воображение.
Гюрзэн на то ничего не ответил и занялся кофе, но позже, когда дальняя колоннада стала отбрасывать длинные контрастные тени, он решил высказаться еще раз:
– Если вы отдадите предпочтение кому-то другому, это не обрадует Бондиле. Он не из тех, кто мирится с поражением.
Мадлен рассмеялась, но смех ее был печальным.
– В романтических устремлениях Бондиле нет личностной нотки. Я сама не интересую его, я нужна ему лишь как женщина, чтобы не испытывать неудобств. Там, где нет страсти, нет и почвы для ревности.
– Не сбрасывайте его так легко со счетов, – не отступался монах. – Он жаден, а значит – опасен.
– Ладно, – сказала Мадлен и, встав со стула, огладила платье, – если у меня появится кавалер, я буду соблюдать осторожность, а пока постараюсь держать профессора на расстоянии. – Она поморщилась, вспомнив об инциденте в маленьком зале старинного храма.
– Вот и прекрасно, – улыбнулся Гюрзэн, закрывая рабочий блокнот. – Полагаю, на сегодня достаточно. Время вечерних молитв.
– Да, – кивнула Мадлен. – Мне тоже пора отдохнуть. Правда… – Она осеклась и умолкла.
– Что-то не так? – спросил участливо копт.
– Нет, все в порядке. Я просто забыла, что нынешним вечером ко мне обещал заглянуть доктор Фальке. – Она подошла к секретеру, побарабанила пальцами по полировке, потом подергала дверцу. Неужели кто-то подбирается к ее записям? Но зачем? – Я послала ему записку с сообщением, что в текстах, какие мы успели перевести, пока что не обнаружилось ничего, относящегося к медицине, но он все же попросил разрешения их просмотреть. Он приедет, как только закончит прием больных. Где-то к восьми, я полагаю.







