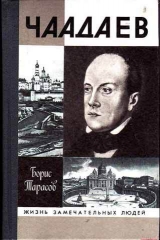
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
4
Чаадаев довольно долго работал над расширенным ответом Пановой, к моменту его окончания уже прервал с нею знакомство и не отправил послания ничего не подозревавшему адресату. Но эпистолярная форма решительно выбрана, и последующие письма, станет позднее объяснять их автор московскому обер-полицмейстеру, написаны «как будто к той же женщине».
В начале второго философического письма Чаадаев возвращается к наставлениям своей корреспондентке, прерванным философско-историческими размышлениями, и продолжает разговор о «благоустроенной жизни», «навыках сознания», поддерживающих высокий душевный настрой. «Даме» необходима «новая среда бытия», где «свежие мысли» и «новые потребности», внушенные его религиозными беседами, нашли бы действительное приложение и тем самым рассеяли ее тоскливое беспокойство. Он рекомендует ей внести нарядность и изящество в убранство усадьбы, что нужно не для вульгарных чувственных удовольствий, а для всецелого переключения внимания на решение внутренних проблем. Одна из самых поразительных черт нашего бытия, замечает Петр Яковлевич, заключается в пренебрежении каждодневными радостями, доставляемыми окружающей обстановкой. «В этом безразличии к жизненным благам, которое иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни».
В старых цивилизованных странах Запада, продолжает он, давно сложились бытовые образцы, из которых можно просто выбрать подходящий для соответствующего образа жизни. У нас же, неожиданно повышает Петр Яковлевич интонацию, напоминающую взволнованные антикрепостнические речи его друга Н. И. Тургенева, «вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опротивел самому себе?»
В этих горьких словах, конечно, также отражался личный опыт Чаадаева, чей пламенный гнев против крепостного права находился в «вечном противоречии» с постоянным пользованием его плодами. И не только бремя «проклятой действительности», но и внутренние причины мешали ему привести в соответствие со своими взглядами обыденное существование и отказаться от такого пользования. Однако о внутренних причинах он предпочитает пока не думать и делает небольшой исторический экскурс, снова отмечая социальную пассивность православной церкви, которая «не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой».
Возвращаясь к советам своей корреспондентке, Петр Яковлевич рекомендует ей постоянно искать «мягкое и простое» душевное настроение, при котором «истины откровения» проникают в сердце человека самыми разными путями – и покорной верой, и простодушным благоговением, и вдохновенным размышлением. И здесь Чаадаев отступает от обличительных и пропагандистских интонаций (рассчитанных на эмоциональное воздействие), от историко-публицистических рассуждений.
Уже во втором философическом письме, а также в третьем и четвертом, говоря о параллелизме материального и духовного миров, о путях и средствах познания природы и человека, о пространстве, времени, движении, он разворачивает философские и научные доказательства своей главной идеи: «В человеческом духе нет никакой иной истины, кроме той, которую своей рукой вложил в него Бог, когда извлекал его из небытия». Следовательно, неверно объяснять поступки человека исключительно через его собственную природу, как часто делают философы. И все движение человеческого духа, подчеркивает автор, является «следствием удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума».
Значительная часть третьего философического письма посвящена как раз рассмотрению подчинения человеческого жизнепонимания высшему началу, внешней силе, своеобразно обнаруживающей свое проявление и в физическом, и в нравственном мире. «С самого первого пробуждения разума эти два рода познания, одно – силы, внутри нас находящейся и несовершенной, другое – силы, вне нас стоящей и совершенной, – сами собой проникают в сознание человека». Именно высшая внешняя сила, ограничивающая внутреннюю центробежную, рождает в человеке, по мысли Чаадаева, единящие идеи долга, справедливости и т. п. и ставит его в общий порядок зависимости, ведущей людей к осуществлению их предназначения.
Доводя до известного предела ход своей мысли, Чаадаев рисует картину идеальной жизни «совершенной подчиненности», которой человек когда-то обладал и которая обещана ему в будущем. Результат полного отказа от субъективной свободы и беспримесного, ничем не тормозимого подчинения управляющему миром высшему началу представляется ему в самом общем виде как «полное обновление нашей природы в данных условиях» – окончательное преодоление всякого индивидуализма и обособленности людей друг от друга («уничтожение своего личного бытия и замена его бытием вполне социальным») и от всего сущего («предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира»). Как видим, с еще одной стороны приходит Чаадаев к центральной своей теме «царства божия» на земле, гармония которого выражается им в абстрактной терминологии («великое слияние нашего существа с существом всемирным», «вечно единое пребывание» и т. п.), напоминающей масонскую.
В четвертом философическом письме, переходя к анализу движения физических тел, Чаадаев заключает, что неумолимая логика заставляет говорить о нем как о следствии находящегося вовне источника. А поскольку движение является всеобщей формой существования любых явлений в мире, то сказанное распространяется на движение умственное и нравственное, также имеющее внешний побудитель. Приведенные аналогии подсказывают ему и вывод: собственные волеизъявления человека немыслимы без соединения с другой высшей силой, подобно тому как притяжение действует в совокупности с силой вержения.
В пятом философическом письме автор как бы подводит итог рассмотрению единства духовного и материального порядков бытия. «Подобно тому, как некая построяющая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, то есть воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, то есть воспроизведение душ, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как единое и единственное сознание».
В представлении Чаадаева, мировое сознание является всеобъемлющей средой, в лоне которой происходит зарождение и передача во времени от поколения к поколению всех идей, живущих в памяти людей. Главным рычагом в такой передаче различных сторон духовного всеединства служит слово, создающее исторические и научные традиции в мировой памяти. «Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее, а между тем – движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире сознания».
Существуют глубинные, как бы бессознательные, традиции, вкладываемые в глубину души «неведомой рукой», зарождаемые в сердце ребенка первой улыбкой матери или первой лаской отца, воспринимаемые вместе с воздухом общественной атмосферы, вливаемые в умы поколений уходящими к историческим истокам представлениями. «Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания – вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей – вот и вся их родословная». Сама же эта родословная уходит за исторические истоки, к той «неведомой основе», из которой вырастает человеческий дух.
Выражая все новые грани своей «одной мысли», Чаадаев приходит к важному предварительному итогу: «Путем наблюдения действительности мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку», без которого ничто бы не двинулось не только в природе, но и в духовном мире, не сформировалось бы ни индивидуальное и мировое сознание, ни общество. Традиция, понимаемая в самом широком и глубоком смысле, и является принципом длительного и непрерывного продолжения мгновенного первотолчка, движущей силой «великого закона постоянного и прямого воздействия высшего начала». Ведь даже, казалось бы, самые индивидуальные наши мысли являются результатом более или менее удачного использования той доли мирового разума, которую мы восприняли в продолжение своего существования. «Лишенные общения с другими сознаниями, мы мирно щипали бы траву, а не рассуждали бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной вселенной, ничего в мире сознаний не может быть постигнуто совершенно обособленно, существующим самим собою».
5
Совершенно обособленно, без непрерывного продолжения первичного воздействия, считает автор, нельзя также правильно понять движение и направление исторического процесса, о котором идет речь в шестом и седьмом философических письмах. Провиденциалистская точка зрения, до его мнению, полезна исторической науке, погрязшей в фактособирательстве и в бесплодных выводах либо о необъяснимом «механическом совершенствовании» человеческого духа, либо о его беспричинном и бессмысленном движении. «Человеческий дух для нее, как известно, – снежный ком, который, катясь, увеличивается». Однако накопление любого количества фактов не приводит к полной достоверности, даваемой лишь их распределением, группировкой, пониманием в свете осознания нравственного смысла различных исторических периодов. Только тогда, по мнению автора, историческая наука сумела бы достигнуть единства и высокой поучительности, неизбежно вытекающей «из ясного представления о всеобщем законе, управляющем сменою эпох».
Следовательно, история должна стать составной частью религиозной философии и получать характер истины не от хроники, а от нравственного разума, улавливающего проявления и воздействия «совершенно мудрого разума».
В разные эпохи существуют «избранные умы», в наиболее чистом виде выражающие эти проявления и воздействия вследствие их способности пожертвовать автономной свободой и покориться «начальным внушениям», рожденным «не собственным, а иным разумом». Таковы в свете чаадаевского понимания историзма библейские пророки, эти «герои мысли», которым «Бог доверил хранение первых слов, произнесенных им в присутствии творения» и через которых передается «первичный факт нравственного бытия».
Боговоплощение, отделяющее древний мир от нового, занимает в размышлениях Чаадаева центральное место: оно расширяет и укрепляет религиозное единство истории, распространяя «истины откровения» в широкие народные массы разных национальностей. В начале христианской эры «сходятся все времена» и прошлое человеческого рода сливается с его будущим.
Чтобы это единство не превратилось лишь в воображаемое и не исчезло с лица земли, первоначальное христианство должно было, по мысли автора, бороться с многообразными проявлениями человеческого несовершенства и пагубным наследием язычества и – соответственно – изменяться в зависимости от особенностей исторического времени и своеобразия потребностей различных народов. Поэтому, по его мнению, для своего самосохранения и торжества христианство встало перед необходимостью пройти «через все фазы испорченности, принять все отпечатки, какие только могла наложить на него свобода человеческого разума».
Примером такой разумной стратегии, преломляющей «божественное действие», служит для Чаадаева папство, которое, несмотря на совершенные ошибки, испытанные невзгоды и нападки неверия, остается для него «видимым знаком единства» и «символом воссоединения».
Именно благодаря католичеству, замечает Чаадаев, произошло необходимое для мирового прогресса объединение европейских народов в одно социальное тело, в одну духовную семью. «История средних веков – в буквальном смысле – история одного народа, народа христианского. Главное содержание ее составляет развитие нравственной идеи, чисто политические события занимают в ней лишь второстепенное место».
История, в понимании Чаадаева, должна не только уяснить «всеобщий закон» смены эпох и суметь выделить в них традиции послушнического продолжения «первичного факта нравственного бытия», но и тщательно перепроверить с этой точки зрения «всякую славу», совершить «неумолимый суд над красою и гордостью всех веков» и отвести в воспитании человеческого рода соответствующие места сошедшим с мировой сцены народам.
Причину непрочности и недолговечности старых цивилизаций Чаадаев видел в том, что в предоставленном там самому себе человеке выдвигается на первый план материальное начало, после удовлетворения которого он более не прогрессирует. И потому «чисто человеческое» развитие неизбежно заканчивается состоянием неподвижности.
Одним из самых поразительных примеров ложности ходячих исторических репутаций, обусловленных школьными привычками мысли и прелестью обманчивых иллюзий, является для него Греция, под пьянящим обольщением «дивных вдохновений гения» которой он и сам когда-то находился, расточая «фимиам на алтари кумиров».
Но когда «понятие об истине» озарило его, вспоминает Чаадаев флорентийские музеи и беседу с Куком, он без уверток принял все соответствующие выводы. В восхищавших его когда-то греческих статуях Петр Яковлевич видит теперь торжество материально-чувственного принципа, пробуждающего нечистые помыслы и гасящего нравственные устремления. Ибо восхищение такого рода, замечает он, вызывается самой низменной стороной нашей природы, поскольку «мы постигаем эти мраморные и бронзовые тела, так сказать, нашим телом», а «вся красота, все совершенство этих фигур происходит исключительно от полнейшей тупости, которую они выражают; стоило бы только проблеску разума проявиться в их чертах, и пленящий нас идеал мгновенно исчез бы».
Античное искусство представляется автору идеализацией и обожествлением человеческой телесности, «апофеозом материи», в результате чего «наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше нравственное существо умалилось». Чаадаев искал еще более суровые слова для пересмотра и осуждения поэзии Гомера, являющейся, по его мнению, прообразом античной скульптура. Настанет день, пророчествует автор, когда имя этого «преступного обольстителя» и «развратителя людей», воспевшего «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле», будет вспоминаться «с криком стыда». В его глубоко материальной и снисходительной к порокам «поэзии зла» Петр Яковлевич находит удивительное обаяние, убаюкивающее разум и отвращающее его от «воспоминаний о великих днях творения».
Чаадаев видел в целостном духовно-географическом регионе античной культуры страну «обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей земле соблазн и ложь».
Общее отрицательное воздействие античности, вошедшей через науку, философию, литературу эпохи Возрождения жизненно деятельным элементом в состав нашего разума, он считал столь великим, что сомневался даже в своей излюбленной идее непрерывного и последовательного движения человечества к «высшему синтезу»: «Чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память».
Каждому народу, замечает он, необходимо рассмотреть различные эпохи его прошлой жизни, уяснить особенности своего настоящего существования, чтобы проникнуться предчувствием и в какой-то степени «предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем». В ходе подобного осмысления, пишет Чаадаев, у всех народов выработалось бы подлинное национальное самосознание, заключающее в себе очевидные истины, глубокие убеждения и положительные идеи, освобождающее людей от местных пристрастий и заблуждений и ведущее их к одной цели. Только от такого самосознания, замечает он, а не от успехов просвещения вообще, как полагали декабристы, зависит «гармонический всемирный результат», когда нации могут протянуть друг другу руки в «правильном сознании общего интереса человечества», совпадающего с «верно понятым интересом каждого отдельного народа», поскольку деятельность и частных индивидов, и великих человеческих семейств обусловлена личным чувством обособленности от остального рода, а также осознанием вполне самостоятельного существования и призвания.
«Итак, – подытоживает автор, продолжая аналогию между индивидуальным и коллективным бытием, – космополитическое будущее, обещанное нам философией, не более как химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности, надо чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не уклоняться со стези добра, которою они идут… лишь в ясном понимании своего прошлого почерпнут они силу воздействовать на свое будущее».
Чаадаев как бы возвращается к разговору о личных проблемах «дамы», о противоречиях в судьбах России, о европейских достижениях, но уже на основе всего круга пройденных размышлений. Поэтому первое философическое письмо с его тезисами и выводами может быть прочитано вслед за седьмым, как его логическое продолжение. Поставив ряд волнующих его проблем в эмоционально-публицистическом ключе, автор словно требует их повторного и более широкого рассмотрения в свете беспристрастного знания.
А в восьмом, и последнем, философическом письме, отчасти носящем методологический характер, он пытается несколькими словами объяснить необходимость этого приема в своей проповеди уже не только индивидуальным своеобразием корреспондентки, как в первом, но и особенностями современного духовного состояния вообще. Сейчас, в эпоху хиреющего чувства и развившейся науки, нельзя, по его убеждению, ограничиваться упованием сердца и слепой верой, а следует «простым языком разума» обратиться прямо к мысли, «говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата», чтобы с учетом всевозможных настроений и интересов «увлечь даже самые упорные умы» в лоно «христианской истины».
В заключение автор провозглашает: «Истина едина: царство божие, небо на земле, все евангельские обетования – все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого бога, иначе говоря – осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез».
6
Удалившись от московского общества в 1828–1830 годах, Чаадаев в основном завершил работу над циклом философических писем, что явилось для него событием огромного значения, дающим сознание личностной полноты и твердости нового социального качества и способным вывести из тяжелого кризиса.
Именно в это время полностью оформился замысел и написана существенная часть цикла, авторское понимание своеобразия которого передано им позднее в послании к Вяземскому: «Точка зрения, с которой я рассматриваю свой предмет, мне кажется оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и в мир социальный, так как оба эти мира в наше время, если только я грубо не ошибаюсь, составляют один общий мир».
Чтобы довести свою убежденность до сознания современников, Петр Яковлевич испытывает потребность искать союзников, разумеется, не только и не столько среди женщин, сколько в главных умственных силах русского общества. Одной из них является бесспорная, но загадочная для Чаадаева сила переменившегося Пушкина, чье чтение «Бориса Годунова» долго не выходило у него из головы. Поэт был, пожалуй, единственным человеком, кем «угрюмый нелюдим», как выражался о Петре Яковлевиче его племянник, не переставал интересоваться в самую тяжелую пору своих переживаний.
Несомненно, Петр Яковлевич весьма рассчитывал на мощь поэтического выражения Пушкина в распространении среди соотечественников своей «одной мысли». Когда-то он «поворотил на мысль» юного поэта, увлекая его либеральными идеями. Но тогда было время, напишет он автору «Бориса Годунова» в 1831 году, «немногого стоившее» – «с ложными ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого возраста неведения». Теперь же, думает Петр Яковлевич, надо внедрить в сознание зрелого писателя «одну мысль».
Чтобы понять реакцию Пушкина на новую проповедь старого друга, превратившегося из гусарского офицера с задатками Брута и Периклеса, из бесстрастного наблюдателя ветреной толпы в религиозного философа и аналитика мировых эпох, необходимо учитывать определенные особенности творческой личности поэта и его художественных задач в последнее десятилетие жизни.








