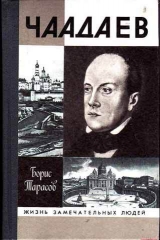
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
9
Испытывая необычное наслаждение от «беспредельных путешествий» по «океану абстракта», Чаадаев вместо с тем ищет, как и в Евангелии, необходимого (эту необходимость он особенно остро почувствовал, читая «мистический дневник» Облеухова) ему заземляющего корректива в отчасти знакомых еще с заграничного путешествия трудах социально ориентированных католических мыслителей Франции, существенно дополняющих его «философию достоверностей». У представителя «глубокой и мечтательной Германии» оставался в тени важнейший срез современной действительности – небывалая устремленность людей к общественной справедливости. И в этом вопросе, как и во всех прочих, необходимо, считает Петр Яковлевич, отличать «божественное действие» от человеческого произвола, ведущего к кровопролитию и чреватого, подобно декабристскому восстанию, неизбежными поражениями. По его мнению, революционные проповедники «забыли» христианское происхождение пропагандируемого ими социального братства. «Обратите внимание на слово «брат», не известное древним, – обращается он к ним на полях одной из книг. – Могущество слова – очевидное действие христианства». И кровь будет бесполезно литься до тех пор, заключает Чаадаев, пока люди не обратятся в своих устремлениях к их истокам и традициям, на прочном фундаменте которых только и можно успешно строить заветное здание чаемого братства.
Подтверждение таким мыслям он находит в сочинениях Балланша (позднее он скажет, что на его симпатиях построил свою философию), духовное развитие которого отчасти напоминает ему собственное. В его книге «Человек без имени» Петр Яковлевич подчеркивает слова о крайнем смешении гнусных страстей и благих намерений в событиях Великой французской революции, когда необразованные ремесленники взялись за созидание судеб человеческого рода, как будто до них не существовало никакого общества. В этом хаосе человеческих мечтаний, оставивших в забвении совокупный опыт прошлого и сломя голову устремившихся в будущее, он видит последствия проявления в политической сфере кантовского «искусственного разума». Видимо, думая о своем сходном поведении в кругу друзей декабристов, Чаадаев особо выделяет то место, где автор говорит о невозможности для него перейти барьер преступления и о собственных попытках умиротворить жаждущих испить из кровавой чаши.
В двухтомном сочинении «Опыт социальной палингенезии» Балланш, повествуя о личных метаморфозах, замечает, что «христианская муза» почти насильно увела его из среды революционеров и заставила обратиться к вековым традициям, через соответствующее преломление которых в различных эпохах до него доносится голос «первоначального откровения». Европа, читает Петр Яковлевич его призывы, не должна отказываться от старых католических устоев и воспоминаний, ибо только с помощью их непрерывной преемственности в новейшей цивилизации возможно ее дальнейшее поступательное движение. Общество, потерявшее свое прошлое, выпадает из цепи совершенствования и не имеет перспективного будущего. Такова воля провидения, через своих избранников ведущая человеческий род к бесконечному прогрессу. Когда бог открылся человеку во времени, отмечает Чаадаев авторское рассуждение, то стал говорить на их языке. И в современную эпоху, когда затухают старые социальные верования и зарождаются новые, нужно уметь находить в этих изменениях единую нить замысла творца, обнаруживающуюся теперь в науке и либерализме, как некогда в Священном писании, требующем сейчас в соответствии с духом времени иных толкований. По убеждению Балланша, внявшего, как считает Петр Яковлевич, «высшему разуму», только «прогрессивный традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и свободолюбие, способен глобально и оптимистически обосновать социальную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я надеюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь показать историю общества от его темного зарождения и таинственной колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества… Осмелюсь оказать, что более широкий исторический синтез невозможен».
Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева, как волновали его и мысли соотечественника Балланша Ламенне. «Московский Ламенне» (так называл Петра Яковлевича А. И. Тургенев) находит у «французского» столь необходимое ему различие (и не в отвлеченных категориях, а в приложении к социальной действительности) между автономным и покорным «верховной воле» разумом. Главная ошибка современного человека, замечает автор «Опыта о безразличии в делах веры», заключается в том, что ответы на вопросы о своем происхождении, долге и судьбе он ищет в собственном единичном сознании, а не в совокупности с другими людьми и с магистральными традициями, восходящими к началу всех времен. Замена связующего «божественного закона» разделяющим человеческим разумом является, по его мнению, основным принципом любой революции, обусловливающим остальные, производные и губительные, последствия – распад отделенных друг от друга сознаний и самоуничтожение человечества. В книге Ламенне Чаадаев отмечает любые примеры, подтверждающие этот вывод. В частности, его заинтересовывают наблюдения итальянских врачей, подсчитавших, что в прошлом веке католики, подчинявшиеся освященному традицией авторитету, с ума сходили в восемнадцать раз меньше, нежели протестанты, предпочитавшие опираться на свой «свободный» рассудок.
И чтобы не свихнуться всему человечеству, в сомнениях и колебаниях пребывающему сейчас между развалинами прошлого и сумерками будущего, необходимо, считает французский философ, отказаться от «частного разума» и восстановить, пока не поздно, преемственное развитие «первых истин», вложенных в души людей самим богом. Именно это развитие представляет собой память человеческого рода, с помощью которой, по его мнению, приобретается и постоянно сохраняется его единство, предопределяющее и эволюцию науки, искусства, законодательства, политики, всего общества в целом, в гармонизирующем направлении: «Человеческий род един, как и отдельный человек, хотя различным образом, и даже его прогресс состоит отчасти в постоянном приближении к полному единству, к которому он тяготеет, следуя общему закону бытия».
Петру Яковлевичу нравится стремление Ламенне свести «на больших расстояниях» прошлое и будущее, найти точки соприкосновения и связи между христианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни и установить прочный союз религии и разума.
«Примиряющие», «синтезирующие» мотивы еще во Франции привлекли внимание Чаадаева к произведениям Сен-Симона и, его учеников, отвергавших личное спасение души и проповедовавших в «новом христианстве» сведение «неба» на «землю», соединение религии со всеми проявлениями бытия и эволюции «рода людского как органического целого»: «Вселенная – это и есть бог, ибо все, что заключено в нем – небеса, земля, человечество, – все связано, все едино, все предназначено для общей судьбы, все выражает любовь, вечное Провидение». Провидение же, обращается Сен-Симон к папе римскому, «имеет целью делать людей счастливыми не только на небе, но и на земле. Ваша миссия должна заключаться в том, чтобы организовать человеческий род по основному началу божественной морали…» А вследствие такой организации, как бы продолжает рассуждение учителя его последователь-соотечественник, «закон прогресса любви и надежды станет священным заветом, ибо христианская догма кары и воздаяния, основанная на представлении о царстве Сатаны, неугодна богу. Человек не проклят, он неуклонно поднимается с низших ступеней на высшие; люди не обречены на одиночество – они могут жить в самом тесном единении, нет отверженных – все избраны».
Подобное умонастроение прочно отложилось в сознании Петра Яковлевича. И когда он вскоре выступит с проповедью своей собственной философии, П. А. Вяземский скажет о нем, что он «сен-симонствует». Чаадаев же не сен-симонствовал, а по мере духовного развития, накопления исследовательских выводов и выработки собственной позиции как бы вытягивал христианство своей; расширяющейся «философией достоверностей» из запредельной области и упорно продолжал искать его проявления во всей совокупности бытия, прежде всего, повторим, в ведущих тенденциях текущей социально-культурной и научной жизни.
10
Постепенно у Петра Яковлевича созревает решение доказать маловерам, как он убеждал себя, «полную разумность» этого учения, для чего необходимо, замечает он на полях читаемых сочинений, «сочетаться с доктринами дня», использовать «рациональную манеру», применить физический, математический и биологический «маневр». Надо показать, думает Чаадаев, что христианство заключает в своем лоне не только науку, философию, историю, социологию, но и самую жизнь в единстве ее таинственной непрерывности и беспредельной преемственности. И только в таком религиозно обусловленном единстве, возражает он, с одной стороны, декабристам, а с другой – сторонникам «чисто человеческого» совершенствования, возможен прогресс, долженствующий, если он подлинный, основываться на христианской идее бесконечности. Готовясь сказать миру свое слово, Петр Яковлевич записывает на полях книги Ремера «Очерк общественной жизни в Европе до начала шестнадцатого столетия»: «Христианство, кроме своего абсолютного значения, обладает еще способностью всегда согласовываться с потребностями своей эпохи, это результат совершенной истины самого его принципа. Бережно и нерушимо сохраняя основное своего учения, оно бесконечно изменяется в своей внешности. Только остается чувство подчиненности единству, принципу всей нравственной и прочей жизни. Это непременное следствие истины, которая всегда царила в христианстве и которой христианский ум должен всем пожертвовать вплоть до своих самых глубоких убеждений».
Подчинение единству, в котором все области человеческой жизнедеятельности сводятся к религиозному началу, соответственно «жертвенно» освещаемому и предопределяющему дальнейший путь должной общественно-духовной эволюции, составляет основную тональность творческих устремлений Чаадаева, его «одну мысль», называемую им в упоминавшемся письме к Шеллингу «великой мыслью о слиянии философии с религией»: «С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и цель всей моей умстванной работы. Весь интерес моего существования, вся любознательность моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и главный интерес человечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем, который я приносил для построения храма, где все люди должны будут когда-нибудь сойтись для поклонения, в совершенном знании, явному Богу».
Многие страницы обдумываемых философических писем будут подчинены главной цели – доказательству наличия «первотолчка», «божественного откровения»; «вмешательства Божьего промысла» в бытие природы и духа, без чего, по убеждению их автора, невозможно предположить закругленность мировой жизни, единство ее начала и конца. По логике Чаадаева, только признав божественное откровение в начале мировой жизни и его «покровительство» в ее процессе, можно обосновать царство божие в ее конце, поступательное движение социального прогресса на протяжении всего исторического пути.
Таким образом, наряду и в органической связи со слиянием философии с религией на монопольное право «одной мысли» в рассуждениях Петра Яковлевича претендует и то, что он называл «моей страстью к прогрессу человеческого разума», «предчувствием нового мира», «верой в будущее счастье человечества». Хотя обретение этого счастья и обусловлено самостоятельным творчеством человека, оно возможно, по его мнению, лишь при прямом и постоянном воздействии «христианской истины», которая через непрерывное взаимодействие сознаний разных поколений образует канву социально-исторического развития, основу «всемирно-исторической традиции», способствующей «воспитанию человеческого рода» и поступательному, объективно целенаправленному прогрессу общества. Именно эта истина и является, как он полагал, действительным источником по-настоящему абсолютного прогресса. Потому «учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей».
Такие общеметафизические мысли о всеединстве, социально-историческом прогрессе и всеобщем спасении на земле овладевают умом Петра Яковлевича и вскоре получат относительную конкретизацию в его основном труде – в философических письмах. «Да приидет Царствие Твое» – эти слова становятся отныне его девизом, нередко выступающим как своеобразный эпиграф и в частной переписке. Ему кажется, что он нашел ответ на терзавший его вопрос о времени, месте и характере воскресения. «Всегда, везде, для всех», – записывает он на полях одной из книг Ламенне и ощущает себя проводником идеи такого воскресения. Чаадаеву представляется также, что это ощущение, как бы примиряющее истину и заслоняющее ее «я», завершает многоуровневый поиск достоверности нового мировоззрения и преодолевает колебания между эгоизмом и любовью, счастием и совершенством, смертью и вечной жизнью. Теперь он может «доказанно» и «разумно» подчиниться «верховной воле» и «законно» вести к свету заблудившихся в тупиках собственной свободы непокорных людей.
В восьмом философическом письме Петр Яковлевич станет вопрошать: «Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его охватывали и разносили из края в край вселенной». Он слышал в себе такой голос. Гениальные люди в настоящее время, тщательно подчеркивает он в читаемом сочинении, являются не созидателями, ибо христианский закон освободил их от ненужных изобретений, а соединителями прерванной связи идей и эпох. Особыми знаками он выделяет в просматриваемых книгах рассуждения об «универсальных личностях», «вкусивших дара небесного» и обладающих «способностью будущего», пожертвовавших бессмертию интересами обыденного существования и занятых «вселенскими судьбами». В подобном ряду, состав которого он станет раскрывать в философических письмах, и видит себя Чаадаев, ибо считает, что верно понял христианский закон и пророчества.
Однако подобная самооценка и уверенность в правильном видении высшей истины приоткрывали окошко для постоянно изгоняемых самолюбия и «земного интереса», готовых в любую минуту практической жизни более изощренными путями подтачивать изнутри душевный покой и благородные теоретические устремления, противоположно направленные к единению в любви и к совершенству. Чаадаев ощущал в себе, говоря его собственными словами (в них слышатся отзвуки выучки «вольных каменщиков», хотя в устремлениях Петра Яковлевича налицо полемика с масонской идеей «внутренней церкви»), «верования высшего порядка», которые могут освобождать от внешней обрядности, чтобы не мешать духу возноситься «к источнику всякой достоверности». А «косные громады» масс, замечает он, «движутся слепо, не зная сил, которые приводят их в движение, и не предвидя цели, к которой они влекутся». Соединить разрыв между «слепыми массами» и «новым пророком» и призвана, по мнению Чаадаева, его пережитая и продуманная философия, отрывочно изливающаяся на бумагу, но не находящая пока соответствующей формы.
Нужен был внешний толчок, не заставивший себя долго ждать.
V глава
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
1
В письме к С. П. Жихареву весной 1827 года Чаадаев не раскрывал обстоятельств, не позволявших ему, как он выразился, даже на самое короткое время удалиться из его «пустыни». Среди них на первом месте, конечно же, стоял неотрывно углубляемый поиск и созидание нового единства собственной личности и мысли. Немалое значение имело и его знакомство с двумя молодыми женщинами – Авдотьей Сергеевной Норовой и Екатериной Дмитриевной Пановой.
Авдотья Сергеевна происходила из старинной дворянской семьи, родоначальником которой считают Родиона Норова, крупного деятеля «великого Новгорода». Она родилась в 1799 году в Саратовской губернии, откуда в 1803 году семейство Норовых переехало на жительство в село Надеждино, находившееся неподалеку от Алексеевского. Норовы, с которыми Анна Михайловна Щербатова уже давно поддерживала теплые соседские отношения и у которых спустя несколько месяцев после приезда Петр Яковлевич стал довольно часто бывать, занимают весьма заметное место в отечественной истории, а во внутреннем строе их жизни наглядно проявляется культурно-психологическая атмосфера дворянского быта, видны общественные противоречия и расслоения. Отец Авдотьи Сергеевны Сергей Александрович, выйдя в отставку с военной службы, предводительствовал дворянством в Саратовской губернии, где находилось его родовое имение. К его собственности также принадлежали многочисленные имения в Тульской, Рязанской и Костромской губерниях. Крепостнические обычаи и замашки отца вызывали у одного из сыновей, Василия, живое неодобрение. Видимо, такую же реакцию выказывал и Чаадаев, поскольку Авдотья замечала в одном из писем к нему: «Мне почему-то кажется, что Вам не очень приятно общество моего отца». В другом письме она просила Чаадаева не думать плохо об отце, которого сама Авдотья, кажется, немного побаивалась.
Совсем иные отношения сложились у нее с матерью, Татьяной Михайловной Кошелевой (в браке с которой Сергей Александрович приобрел влиятельные родственные связи, например с Воронцовыми; именно по совету Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, бывшей президентом Академии наук, он купил, когда подросли дети, подмосковное имение Надеждино вблизи Дмитрова, куда все семейство перебралось в 1803 году). Проникнутые теплотой и искренностью, отношения дочери и матери напоминают доверительную дружбу между пушкинской Татьяной Лариной и ее няней. В противоположность мужу добрая, мягкая и отзывчивая, Татьяна Михайловна всем сердцем вникала в жизнь своих детей, особенно тех из них, чья судьба, по ее представлению, складывалась несчастливо, – Авдотьи и Василия.
У нее с Сергеем Александровичем было четыре сына (Василий, Авраам, Александр, Дмитрий) и две дочери (Екатерина и Авдотья). Надо сказать, что все дети Татьяны Михайловны испытывали в разное время неизменно почтительное уважение к Петру Яковлевичу. Екатерина Сергеевна Норова нередко брала книги из богатой библиотеки Чаадаева, посылала ему вместе с матерью и сестрой гостинцы из Надеждина, обращалась к его помощи в затруднительных положениях. Виделся Петр Яковлевич и с ее братом Авраамом, героем Отечественной войны 1812 года, библиофилом, поэтом, переводчиком, высокопоставленным чиновником и будущим министром народного просвещения. Особенно искали общества Чаадаева, как видно из писем к нему Авдотьи, два других ее брата – Дмитрий и Александр, люди небезызвестные в литературных кругах. Его беседы с братьями, кажется, не всегда проходили гладко. Однажды, например, он не принял у себя Александра, за что последний обиделся на него. Впрочем, впоследствии отношения Петра Яковлевича с Александром Норовым, одним из «архивных юношей» двадцатых годов, писавшим стихи и много переводившим с французского (переведенный им мольеровский «Тартюф» в 1832 году был поставлен в Петербурге), примут весьма своеобразный и примечательный оборот, связанный с публикацией первого философического письма.
В нашем распоряжении нет никаких сведений об отношениях Чаадаева и другого брата Авдотьи Сергеевны – Василия Норова. Но возможностей для кратковременного знакомства было у них предостаточно. И в письмах к Петру Яковлевичу Дуня нередко упоминала о переменах в судьбе опального брата-декабриста.
Сама она росла ласковой и общительной, подобно пушкинской Татьяне, с охотой читала французские романы, получая типичное для этого времени домашнее образование, но с годами становилась все более серьезной и замкнутой. В глазах Авдотьи Сергеевны нередко появлялась печаль, она чувствовала себя как-то неукорененной в окружающей действительности, не находила себе определенного места в практической жизни, не видела своего призвания в ней. Физическая слабость и недомогания усиливали ее душевную боль, мысли девушки все чаще стали обращаться к богу. Ей начинает казаться, что именно в служении богу и состоит ее предназначение и что только в монастыре она сможет обрести смысл жизни и желанный мир в своей душе. Однако жалость к родным, которым ее монастырское уединение причинило бы большие страдания, удерживает Дуню от решающего шага.
В пору таких переживаний вдруг неожиданно, подобно пушкинскому Онегину в доме Лариных, и появился в тиши ее однообразной деревенской жизни тридцатитрехлетний Петр Яковлевич Чаадаев. Уместно отметить здесь, что прекрасная наружность последнего, аристократическая утонченность манер, искусство изысканно одеваться в сочетании с его благородным характером, энциклопедической образованностью, высокими интеллектуальными и нравственными качествами вызывали в обществе, особенно среди женщин, неизменный эффект. Вот как, например, известный поэт Ф. Н. Глинка выразит позднее это в стихах:
Одетый праздником, с осадкой важной, смелой,
Когда являлся он пред публикою белой
С умом блистательным своим,
Смирялось все невольно перед ним!..
Но и в сельской глуши, как и в присутствии «белой публики», Петр Яковлевич не терял ни праздничности одежды, ни важности осанки, ни блистательности ума. Обаянием его личности и беседы и была увлечена, вернее, покорена Дуня Норова, в лице которой он находит поначалу едва ли не единственную слушательницу, с молчаливым благоговением внимавшую его умным речам. О чем же беседовал он с ней? Какими задушевными мыслями покорил сердце робкой и набожной девушки? Своеобразные отношения Чаадаева с женщинами весьма важны для понимания и его характера, и его… философии. Однако в них есть много неопределенного и недосказанного не только в закрытой от посторонних «сердечной» части, но и в чисто внешних проявлениях. Сам он, как видно из приводившегося ранее воспоминания Жихарева, не любил говорить на такие темы. Тем не менее анализ широко известных фактов и архивных сведений позволяет с существенной стороны, через нараставшее самосознание Петром Яковлевичем своей «апостольской» миссии в мире, прикоснуться к своеобразию столь деликатной стороны его жизни.
В прочитанных им сочинениях немало следов внимательного изучения женской физиологии и психологии, помогающих раскрывать содержание его самооценки как «философа женщин». Например, в книге Бернардена де Сен-Пьера он отмечает для себя рассуждения о духовных особенностях «прекрасного пола», являющегося исключительно таковым лишь для «глазастых» людей. Для тех же, кто имеет еще и сердце, – это и рождающий и кормящий пол, стойко переносящий тяготы подобного положения, набожный пол, несущий своих младенцев к алтарям и вдохновляющий в них религиозные чувства, мирный пол, держащий в своих руках иголку и нитку, а не ружье и шпагу, утешающий больных, а не проливающий кровь ближних. Но ведь это не творческий пол, возражает Петр Яковлевич французскому писателю XVIII века и сразу же находит ответный аргумент своему возражению в ущербности, если его рассматривать под знаком вечности, «мужского» творчества, движущегося в границах «искусственного разума». Своеволие бесконечных «новаторов», думает он, будоражит чувство зависти, соперничества, гордыни и дорогостоящего мечтательства и, следовательно, разъединяет людей, теряющих основной путь единой и непоколебимой мысли и устремляющихся по ее боковым и тупиковым ответвлениям.
В природной женской пассивности и сердечной предрасположенности к самоотречению Чаадаев видит залог развития необходимой, по его представлению, для подлинного творчества способности покоряться «верховной воле». Предрасположенность женского сердца к самоотречению Петр Яковлевич ощущает как точку приложения сил, ведущих к последней степени совершенства человеческого. Для него укрепление этой предрасположенности по-своему аналогично отмеченному им типу гениальности, ничего шумно не изобретающей, а потому в своей тихой подчиненности способной лучше различить голос «высшего разума» и пропитаться «истинами откровения». Женское для Чаадаева является в известной степени антропологическим преломлением религиозного и послушным орудием провидения.
Авдотья Сергеевна оказалась, вероятно, первой в числе тех женщин, которых (как чуть позже А. В. Якушкину) Петр Яковлевич пытался «обратить» и направить их искреннюю религиозность к «совершенству». Они часто гуляют в усадьбе Норовых по лужайке, обсаженной розами и нарциссами, откуда открывается вид на пруды, а чуть дальше – на просторные поля и густые леса. Этот пейзаж особенно нравится Чаадаеву и возбуждает его красноречие, когда он на основании собственного опыта вразумляет простодушную и отзывчивую девушку, терзающуюся сомнениями, переживающую свое внутреннее несовершенство и неустроенность своего жизненного Пути.
Она не совсем понимает монологи наставника о столбовой дороге мирового прогресса и «высшем синтезе», но высокий строй души Петра Яковлевича, его страстное желание видеть людской мир в гармонии и братском единении находят глубочайший отклик в ее сердце. Она старается вникнуть в незнакомые слова, следить за ходом мыслей. Но из-за отсутствия соответствующих знаний и логической способности Дуня не может поддерживать беседу, а потому почти всегда только слушает Чаадаева, кажущегося ей «примером всех добродетелей», «высшим существом». Когда же тот в задумчивости надолго умолкает, она даже не осмеливается нарушить его молчание, испытывая чувство благоговейного преклонения перед Петром Яковлевичем и преувеличенное чувство собственной малости перед ним. «Зная Вас, – напишет она через три года, – я научилась рассуждать, поняла одновременно все Ваши добродетели и все свое ничтожество. Судите сами, могла ли я считать себя вправе рассчитывать на привязанность с Вашей стороны. Вы не можете ее иметь ко мне, и это правильно, так и должно быть. Но Вы лучший из людей, Вы можете пожалеть даже тех, кого мало или совсем не любите. Что касается меня, то сожалейте лишь о ничтожестве моей души. Нет, я боюсь причинить Вам хотя бы минуту печали. Я боялась бы умереть, если бы могла предположить, что моя смерть может вызвать Ваше сожаление. Разве я достойна Ваших сожалений? Нет, я не хотела бы их пробудить в Вас, я этого боюсь. Глубокое уважение, которое я к Вам испытываю, не позволило бы мне этого сделать…»
Подвигая Дуню к совершенству, «философ женщин» вызвал в ней, сам того не желая, любовь к себе. Авдотья Сергеевна, по словам Жихарева, «была девушкой болезненной и слабой, не могла помышлять о замужестве, нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству, и им была сведена в могилу. Любовь умирающей девушки была, может быть, самым трогательным и самым прекрасным из всех эпизодов его жизни». Основные перипетии «трогательного эпизода» развернутся позднее. Но уже сейчас Петра Яковлевича настораживают полные робкой и нежной застенчивости взгляды вразумляемой им женщины, что не входит в расчеты возложенной им на себя миссии «пророка» и «сеятеля» взыскуемого «царства истины» (в Евангелии и в религиозных сочинениях он специально помечает все рассуждения о преимуществах девства перед супружеством в служении богу). Одновременно эта миссия позволяла Чаадаеву сохранять необходимую дистанцию, сокращение которой налагало бы на него непривычные обязательства и посягало бы на его независимость и свободу. Подобная необходимость входила в известное противоречие со ставимой им задачей преодоления собственного эгоизма, находившего к тому же обаятельный покой и утешение в общении с представителями мирной стихии вечно женственного.








