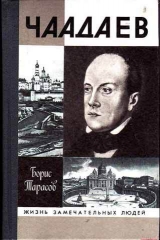
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
…Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.
А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.
Петр Яковлевич, конечно, не хлестал своих слуг ни в ус, ни в рыло и никак не вмещался в компанию загоскинских «недовольных», ратующих за прогресс буржуазной цивилизации и подчинение ей русского общества.
12
Более того, как раз в пору появления «Современной песни» у Чаадаева происходило дальнейшее критическое осмысление текущих тенденций европейского развития. Продолжая внимательно следить за последствиями июльской революции 1830 года, он в письмах к А. И. Тургеневу 1835 года рассуждает о «волканическом извержении всей накопленной Францией грязи, выбросившем в свет плачевную золотую посредственность». По его мнению, «несказанная прелесть» этой посредственности отбросила мир, подобно декабристскому восстанию, на полстолетия назад и до того спутала все социальные, идеи, что неизвестно, когда они распутаются.
Изучая по иностранным журналам и первоисточникам движение умов в Европе, он все чаще обнаруживает удручающие для «одной мысли» симптомы, например, в сочинениях Гейне, которого называет по имени цареубийцы «Фиески в философии». «Вы знаете, – обращается Петр Яковлевич к А. И. Тургеневу, – что он проводит параллель между Кантом и Робеспьером, Фихте и Наполеоном, Шеллингом и Карлом X. Я, следовательно, только продолжил параллель и вполне естественно пришел к ужасающему сочетанию этих двух сатанинских существ, представляющих, как тот, так и другой, цареубийц, каждый на свой лад. Смею думать, что этот новый Фиески немногим лучше старого; но, во всяком случае, его книга есть покушение, во всем подобное бульварному, с тою только разницею, что короли Гейне законнее короля Фиески; ибо это, во-первых, сам Господь Бог, а затем все помазанные науки и философии. В остальном тот же анархический принцип, то же следствие вашей прославленной революции; наконец, как тот, так и другой бесспорно вышли из парижской грязи».
Подобные оценки Чаадаев называет беспристрастными суждениями, обусловленными безличностью русского ума, который может отстраненно, с должного расстояния смотреть на протекающие в других странах события. «Мы стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или, если угодно, мы – публика, а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу… Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику… ее дело в мире есть политика рода человеческого… Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами… оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества… все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить… в этом наше будущее, наш прогресс…». Петр Яковлевич неожиданно для многих подчеркивает, что Россия призвана к необъятному умственному делу: не только к разрешению всех вопросов, возбуждающих споры в Европе, но и к «разгадке человеческой загадки».
Залог такой высокой миссии, не перестает повторять Чаадаев, именно в ее отделенности от современной «крутни Запада», его идей, страстей и интересов, раздробляющих и распыляющих умы. Но не только от современной, которая, следуя его логике культурно-исторического единства и преемственности, не могла не зависеть от предшествующих этапов европейского развития. И еще в 1833 году, говоря о вселенской роли России, Петр Яковлевич писал о том, что у нас нет «ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутины». На данном этапе развития его своеобразно пульсирующей мысли эта роль определяется такой изолированностью России от настоящего и прошлого Европы, которая обусловливает состояние духовной отрешенности от ложных уклонов в эволюции цивилизации. Подобная отрешенность, непосредственность и незамутненность сознания может позволить, по мнению Чаадаева, верно оценить не только ошибки и просчеты, по завоевания и достижения чужого опыта, воспринять великие идеи всеединства и братства в их целости и чистоте. «Мы призваны, напротив, – замечает он в послании к А. И. Тургеневу, – обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь; вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все великое приходило из пустыни…»
С точки зрения нового поворота в своих философско-исторических рассуждениях Чаадаев осуждает зарождавшиеся на его глазах и в известной степени провоцируемые его проповедью славянофильские поиски самоценного значения русского прошлого, что, по его мнению, сужает вселенское предназначение России до узкой идеи национальной замкнутости. Однако он не уверен до конца в правоте своего осуждения: «В настоящее время невозможно предвидеть, куда это нас приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час…»
Так, возвратно-поступательными скачками противоречивая мысль Петра Яковлевича уходит весьма далеко от логики и пафоса первого философического письма, которое в представлении многих современников продолжает оставаться, вызывая публичное раздражение и полемику, выражением всей полноты его взглядов.
Живая подвижность его воззрений в восприятии современников является одновременно причиной их одностороннего и неадекватного понимания и вместе с тем сопровождается дальнейшим ростом недоразумений, популярности и легенд вокруг его личности. «Про Чаадаева, – замечает М. И. Жихарев, – узнали люди, которые никогда его не видали, кругом своего существования были от него совершенно отделены, никогда не имели никакой возможности с ним встретиться, и без того, быть может, про него во всю жизнь бы не сведали. По милости его блистательного, искрившегося мыслями разговора стали ему приписывать то, чего он никогда не говорил; по той причине, что писал он не по-русски, стяжал, – чего с кровно русскими почти что никогда не бывает, – очень большую популярность между иностранцами, у нас проживающими. Его сочинения начали уже ходить по рукам, разными лицами переписанные с ошибками и пропусками, а про него самого выдумывали небывалые анекдоты, которые повторялись даже людьми высокопоставленными. Насколько то возможно в России, подвергнулся почестям карикатуры, и в виде бессильно-завистливого, озлобленного осмеяния, и в виде любящей добродушной шутки…» В пример подобных анекдотов Жихарев приводит рассказ одной известной графини, поверившей важным гостям, что «вот, мол, какой дурак Чаадаев: он заказал свой портрет и велел написать себя в кандалах».
Репутация «недовольного», «католика», «русофоба» и т. п., наслаиваясь на ассоциации, вызываемые чтением разрозненных философических писем и их отрывков в русском и иностранном обществе, создавала весьма своеобразную и разно толкуемую славу их автору. Таким образом, по словам биографа, он «очень скоро получил, и не в одной даже России, некоторую, так сказать, полупубличную известность не печатающего, но очень даровитого, оригинального и значительного писателя. Всякий знает, что этого рода известности вследствие таинственности и до известной степени непроницаемости всегда и везде, а в России особенно, сопровождаются догадками и предположениями, их очень увеличивающими и видоизменяющими…»
Рост «таинственной» известности, появление столь же «таинственных» учеников согревает сердце Петра Яковлевича. Один из учеников – сын орловской помещицы Александр Сергеевич Цуриков, богатый и оригинальный молодой человек, склонный к фрондерству и оппозиции.
Вскоре после приезда в Москву Цуриков сошелся с А. С. Хомяковым, с которым в салоне Е. А. Свербеевой вел длительные беседы по-французски на исторические темы, и с Чаадаевым, который не мог не заинтересоваться новым заметным лицом в московском обществе и не попытаться очаровать его своей «одной мыслью». И не без успеха. Прося задержать еще на один день философические письма, Цуриков называет Петра Яковлевича гением, чье каждое слово требует усердного и глубокого осмысления, а свои послания к нему нередко заканчивает так: «Целую ваши руки, дорогой и добрый учитель». В конце 30-х годов ученик перевел на французский язык и издал отдельной брошюрой стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Даря экземпляр перевода Чаадаеву, он сделал на нем надпись: «Могущественному властителю дум и мыслей, высокому апостолу и проповеднику истины, пламенно уважаемому и любимому наставнику и другу».
В 1835 году Цуриков просит разрешения представить Петру Яковлевичу его поклонника, сотрудника русского посольства в Мюнхене князя И. С. Гагарина, которому Шеллинг горячо рекомендовал познакомиться с московским философом. «Это совсем молодой человек, без определенных убеждений, но богатый поэтическим энтузиазмом и уже сильный в науке. Говорит, что великий немец Вами бредит; ловит всех русских и жадно расспрашивает о Вас».
Чаадаев очень тронут комплиментами Шеллинга и, как он замечает в письме к А. И. Тургеневу, «приложением учения о Тождестве к моей незначительной персоне». Что же касается Гагарина, то он, сблизившись с Чаадаевым, не нашел, по его собственным словам, ничего преувеличенного в отзывах великого немца. «Бывая в Москве, я часто виделся с этим замечательным человеком и подолгу беседовал с ним. Эти сношения имели громадное влияние на мою будущность, и я исполняю долг благодарности, громко заявляя, что всем обязан этому человеку».
К середине 30-х годов Чаадаев прочно завоевывает в московском обществе заметное место своеобразного учителя и одновременно безукоризненно светского человека. Он находится и средоточии умственных сил, в развитии которых зарождаются ростки грядущих идейных споров между славянофилами и западниками. «Пo пятницам, – писал в это вромя И. Л. Мельгунов, – мы собираемся у Свербеевых, по воскресеньям у Киреевских, иногда по четвергам у Кошелевых и время от времени у Баратынских. Два или три раза в неделю мы все в сборе, дамы – непременные участницы наших бесед, и мы проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит очи к небу, Герке дурачится, Мещерской молчит; подчас наши беседы оживляются хором цыган, танцами, беганьем взапуски…»
Петр Яковлевич, конечно, не бегал взапуски, а характерная для него проповедническая жестикуляция (ранее отмеченная Л. В. Якушкиной) красноречиво говорит о взятой им на себя роли практически во всех салонах, где его почти везде встречают как желанного гостя.
Чаадаев бывает у матери декабристов Е. Ф. Муравьевой, у Ушаковой, Нарышкиной, Пашковой, Киндяковой, Ховриной и многих других, дам, ждущих его, как всегда, с большим нетерпением. Петр Яковлевич жалуется А. И. Тургеневу, что такие умные женщины, как Бравура, Елагина, Мещерская, Орлова, уезжают в заграничное путешествие. Отмечая характерные черты… его поведения в светском обществе, жандармский генерал Перфильев в 1830 году доносил своему начальству: «Чеодаев особенно привлекал к себе внимание дам, доставлял удовольствие в беседах и передавал все читаемое им в иностранных газетах и журналах и вообще вновь выходящих сочинениях с возможной отчетливостью, имея счастливую память и обладая даром слова. Когда нарождался разговор общий, Чеодаев разрешал вопрос, при суждениях о политике, религии и подобных предметах, со свойственным уму образованному, обилующему материалами, убеждением. Знакомство он имеет большое… Образ жизни Чеодаев ведет весьма скромный, страстей но имеет, но честолюбии выше меры. Сие-то самое и увлекает его иногда с пути, благоразумием предписываемого».
Под неблагоразумным честолюбием Перфильев подразумевает обнародование в октябре 1836 года первого философического письма, что, говоря словами М. И. Жихарева, давало Петру Яковлевичу возможность выйти на полупубличной известности и обрести более авторитетное признание. Попытки к обретению такого признания становятся с его стороны в середине 30-х годов все более настойчивыми. В 1833 году московские литераторы Е. А. Баратынский, И. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, Н. М. Языков собрались издавать так и не вышедший альманах «Шехерезада» и привлекали к участию в нем Пушкина и Гоголя. В числе составителей альманаха находился и Чаадаев, предложивший перевод своих сочинений. С помощью А. И. Тургенева и другого приятеля, А. К. Мейендорфа, с которым когда-то жил вместе в Париже, он намеревался поместить отдельные философические письма в одном из французских журналов, репутации которых предварительно выяснял.
Но, конечно же, Петру Яковлевичу хотелось бы сначала издать их на родине. Это желание в письме 1835 года к Вяземскому он объясняет своими новыми мыслями о вселенском предназначении России, свободной от огромного давящего груза воспоминаний, привычек, пережитков европейского прошлого и потому призванной распространять в мире идеи высшего синтеза. Чаадаев просит Вяземского, который уже давно был знаком с разными фрагментами его сочинения, узнать о возможности его напечатания в Петербурге. Там, замечает он, больше свободы, ибо высшие власти более широко смотрят на вещи, нежели их исполнители на местах. «Философические письма, адресованные даме» – такое название должна носить будущая книга, заключает Петр Яковлевич свою просьбу, впрочем, не рассчитывая на успех.
Однако и в «несвободной» Москве он хочет их напечатать в только что созданном журнале «Московский наблюдатель», который в 1835–1837 годах выходит под редакцией статистика и экономиста В. П. Андросова и продолжает идейные традиции «Московского вестника» и «Европейца». В состав участников нового издания вошли А. С. Хомяков, Е. А. Баратынский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Н. Ф. Павлов, Н. М. Языков, Д. Н. Свербеев, Н. А. Мельгунов. «Московский наблюдатель» задумывался как орган борьбы с «промышленной» журналистикой, главным образом, с «Библиотекой для чтения» Сенковского и с «торговым» направлением в литературе. В программной статье первого номера «Словесность и торговля» Шевырев показывал губительность денежных отношений для развития искусства. О том же говорилось и в стихотворении «Последний поэт», где Баратынский по-своему вникает, говоря словами Чаадаева, в «тайну времени».
Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии младенческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы…
Неприятием буржуазно-капиталистического процесса проникнута статья Андросова «Производимость и живые силы», а в стихотворении Хомякова содержится горькое и близкое чаадаевскому сожаление об увядании европейской культуры:
О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.
В последующих номерах журнала в числе прочих материалов помещался критический разбор комедии Загоскина «Недовольные», статья небезызвестного Ястребцова «Взгляд на направление истории», составленная в форме письма к М. Ф. Орлову и отражающая влияние Чаадаева. Эти материалы говорят о близости последнего к редакции «Московского наблюдателя», со многими участниками которого он постоянно общался в московских салонах. И поэтому неудивительно, что вскоре после образования журнала он предложил Андросову напечатать, начав с первого, некоторые философические письма. Однако редактор после долгих колебаний все-таки не решился на это.
13
Возможно, Петр Яковлевич вторично предлагал свое сочинение и Пушкину, который с начала 1836 года стал издавать «Современник», а в мае приехал в Москву, где и произошла их последняя встреча. В первой половине 30-х годов, в редкие наезды поэта в древнюю столицу, они виделись лишь мельком. До Петербурга доходили разные слухи о «сенсимонствовании» и честолюбивых причудах «московского Ламенне», и Пушкин в светских гостиных защищал как мог своего друга. Самодовольный вид и учительский тон «басманного философа» Александр Сергеевич объяснял его превосходством в начитанности и образованности. Толки же о превращении Чаадаева во французского эмигранта начисто опровергая: «Он честный и порядочный человек, и я его очень люблю. Но это Алкивиад, находящий счастье в удовлетворении своего честолюбия. Быть может, это еще счастье, что честолюбие может ублаготворить сорокалетнего человека. Можно позавидовать ему».
До Петра Яковлевича тоже доходили сведения о жизни Пушкина, но всю ее внутреннюю сложность ему было трудно представить.
В тесный клубок многообразно переплетающихся писательских, семейных, светских, денежных проблем органично завязывались взаимоотношения Пушкина с Николаем I. Вскоре после свадьбы он доверительно сообщал Нащокину, что царь взял его на службу, «т. е. дал мне жалованья и позволил рыться в архивах для составления «Истории Петра I». Высочайшая милость не только частично разрешала творческие и финансовые вопросы, но и позволяла поэту надеяться на, так сказать, историографическую форму сотрудничества с правительством. Однако в этой «выгоде» оказалась своя оборотная сторона, поневоле втягивающая в издержки неравноправного общения.
Что же касается царя, то он, вероятно, намеревался теснее привязать и «обуздать» поэта привычными и спокойными формами жизни. Он продолжал не доверять «умнейшему человеку России», как он сам когда-то назвал его, и не гнушался прочтением его интимной корреспонденции.
Незадолго до смерти Пушкин сочинил такое четверостишие:
Забыв и рощу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.
С 1833 года поэт постоянно ощущает, как вместе с «выгодами» сделанного им выбора и сопутствующих ему обстоятельств незаметно выстраивается клетка для «живых» песен. Он желает выйти в отставку, но царь разрешает ее лишь с условием прекращения работы в архивах, что нарушило бы его творческие планы. Писатель не любит деньги, по его наблюдениям с каждым годом все более извращающие человеческие отношения, видит в них средство благопристойной независимости. Однако вынужден, как сам замечает, «делать деньги» для жены. «Клетка обстоятельств» становится для поэта все более тесной. В его письмах нередко встречаются сетования, что ему «стихи в голову нейдут», что его поэзия иссякла. Даже в любимое время года, в осеннем уединении от столицы ему не работается, и в 1835 году он пишет Плетневу из Михайловского: «Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен». Писать же книги ради денег, как он признается жене, Пушкин не может. В Петербурге он все более ощущает себя узником, которому хочется удрать на «чистый воздух», на волю, «домой».
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
В рукописи этих строк, написанных в 1834 году, имеется примечание: «Юность не имеет нужды в at home[27]27
В доме (англ.).
[Закрыть], зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу – тогда удались он домой.
О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть».
Пушкин размышляет над дальнейшим развитием своего жизненно-творческого пути и как бы намечает программу, первым пунктом которой являлось освобождение от стеснительных пут «шума» светско-городской жизни. В его творчестве вновь обостряется противоречие свободы и неволи, но уже не на романтически-бунтарском, а на реалистически-продуманном, обогащенном многообразным опытом уровне (новый уровень противоречия требовал и качественно нового его разрешения). Неволя теперь отождествляется им с зависимостью от ложных условий и прав неподлинного существования человека. Но бежать в «обитель дальную трудов и чистых нег» Пушкин не мог среди прочих причин и потому, что его натура не удовлетворялась стихийным самозабвенным творчеством.
Одновременно с пантеистическим восторгом приятия жизни Пушкин чувствует себя «странником», не перестающим вопрошать: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?» Лирический герой стихотворения «Странник» перед лицом грядущей смерти сокрушается своей неготовностью к загробному суду и, видя «некий свет», спешит
…перебежать городовое поле,
Дабы скорей узнать – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
Действия «странника», настроением которого проникнуты такие стихи Пушкина 1836 года, как «Отцы пустынники и жены непорочны» или «Напрасно я бегу к Сионским высотам», не находят понимания у друзей, жены и детей.
Когда-то поэт написал:
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
На последние годы жизни Пушкину выпало много страданий, окрашивающих его мысли. «Ты не можешь вообразить, – пишет он жене, – как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова кружится…» Так напряженно думать ему приходилось не только о высшем смысле бытия, но и о повседневных житейских делах, о долгах, ибо содержание семьи, помощь брату и сестре требовали постоянно денег, о придворных мнениях и слухах, ибо царь не позволял «записаться в помещики». К тому же многообразные литературные и издательские отношения предполагали его постоянное присутствие в столице. Так что мечты и планы Пушкина о покое и воле, о бегстве в «обитель дальную трудов и чистых нег» или к «Сионским высотам» требовали еще долгого «головокружительного» думанья и соседствовали с привычными, милыми сердцу и тягостными заботами.
Несмотря на жизненные сложности, а может быть, благодаря им, писатель не прекращает напряженной творческой работы. Он продолжает по-своему осмыслять темы и логику Чаадаева и исследовать изнутри побудительные причины европейского прогресса. Постоянное присутствие в его сознании рассуждений Петра Яковлевича отражено и в отрывке незаконченной статьи 1834 года «О ничтожестве литературы русской», где речь заходит о своеобразии и высоком предназначении исторического развития России. Отдельные положения этого отрывка поэт почти дословно повторит через два года в своих возражениях на опубликованное в «Телескопе» первое философическое письмо. Несомненно, не мог не вспомнить Пушкин и это письмо, и излюбленную «одну мысль» Чаадаева и при работе над «Капитанской дочкой», где отчасти ведет и непрекращающийся внутренний диалог с другом.
Противопоставление Петром Яковлевичем «живых» лиц просвещенных европейских граждан и «немых» физиономий необразованных россиян всегда казалось Александру Сергеевичу неистинным в своей прямолинейности. Последние же годы жизни заставляют его еще пристальнее сравнивать высококультурное общество столицы и так называемый мир «маленьких людей». Исследуя в «Маленьких трагедиях» порожденные богатством европейской цивилизации индивидуалистические типы, Пушкин не находит в них твердого нравственного стержня, очеловечивающего людей. Разнообразные интеллектуальные достижения как бы украшали и полировали душу, маскируя ее глубинные пороки и усложняя противоречия между блестящей наружностью и внутренним несовершенством. Эти достижения еще более надмевали их обладателей и тем самым укрепляли сущностную разъединенность людей. Парадоксы такого внешнего просвещения, не улучшающего, а искажающего нравственную природу человека, писатель наблюдал и вокруг себя.
В представителях же простого народа Пушкин чаще встречал самые глубокие нравственные чувства – совестливость, доброту, преданность, простодушие, искренность, скромность, бескорыстие, самоотверженность, без которых не только невозможно совершенствование человеческого бытия, но и самое его существование. Но и простой человек попадает во власть разных «стихий» и на пересечение многих «правд», где в горниле «оборачиваемости» добра и зла именно сохранение человечности (несмотря на кажущуюся простоту по сравнению с целями чаадаевского «высшего синтеза») оказывается все более важной задачей, заглушаемой гулом трагических общественных конфликтов. Не об этом ли думал Пушкин, когда писал «Капитанскую дочку» и изображал в ней «простых» и «непросвещенных» героев, покорных чувству сострадания и самоотверженной любви, голосу чистой совести и долга, составляющих неразрушимое ядро их личности и поддерживающих энергию добра в мире?
Трудно сказать, как протекал диалог писателя с мыслителем в их последнюю встречу после долгой разлуки. Александр Сергеевич в эту пору находился далеко не в лучшем состоянии духа. В начале 1836 года ставшее более настойчивым ухаживание молодого кавалергарда Дантеса за Натальей Николаевной привлекает особое внимание петербургского общества и раздражает писателя. В феврале, как бы возвращаясь ко временам своей неспокойной молодости, он делает три дуэльных вызова. «Я не помню его в таком отвратительном состоянии духа», – писала сестра поэта. Однако от тягчайших дум, как всегда, отвлекала работа. Пушкин приехал в Москву для изучения архивов и по делам, связанным с изданием «Современника». Беседы с сотрудниками «Московского наблюдателя», визиты вежливости также занимают много времени, хотя по душе ему лишь общество П. В. Нащокина, с которым он проводит целые дни. «Нащокин здесь одна моя отрада», – признается он жене, сухо сообщая в другом послании, что Чаадаева видел только один раз. О том, что свидание состоялось не сразу, свидетельствует и записка Петра Яковлевича к Александру Сергеевичу: «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев».
О чем говорили в это свидание друзья, не подозревавшие, что оно последнее? Затеяли ли вновь серьезный разговор о «тайне времени» и о судьбах человечества или поверяли сложности своей духовной жизни, протекавшей в столь разных обстоятельствах? Думается, беседа ограничилась рассказами о внешней канве событий. Известно только, что Чаадаев показал Пушкину статью Белинского о поэте, которую тот охотно прочитал, а через несколько месяцев прислал Петру Яковлевичу номер «Современника» для передачи критику. Во всяком случае, Пушкин продолжал оставаться загадкой для «басманного философа», писавшего А. И. Тургеневу: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием Современник. Современник чего? XVI столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только…»
«Загадка Пушкина» заставляла Чаадаева снова и снова размышлять о «тайне времени». В конце года он прочтет в «Современнике» «Капитанскую дочку» и напишет А. И. Тургеневу, что его очаровала в ней «полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, подлинной блудницы в бальном платье и с ногами в грязи».








