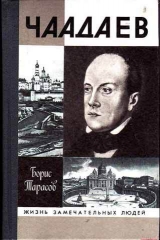
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 37 страниц)
7
Когда весной 1840 года Герцен вернулся в Москву, он не замедлил посетить Петра Яковлевича, о чем сообщал M. H. Похвисневу, впоследствии сенатору, директору департамента полиции и начальнику главного управления по делам печати, а тогда молодому человеку, интересовавшемуся философическими и литературными вопросами: «Был я у Чаадаева, конечно, индивидуальность этого человека – à plus d'un sens[34]34
Во многих смыслах (франц.).
[Закрыть] любопытна». Но вполне удовлетворить свое любопытство Александр Иванович смог только через полтора года, когда после пребывания в Петербурге и Новгороде вновь появился в древней столице.
Петр Яковлевич рассказал ему о недавней кончине М. Ф. Орлова. Москвичи, даже не знавшие опального генерала, выказали участие к больному. Множество людей присутствовало на отпевании и похоронах. Чаадаев составил текст эпитафии, где говорилось о заметном участии покойного «в достославном увенчании всенародной войны против Франции… Друзья любили его добрую душу!». Он поведал также своему молодому приятелю, что полиция опечатала бумаги покойного генерала и отправила их в Петербург. Неладно получилось и с некрологом для «Московских ведомостей», написанным Шевыревым и переданным на одобрение Петру Яковлевичу. Последний назвал его умной и благородной статьей, за которую должны сказать спасибо все друзья и близкие Орлова. Однако цензор обругал почившего каторжным и не пропустил статьи.
Рассказав о последних событиях и общей умственной атмосфере московской жизни, Чаадаев внимательно прислушивался к рассуждениям Герцена об увлечении петербуржцев эмансипаторскими романами Жорж Санд, экономическими и политическими идеями и утопиями Оуэна, Прудона, Конта, Кабе. Несомненно, заинтересовало его столкновение между магистром университета Я. М. Неверовым и Белинским, описанное позднее на страницах «Былого и дум». На одной из литературных вечеринок магистр, укорив поэта А. В. Кольцова за то, что тот перестал носить народный костюм, завел речь о первом философическом письме и характеризовал его напечатание как гнусный, вызывающий презрение поступок. Герцен стал возражать, что подобные эпитеты неприложимы к человеку, смело выразившему свое мнение и пострадавшему за него. «Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:
– Вот они, высказались – инквизиторы, цензоры – на веревочке мысль водить… и пошел и пошел.
С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.
– Что за обидчивость такая! Палками бьют – не обижаемся, в Сибирь посылают – не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь – не смей говорить, речь – дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?
– В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.
Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:
– А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.
Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза…»
Об изменении взглядов Белинского Чаадаеву говорил и Кольцов, сообщавший в начале 1841 года критику в Петербург о своем посещении «басманного философа». Но, конечно, вряд ли кто лучше Герцена мог рассказать о том, как «неистовый Виссарион» обрушился со всей страстью «гладиаторской натуры» на «индийский покой созерцания и изучения вместо борьбы» в своих прежних воззрениях. В эпизоде, описанном в «Былом и думах», как бы представлены в едином сплаве духовно-психологические и идейно-мировоззренческие особенности новых убеждений критика. Белинский считал личный и общечеловеческий разум двигателем, а степень образования критерием социального прогресса. Поэтому в спорах со славянофилами критик «зрячие» и «более образованные» страны противопоставлял «лапотной и сермяжной действительности» в «слепой» России, которой необходимо усвоить последние достижения европейской мысли, науки и цивилизации, чтобы включиться в мировую борьбу за освобождение личности от исторических предрассудков и установление на земле справедливого социального строя. Подобная борьба не может обойтись и без гильотины, имеющейся в «еще более образованных странах», ибо трудно представить, что принципиальные перемены могут сделаться «само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови». Так в сороковых годах осуществлялось, говоря словами Герцена, «выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы» Белинского.
Чаадаеву все время слышалось что-то знакомое в рассуждениях критика о европейской культуре как мощном факторе в поступательном движении к всечеловеческому братству. Однако ни гильотина на этом пути, ни замена его весомого объяснения непонятным устремлением людей к какому-то абстрактному новому будущему, без чего, по словам Белинского, «не было бы прогресса, истории, жизни», не могли удовлетворить Петра Яковлевича.
Как не мог не возражать он самому Герцену, которого безуспешно пытался склонить к религиозному обоснованию общественной эволюции. В духовном развитии Александра Ивановича происходил обратный процесс отказа, говоря его собственными словами, от «содомизма религии и философии» и перехода к «реализму», который его идейный противник Хомяков называл «свирепейшей имманенцией». Преодолению сенсимонистских мечтаний способствовало и чтение «Сущности христианства» Фейербаха, и серьезное изучение Гегеля. В результате Герцен отверг диалектику как средство «гонять сквозь строй категорий всякую всячину» и как логическую гимнастику в оправдании наличного бытия и воспринимал ее как «алгебру революции», не оставляющую «камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя».
Герцен считал также, что необходимо сражаться с «буддизмом» в науке, «одействотворять» знание и усовершенствовать на его основе текущую жизнь. Таково, по его мнению, направление истории в борьбе «консервативности» старого мира религиозных призраков и социального неравенства с «вечным движением и обновлением».
«Реализм» Герцена заставлял его не только, скажем, выступать против крепостного права или обосновывать правомерность революционных действий в России, но и порою связывать социальные и нравственные преобразования с физиологическими законами. А отсюда выводы о прогрессе, случалось, сводились к тому, что «человек равно может найти «пантеистическое» наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфелями». Подобные выводы создавали немалое драматическое напряжение в жизни Александра Ивановича. Однако, как писал П. В. Анненков, едкий анализ критического и обличительного ума Герцена, переходившего «с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету», умолкал перед нравственными побуждениями и благородными помыслами.
Такие побуждения и помыслы и привлекали его в личности Петра Яковлевича. «Всякий раз, как я вижу Чаадаева, например, – отмечает он, – я содрогаюсь. Какая благородная, чистая личность, и что же – в этой жизни тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного слова и дела». Автор «Былого и дум» вспоминал, что, несмотря на странности и слабости, озлобленность и избалованность «басманного философа», он его «всегда любил и уважал и был любим им». Но мнимое снятие Чаадаевым всех противоречий «своим высшим единством, своей вечной фата морганой, своим urbi et orbi[35]35
Городу и миру (лат.).
[Закрыть]» никак не удовлетворяло Герцена, записавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал… это голос из гроба, – голос из страны смерти и уничтожения. Нам страшен этот голос. Истинного оправдания нет им, что они не понимают живого голоса современности».
Друг Герцена, Огарев, когда-то прочивший «басманного философа» на важное место в несостоявшемся журнале, теперь скучает на его журфиксах. А их общий приятель Грановский находит Чаадаева не только «отсталым», но и «погибшим». В одном из писем он, говоря о своем знакомстве с Петром Яковлевичем вскоре после своего приезда в Москву, замечает, что тот «мог бы быть по уму замечательным человеком, но его погубило самолюбие, доходящее до смешных крайностей».
Тимофей Николаевич Грановский после обучения в Петербургском и Берлинском университетах с 1839 года преподавал всеобщую историю в Московском университете. Эта история, нередко сужавшаяся в его изложении до европейской, истолковывалась молодым профессором как закономерное развитие абсолютного духа к царству свободы, правды и справедливости. Рассуждая об этапах раскрытия абсолютного духа, он говорил: «Свобода, равенство и братство – таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого нелегко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества». Как Белинский и Герцен, Грановский интересовался социалистическими идеями, ратовал за распространение западных начал в России с целью приближения искомого идеала, но в отличие от них разрешал неизбежно возникавшие проблемы не «реалистически», а «поэтически».
Философская позиция Грановского не должна была удовлетворять Чаадаева с противоположной стороны – из-за недостаточной «поэтичности». Деистический пантеизм, растворявший личного бога и устранявший верховную волю в истории, не согласовывался с умонастроением и логикой Чаадаева. Тем не менее, когда речь заходила о Герцене или Грановском, Петр Яковлевич, желавший иметь последователей и любивший поражать слушателей неожиданными сравнениями, называл их иной раз, возможно иронически, своими учениками, что было верным лишь отчасти.
Д. Н. Свербеев замечал, что многие второстепенные мысли Петра Яковлевича принимались с сочувствием «всеми поборниками западной гражданственности». То есть «одна мысль» Чаадаева расщеплялась, и выделялось скептическое отношение к прошлому и настоящему России. Одновременно подчеркивалась необходимость заимствовать европейские достижения для ее лучшего будущего, но – в отрыве от религиозной основы и без учета духовных изменений автора «Философических писем».
«Отсталый» и «погибший» Петр Яковлевич, конечно, видел сужение собственных мыслей у «учеников», замечал присущую и трезвому знанию «поэтичность», выражавшуюся в замкнутости близлежащими проблемами, в преобладании обличительства и отвлеченных социологических формул над конкретным показом и рассмотрением положительных начал. Проповедь прогрессивного исторического развития с помощью европейского просвещения и науки ограничивалась в своих выводах абстрактным гуманизмом и освобождением человека от всех сковывающих его доселе пут. Однако, как и у декабристов, оставался открытым вопрос о качестве духовных ценностей раскрепощенной личности, ее способности отклонить полученную свободу от естественного эгоистического русла. Западники, писал П. В. Анненков, занимались «исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала русская и европейская жизнь».
Позднее Герцен признавался: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами». Отсутствие внимания к органическим фактам русского прошлого, упущение которых способно привести к искаженным формам их сочетания с иными духовными традициями и установлениями, заставляло и Петра Яковлевича называть западников «поверхностными умами, вылившимися в формы, свойственные чуждому миру».
Приглядываясь к «ученикам» и не разделяя всей совокупности их воззрений, Чаадаев с еще большим вниманием следил за деятельностью их идейных противников. Славянофилы, по словам Чернышевского, принадлежали к числу «образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе». И те и другие, писал Герцен, воодушевлялись горячей любовью к истине и к родине, но ум их видел разные стороны явлений. Со славянофилами Петр Яковлевич находился в гораздо более тесном, хотя не менее противоречивом общении, что объясняется, помимо взаимных симпатий, определенным сходством основных категорий, в которых протекала их мысль.
8
Острота и масштабность вопросов о призвании России и Европы требовали многостороннего изучения возникавших проблем и углубления национального самосознания. Призыв Чаадаева к всецелому копированию европейского пути способствовал ускорению кристаллизации славянофильских идей. «…Явление славянофильства, – замечал позднее Белинский, – есть факт замечательный до известной степени, как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии».
Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития следовало всесторонне показать, что не все на историческом пути России было плохо, а Европы – хорошо. Сразу после «телескопской» публикации в типографии «Московского наблюдателя» набиралось опровержение, принадлежавшее, возможно, перу виднейшего славянофила Хомякова, но так и оставшееся по известным причинам в верстке.
В один из вечеров у Авдотьи Павловны Елагиной Хомяков огласил положения своей статьи «О старом и новом», представляя мнение Чаадаева и не называя его имени: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенных эпохи из стремлений современных». Но такова ли в действительности прежняя жизнь России? Да, рассуждал оратор, в ней есть много примеров неграмотности и взяток, вражды и междоусобиц. Но не меньше в ней и обратных примеров. В основании нашей истории, продолжал он свою мысль, нет пятен крови и завоевания, а в преданиях и традициях нет уроков несправедливости и насилия. «Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться».
Вместе с тем Хомяков указывал в противоположность Чаадаеву историческую двусмысленность римской церкви. «Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательно-деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир Католицизма и Реформатства».
Оратор призывал объективно разобраться в разных «плодах просвещения» и определить, нет ли в русском «старом» чего-либо такого, что утеряно в «новом» и что могло бы помочь сделать человеческие отношения более доброразумными. На его призыв откликнулся И. В. Киреевский, написавший статью «В ответ А. С. Хомякову», также ставшую программным документом славянофильства. Отношение прошлого России к ее настоящему, рассуждал он, составляет существенную часть сознания каждого мыслящего русского человека и входит во многие обстоятельства повседневного существования, слагающегося из «старых» национальных элементов и «новых» заимствований с Запада в эпоху Петра I. Вопрос, какой из них лучше и какой следует развивать предпочтительнее, неправильно поставлен, ибо и тот и другой органично присутствуют в действительности. «Не в том дело: который из двух? Но в том, какое оба они должны принять направление, чтобы действовать благодетельно?»
Чтобы определить это направление, замечал Киреевский, необходимо глубоко понять главные конфессиональные, духовные и народно-бытовые различия между Европой и Россией, обусловившие своеобразие их исторического развития. По его мнению, отличительные черты западного сознания и быта сформировались во взаимодействии католического христианства, мира необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классического мира древнего язычества, который не учитывался Чаадаевым в качестве конструктивного при характеристике западной цивилизации, но, однако, накладывал на нее неизгладимый отпечаток. «Господство чисто христианского направления, – писал позднее Киреевский, – не могло совершенно изгладить из их (европейцев. – Б. Т.) ума особенность римской физиономии». И потому на Западе наблюдалось «взаимное прорастание образованности языческой и христианской», «сопроницание церковности и светскости». «Так искусственно устроив себе наружное единство, поставив над собою единую главу, соединившую власть духовную и светскую, церковь западная произвела раздвоение в своей духовной деятельности, в своих внутренних интересах и во внешних своих отношениях к миру».
Важнейшим результатом подобного сопроницания и раздвоения автор «В ответ А. С. Хомякову» считал господство рационализма над «внутренним духовным разумом». «В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала…» Это начало, как он думал, объединило и последующие важные этапы европейского развития – все виды новой философии, искусства и литературы, материальное большинство парламентаризма, «индустриализм как пружину общественной жизни» и комфортабельные удобства как ее цель, систему воспитания, ускоряемую «силою возбуждаемой зависти», филантропию, основанную «на рассчитанном своекорыстии», и т. п.
«Самое торжество ума европейского, – писал Киреевский в другой своей работе, внутренне полемизируя с чаадаевской публикацией в «Телескопе» и с собственными положениями злополучной статьи в «Европейце», – обнаружило односторонность его коренных стремлений; потому что при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; потому что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь лишена была своего существенного смысла…» Нравственная апатия, скептицизм, ирония, недостаток высоких убеждений, всеобщий эгоизм, жизнь по расчету – такова оборотная сторона предательских обольщений и двусмысленных выгод рационального подхода к действительности.
Другими путями, переходил Киреевский к новому витку рассуждений, просвещалось сознание и создавалась культура в России, где восточное христианство не смешивалось с наследием этой древности и воздействовало на национальные начала. Отсюда особый тип образованности, направленной не на овладение внешним миром для – в итоге – увеличения и утончения материальных удобств наружной жизни, а на очищение сердца и добролюбящее устроение ума. Такая образованность незаметна, ибо не предполагает, по его мнению, блестящей игры автономной культуры в смене различных научных методов, художественных школ, философских систем, в борьбе сословных и частнособственнических интересов и т. д. Но она глубока, ибо предполагает духовное преображение человека, способного направить свои усилия не на украшение по видимости живых, а по сути скрыто-враждебных (и потому бессмысленных) экономико-юридических и рационально-политических отношений между людьми, а на подлинное единение с другими поверх писаных кодексов, теоретических программ, социальных барьеров, индивидуалистических пристрастий.
Киреевский, как видим, весьма и весьма далеко ушел теперь от выраженного в «Девятнадцатом веке» и сходного с чаадаевским положительного понимания просвещения «как мысли, как науки», созидающей успехи общечеловеческой цивилизации и обеспечивающей «прогрессию человеческого ума».
Не давая действенных ответов на поставленные вопросы о современном использовании «старого» и «нового» в России и в Европе, он ограничивался призывом к лучшему пониманию живительного духа национального прошлого, вообще к большему вниманию к истории, без чего нельзя уяснить до конца текущей действительности, к человеческой личности, обладающей не только разумом, но и иными мощными силами, способными созидать и разрушать.
Хомяков и Киреевский осуществляли свои исследования в структурном единстве с историософскими мыслями Чаадаева и словно выворачивали их наизнанку, заостряя противоположные акценты.
«Принимая все без разбора, – писал Хомяков, – добродушно признавая просвещением всякое явление Западного мира, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть и в полусомнении спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? Все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли».
Оба мыслителя уверяют, что они не противники западного просвещения, которое они изучали с любовью и многочисленными плодами которого сами пользуются на каждом шагу. «…Все прекрасное, благородное, христианское по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское, – замечает Киреевский. – Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинного где бы то ни было».
Славянофилы много размышляли об особенностях усвоения плодов европейского просвещения на русской почве. Инстинктом прирожденного реформатора Петр I, по их мнению, чувствовал, что добиться успехов во внешнем прогрессе и могуществе можно, лишь переключив сознание с культа на культуру и рассредоточив его в разных сферах мысли и жизнеустроения. Потому таким нацеленным оказался удар по культу, по традициям и обычаям, и происходила их замена принципиально новыми предписаниями, законами, установлениями, учреждениями.
При этом, полагали Хомяков и Киреевский, происходят определенные эксцессы юношеского увлечения, когда, например, более культурный, нежели метафизический, французский язык заменяет русский, бездумно осваиваются деизм, вольтерьянство, масонство, политический радикализм и другие модные идеи с иностранной этикеткой, а желанными наставниками и учителями становятся французские лакеи, парикмахеры и дворники.
Это, по мнению славянофилов, усиливало разрыв между самобытной жизнью и заимствованным просвещением, увеличивало существовавшее отделение высших слоев общества от народа, приводило к забвению духовной сущности родной земли и ее истории. Редкая семья, замечает Хомяков, располагает какими-то знаниями о своем прапрадеде, думая, что «он был чем-то вроде дикаря в глазах своих образованных правнуков». Собственные же традиции, нравственные уроки и исторические противоречия забывались настолько, что их приходилось потом открывать, как Колумбу Америку. Именно так воспринималась, как известно, карамзинская «История государства Российского».
Именно такую работу осуществляли и. славянофнлы, с которых, по словам Герцена, начинается «перелом русской мысли». В сороковые годы стала особенно осознаваться переходность времени. В спорах славянофилов и западников с небывалой доселе теоретической резкостью ставились вопросы выбора дальнейшего пути «старой» России, глубоко охваченной «новыми» стихиями европейских начал. «Мы (со славянофилами) разно поняли вопрос о современности, – замечал Герцен, – мы разного ждем, желаем… Им нужно былое, предание, прошедшее – нам хочется оторвать от него Россию».
И Хомяков и Киреевский призывали не к оживлению старины как таковой, в которой они видели свои отрицательные стороны и противоречия, а к сохранению корней и духа, сдерживавших напор дурного и оставлявших все доброе в тяжелейших испытаниях России, а также способных, по их представлению, обнять своего полнотою и придать цельность лучшим достижениям европейского просвещения. Речь шла именно о полноте нравственного закона (а не ущербности его исторического выражения), который следует принять за высокую норму человеческого развития.








