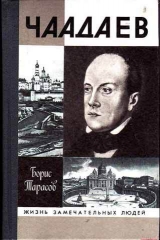
Текст книги "Чаадаев"
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
5
Однако без более или менее последовательного изучения подобных следов чтения невозможно вообще понять и духовно-психологическое развитие Чаадаева, и переоценку усвоенных им ранее ценностей, и кристаллизацию его философского миросозерцания в сельском одиночестве. Уже в течение нескольких лет в его душе происходила основательная и незаметная для окружающих перестройка, порожденная, как известно, открывшейся перед ним смысловой пропастью между конечностью (смертностью) его отдельного существования и бесконечностью (вечностью) бытия. Чтобы преодолеть эту пропасть, он стал, по собственному выражению, «искать религию», о чем свидетельствуют и формирование новой библиотеки, и замечания в письмах к брату о природном величии, и своеобразие проявленных интересов во время европейского путешествия, и, наконец, «озарившая» его встреча с Куком, ускорившая решительный выбор. Однако, несмотря на подспудно расширявшийся и целеустремленно накапливавшийся религиозный опыт, зияющая пропасть заполнялась с трудом, что и создавало у него внутреннее напряжение, болезненное состояние, беспросветный меланхолический настрой.
Петр Яковлевич чувствует, что отрава, беспрестанно подмешивающаяся в его существование, заключается во «внутренней силе», в свободной воле, ощущение которой отделяет его от целого, неумолимо влечет любить самого себя, свое отличие и обособленность от других людей. И развитие личного начала, «жизни в себе», показывает ему, что его свободная воля оказывается на поверку прикованной к «земному интересу».
Вот он стремился когда-то к благополучию и счастью, к почестям и славе, и, наверное, хорошо, что не добился их. Ведь даже обыкновенное повышение по службе, вспоминает отставной ротмистр, почему-то возвышало его в собственных глазах, и он вдруг казался себе еще умнее, чем прежде, и вместе с тем делался еще более нечувствительным к происходящему рядом с ним. Если и соболезновал чужому горю, то как-то отчужденно, совсем не ощущая его в себе, сострадание же к ближним иной раз походило на презрение к ним. Когда же ранее не замечаемые слабости этих самых ближних задевали его самолюбие, он не умел их терпеливо сносить.
Перелистывая сейчас страницы книги «Подражание Иисусу Христу», Петр Яковлевич наткнулся на сделанную еще за границей запись на полях, лишний раз напоминавшую ему о том, что он, говоря словами Пушкина, лишь для себя хочет воли: «Брат, бедный брат!» Испытывая сложное чувство жалости к Михаилу и вины перед ним, он написал тогда грустные слова рядом с подчеркнутыми в тексте и относимыми к себе: «Мы крайне чувствительны к страданиям, причиняемым другими, и не замечаем, как другие страдают от нас».
Выделяя задевшую внимание фразу, Чаадаев подумал, что одна из главных причин такой несправедливости в его отношении к людям заключается в стремлении постоянно находиться в счастливом покое, доставлявшемся ему недавно блестящей карьерой, видным положением в обществе и лестными репутациями. Теперь он видит признаки явной глупости в этом «безумном самодовольстве» и «еще более безумном равнодушии ко всему окружающему», которое находит, пусть и совсем на другой лад выраженное, и в проповедях перечитываемых им в долгие осенние вечера античных философов. Несколько же лет назад он сам постоянно искал подобного состояния, поскольку ощущения от успехов быстро проходили, что вносило в душу Петра Яковлевича сильное раздражение, рождая в ней помыслы о новых достижениях. Но и их осуществление, происходило ли оно в «карьерной», «светской» или «идейной» форме, лишь на время успокаивало непрерывно возбуждавшееся тщеславие, искавшее утешения, когда оно лишалось настоящей питательной среды, в самых незначительных предметах – в старинной мебели, элегантной одежде, изысканных безделушках, в малейших знаках внимания, особенно для него важных, со стороны окружающих.
Разворачивая перед своим умственным взором духовную картину прожитых лет, Чаадаев обнаруживает, как часто случалось ему чрезмерно заботиться о мнении других людей, невольно цепляться за пустые привязанности, от чего зависело его душевное равновесие. Для благоприятных же отзывов со стороны окружающих необходимо было отчасти жить воображаемой жизнью в их глазах и неосознанно приукрашивать свое подлинное существо, что все вместе искажало его отношения с ними. Он кажется сейчас самому себе каким-то актером на светской сцене, играющим чужую роль и испытывающим огромное нервное напряжение для имитации естественности создаваемого образа. Подобное напряжение, замечает автор «Искусства долгой жизни», не только вызывает нарушения в пищеварении и кровообращении, но и сокращает жизнь.
Петр Яковлевич видит и другие, принципиальные для него последствия. В таком состоянии, размышляет он, сознание как бы «сокращает» всякое явление действительности за счет проекции на него своих индивидуальных особенностей и потребностей, поиска в нем собственных отражений и тем самым искажает его подлинность. Причем ненасытный молох самолюбия, словно вампир, питающийся чужими жизнями, неизбежно требует умаления и обесценивания всего окружающего, ибо без соответствующего приниженного фона незаметны его отличительные и выделяющие черты.
Но это, так сказать, пределы. В реальной же действительности, размышляет Петр Яковлевич, он старался распространять «сокровища гражданственности», сеять мысли об освобождении крестьян от крепостного права и заботиться о благе всего человечества. Но теперь он понимает, что в основе его благих устремлений лежала скрытая эгоистическая выгода усиленного самосохранения, любовь к людям «в своем интересе», а не в их. «Что бы мы ни делали, – обобщает он чуть позднее, – какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя; в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое».
Вот и его незабвенные друзья декабристы, думает Чаадаев, подставили, не сознавая того, «нечто свое» в страстную проповедь свободы. Ну а дальше-то, дальше, восклицает он мысленно, что стали бы с ней делать эти благородные страдальцы, если бы получили возможность «раздать» ее людям? Не пошли бы «свободные люди» дорогой «дикого осленка», подчиняющегося любому прихотливому желанию для своего «счастья», или путем уклонившегося от правильного движения атома, принимающего возможность такого уклонения за самую правильность, за последнюю стадию прогресса? «Предположим, – станет он рассуждать в философических письмах, – что одна-единственная молекула один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечном пространстве? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз мы потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, – зачем наделил он их этой страшной силой?»
Страдая в поисках ответов на подобные вопросы, Чаадаев воображает себя одним из таких блуждающих атомов, участвующим вместе с мириадами и мириадами других в «раздергивании» Вселенной на части. Когда он в очередной раз углубляется в испещренное карандашом Священное писание, то почти физически слышит описанный в Апокалипсисе «треск мироздания», раздающийся, как ему кажется, в каждую минуту истории и увлекающий в пропасть взбунтовавшиеся своевольные и «счастливые» атомы.
Да, смерть и небытие на конце того пути, по которому он так уверенно шел и по которому продолжают «победно» идти тысячи людей, увлекая за собой другие тысячи. Но почему он так боится смерти? Ведь он еще в юности видел, проливающуюся кровь и не терял бодрости духа. Читая в книге Дроза «Искусство быть счастливым» о человеке, одолевшем благодаря мужеству гибельную ситуацию, Петр Яковлевич вспомнил похожий случай из собственной жизни, поставил на полях специальный знак и дату 1812. Да, в те военные годы, отодвинувшиеся теперь так далеко, будто и вовсе не существовали, он был мужественным, а потом вдруг появился страх, даже ужас перед последним выпадением своего родного и неповторимого «я» из потока жизни в какую-то бездонную пропасть. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! – писал восемнадцатилетний Лермонтов М. А. Лопухиной. – При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи».
Испытывая подобные чувства, Чаадаев одновременно спрашивал себя: постигает ли он причину своего ужаса перед смертью? Вот Марк Аврелий советует спокойно ожидать конца и думать о нем как о простом распаде элементов тела, без боли переходящих друг в друга. А ему, подчеркивающему в книге античного философа рассуждения о самоубийстве, невыносима мысль (почему-то еще более страшная, чем исчезновение, «я») о длительных физических, страданиях и о медленном разложении тела, лишенного привычных элегантных покровов, на которое будут смотреть некогда восхищавшиеся им люди (именно мгновенность агонии, всплывает вдруг в памяти Петра Яковлевича, манила его броситься в пропасть со швейцарской скалы). Однако он не знает, какая смерть и какие страдания ожидают его в будущем, а сам факт уничтожения волнует его менее. Тогда в чем же более существенная причина страха? Не в том ли, предполагает он, что смерть есть лишь момент в целостном бытии человека, когда тот перестает ощущать себя в своем теле и начинает жить другой, новой жизнью, неизвестность которой и страшит его?
И не мертвы ли мы тогда, переключается мысль Чаадаева на более понятные вопросы, когда считаем, что живем? Часто по утрам, пробуждаясь и глядя по привычке в заиндевевшее окно на уже засыпанные снегом соломенные крыши, он думал, что сон не подобие смерти, а настоящая смерть, ибо нельзя назвать жизнью часы, проведенные без сознания. И не спят ли люди, а стало быть и мертвы, не гиперболически-фигурально, а буквально мертвы, когда отдаются течению обстоятельств, а не созидают их каждое мгновение по законам высшего знания? И сам он долго спал, и жизнь постоянно ускользала от него, пока наконец он не пробудился. «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся», – подчеркивает Петр Яковлевич евангельские слова.
6
Однако это пробуждение причиняло острую боль от сознания огромной «внутренней силы», пошедшей по узкому кругу жалкой «жизни в себе». Но именно отчаяние и тоска, которые, как он недавно прочитал, Ламенне называет «особым видом идиотизма», породили в Чаадаеве острое ощущение ничтожества мнящего себя богом независимого и «пагубного я», не только безумно движущегося к небытию, но и на мир смотрящего сквозь призму своего «злого разума». А предельность этого ощущения вдруг неожиданно заставила его почувствовать над собой какую-то «внешнюю силу», требующую «блуждающий» атом подчиниться «всеобщему распорядку» и двигаться по своему радиусу к центру системы. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», – день и ночь звучал в его ушах глас этой силы, говорившей, что не может быть богом конечное и уничтожимое существо. Поначалу ум Петра Яковлевича не принимал и даже сопротивлялся воздействию этой силы, но непривычные душевные движения, никак не связанные со всем его прошлым опытом, властно напоминали ему, задыхающемуся в чисто человеческих пределах, о ней. Он вдруг чувствовал себя лишенньщ «нам принадлежащей силы», и тогда в его сознание вторгалось «внеземное озарение, которое опрокидывает целиком ваше существование и ставит выше вас самих и всего, что вас окружает», но вместе с тем укрепляет потребность «подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний».
Самой настойчивой и покоряющей среди новых истин, пробужденных ощущений и внушенных чувств была для Чаадаева мысль о беспредельном всемогуществе бога, являющегося для него теперь единственно абсолютной и благой реальностью. В черновых записях он замечает, что все его существо восстает против идеи вменить этому всемогуществу какое-либо несовершенство. Ужас же перед таким возможным ограничением он называет путеводной звездой своей философской деятельности.
Теперь вопросы о том, почему всевышний терпит человеческую свободу и не сметет с лица земли «мир возмутившихся тварей», кажутся ему нелепыми, ибо их ставит «искусственный разум», ищущий везде стесняющей логической закругленности и требующий у всеустрояющей и непостижимой божьей воли отчета в ее «непоследовательности». Но почему бог должен соответствовать меркам нашей слабой разумной способности, рассуждает Петр Яковлевич, мучаясь особенно больным для него вопросом о попустительстве творца в выборе человеком зла? В том-то и дело, набрасывает он в записной книжке, что «великий закон противоречия» растворяется в божественном всемогуществе, «невозможное человеком возможно Богу». Бог «так восхотел» – этот ответ сейчас вполне удовлетворяет Чаадаева.
И для него теперь нет задачи главнее (ее на полях читаемых книг он нередко обозначает восклицанием – О altitudo![17]17
О высота! (итал.).
[Закрыть]), как проникнуться расширяющим границы мышления и очищающим душу «созерцанием божественной воли, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям». А для этого, считает Петр Яковлевич, необходимо повернуться на 180 градусов – полностью освободиться из плена эгоцентрической свободы и автономного самосознания, признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона от общего закона мирового. Тогда, «потерявшись» и «слившись» с «верховной волей», вместо обособленного индивидуалистического сознания человек может усвоить всеобщее и почувствовать себя частью «великого духовного целого». И Чаадаев не устает повторять помеченные особым знаком слова Иисуса Христа («…не чего Я хочу, а чего Ты») и его молитвы («да будет воля Твоя и на земле, как на небе»). Не моя, а твоя, твоя, твоя, твердит он над слабо освещенным догорающей свечой Евангелием, между тем как тетка Анна Михайловна давно уже спит под завывание зимнего ветра в соседней комнате. В одну из таких минут, когда ему кажется, что заветная твердыня вот-вот будет обретена, он записывает на полях сочинения англичанина Доддриджа «Возвышение и развитие в душе религиозных чувств»: «Да, Боже мой, я вошел в себя, заглянул в сокровенную глубину своего сердца и увидел, что хочу покоя лишь для Тебя… дай мне этот покой».
Но желанный покой не приходил. Чаадаев вспоминает, как три года назад спрашивал брата о его духовном самочувствии и взаимоотношениях в Хрипунове с окружающими и писал ему из Парижа: «Лето, полагаю, провел ты довольно весело, в полях и лесах, но как сладил ты с зимою? В твоем покое, чай, стужа страшная, ветер дует и бегают тараканы… Тетушка думала, что тебя замучают дела крестьянские, а брат Якушкин полагал, что ты там с ума сойдешь от скуки, или женишься, или по крайней мере повесишься». Но Михаил был скуп в ответах на эти вопросы и не писал о подробностях сельской жизни. Может быть, расскажет, когда приедет в Алексеевское, куда, как сообщил недавно, собирается вскоре направиться? Петр же испытывает сейчас на себе трудности бескомфортного деревенского житья: его особенно донимают не столько ветер, стужа и тараканы, сколько скребущие в стенах и шуршащие по углам крысы и мыши. Да и иронически перечисленные тогда варианты жизнеустройства отчасти наполняются для него серьезным содержанием (кроме замученности крестьянскими делами и женитьбы). А главное – он не ладит с самим собой и, соответственно, с ближними.
Чаадаев сильно терзается от того, что хорошо понимает высоту и справедливость евангельских требований, однако не исполняет их, думает одно, а поступает по-другому, ненавидит крепостное право и не перестает пользоваться его плодами. Ведь он, например, не только не способен раздать свое имение нищим, с горечью признается себе Петр Яковлевич, но ему, как помнится, и в юности, все так же не хватает «покоев с меблями», необходимы слуги, нужны деньги. Именно поэтому его притягивают компромиссные и казуистические наставления Сенеки, отмеченные специальным знаком: мудрец не любит богатства, а предпочитает его, открывает ему не сердце, а дом, умеренно пользуется им, а не отбрасывает. Да и как же иначе, решает Чаадаев, когда опять долги, непрерывные долги незримо преследуют его через сотни заснеженных верст и здесь.
Настало время выплачивать братьям Тургеневым занятую у них еще за границей сумму, а где ее взять? И Петр Яковлевич объясняет губернскому прокурору в Москве С. П. Жихареву, бывшему члену «Арзамаса» и будущему автору известных «Записок современника», который по дружбе вел (не всегда порядочно) денежные дела чаадаевских приятелей: «Поверяюсь пред вами, почтеннейший друг, как виновный. Я писал вам, что в генваре пришлю деньги Тургеневых, надеясь к тому времени успеть заложить имение за уплату всех своих долгов. Против моего чаяния случилось затруднение; дело это как-то затянулось, может быть продлится с полгода. И так, к сожалению, принужден воспользоваться милостивым позволением наших друзей и вашим, просить вас позволить мне написать вексель…» Чтобы дело с долгами хоть как-то двигалось, Чаадаев вскоре снова обращается к Жихареву: «Комиссионер мой вручит вам, почтеннейший Степан Петрович, 400 рублей ассигнациями. Это проценты за прошлый год. Прошу вас принять эти деньги и прислать мне вексель на год, – и то и другое, разумеется, почту за великое одолжение. А друзьям нашим потрудитесь написать, что по дружбе нашей требую от них, именно требую, чтобы не отказались от этих денег». Но Петр Яковлевич должен не только своим приятелям-братьям, а потому ему приходится занять в Опекунском совете 61 тысячу рублей.
В посланиях к Жихареву зимой и весной 1827 года он интересуется сроками пребывания в Дрездене Сергея и Александра Тургеневых, говорит о своем желании поехать к ним, радуется появлению печатаемых Вяземским в «Московском телеграфе» путевых заметок Александра. Однако просит передать извинения, что не может написать братьям «от избытка вещей, которые хотел бы им сказать и нужно бы было им сказать, не знаю с чего начать».
Избыток самых разных и противоречивых «вещей» не только мешает Чаадаеву взяться за послание к друзьям, но и вносит в его душу сначала какое-то непонятное, а потом привычное чувство, порожденное чтением книг. «Доказательством неизбежной связи мыслей, – замечает он на втором томе «Опыта об индифферентизме» Ламенне, – являются странные совпадения. Иногда умы, исходившие из того же принципа, как и Вы, встречаются с Вами в своих заключениях». Самое же странное в таких совпадениях было то, что он начинал ощущать бóльшую интимную родственность с авторами рассуждений и сочинений, созвучных его мыслям, нежели с ближайшими людьми. Подтверждением обнаруженного господства идейных уз над кровными служит для него беспрестанно возникающий в сознании образ английского миссионера Кука: «С этим человеком провел я несколько часов, скоро протекших, почти мгновение, и с тех пор не имел о нем никакого известия. И что же? – теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сардечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. – Вот общество приличное существам разумным! Вот как души действуют взаимно одна на другую: им ни время, ни пространство препоною быть не может».
В пространстве же и во времени наблюдается несколько иная – «неразумная» картина. Петр Яковлевич сердится, когда тетка с утра начинает материнскую опеку и житейскими мелочами на целый день выбивает его из рабочей колеи. А приехавший брат, даже когда отлучается ненадолго в Дмитров, кажется, сидит перед носом и не позволяет сосредоточиться на заветных мыслях.
Известие о восстании декабристов застало Михаила Чаадаева в Москве. Из рассказов, источник которых не установлен, известно, что его камердинер Захар успел вовремя уничтожать какие-то компрометировавшие хозяина бумаги. И в благодарность за это, по слухам, Михаил женился потом на дочери своего слуги Ольге. Старожилы Ардатовского уезда рассказывали также, что, когда вскоре хрипуновский помещик приехал в свое имение, к нему тотчас же явился местный дьякон и обвинил его в принадлежности к тайному обществу. Из беседы помещика со служителем церкви выяснилось, что последний имел смутное представление о восстании 14 декабря. Тогда Михаил написал о нем нижегородскому губернатору, и дьякона почему-то взяли под негласный надзор.
Однако ни старания камердинера, ни волнения дьякона не соответствовали тогдашнему уморасположению Михаила Яковлевича, постепенно терявшего связи с товарищами по военной службе и общественной жизни. «Вышед в отставку уже около восьми лет, – отвечал он одному из знакомых, попросившему рекомендацию для своих воспитанников в какой-нибудь полк, – я очень мало сохранил связей с людьми, знакомыми мне в службе… Я их по нескольку лет не видал и не переписываюсь с ними… Они бывали хорошими мне приятелями, но в шесть или семь лет обстоятельства и образ жизни у людей переменяются, почему я и не могу за них ручаться, что обходиться будут с молодыми людьми, вступающими в службу, так, как требует долг человечества и нравственности, и не один только долг службы».
Свойственное декабристам человеколюбие, внутреннее благородство и нравственная чистота причудливо соединялись в характере Михаила Чаадаева со все более усиливавшейся боязнью людей (особенно, по свидетельству Якушкина, женщин), невозможностью найти практическое применение собственным силам. Он уже оставил свой замысел одарить людей системой «нового мира»9 Петра же, напротив, этот замысел все сильнее манил к себе, и они не находили общего языка. Лишь достаточно далекие воспоминания и горечь утраты старых товарищей прокладывали мостик взаимного понимания между ними. Михаил передал брату «рассказ самовидца», где сообщается о трагической «жеребьевке»: «Преступники на досуге, сорвав травки, бросали жребий, кому за кем идти на казнь, и досталось первому – Пестелю, за ним – Муравьеву, а далее – Бестужеву-Рюмину, Рылееву и Каховскому».
Однако в сознании Петра Яковлевича воспоминания юности и молодости постоянно вытеснялись недавними впечатлениями, в которые брат не мог или не хотел вникать, а сострадательное чувство смешивалось с острым переживанием собственной духовной неустроенности, которым он теперь не собирался особенно делиться с Михаилом, хотя в письмах из-за границы обещал подробно рассказать ему о своих внутренних переменах. Когда же последний пытался давать какие-то советы и упрекать Петра в беспечном отношении к денежным делам, тем овладевали приступы гнева. «Хотите ли Вы знать, – записывает он в книге Сенеки, – что такое порывы нетерпения, которые считают такими простительными, – Представьте себе целый ряд таких порывов, и Вы поймете, что это такое». И хотя он хорошо представляет, какая бездна открывается на конце этого ряда, и раскаивается в своих «порывах», ему трудно вообразить сейчас, что он мог за границей строить планы о совместной жизни в деревне с теткой и братом, которые иной раз представляются словно живым препятствием на его трудном пути от «счастья» к «совершенству». В сочинении Сенеки он дважды подчеркивает слова о рабах и родственниках, уводящих с прямой дороги искателя подлинной мудрости.
В минуты особенной раздражительности и угнетенности духа Чаадаев подумывает покинуть Алексеевское, Но где жить? Из сохранившихся друзей интимно и «идейно» понять его надлежащим образом мог только Д. А. Облеухов, с которым он часто встречался, наезжая в Москву, после выхода в отставку до отъезда в Европу. Петр Яковлевич оказался тогда свидетелем неполного «обращения» в христианство своего товарища, в чьей душе радость и покой чередовались с печальи и даже отчаянием. Что же теперь происходит с ним, спрашивал себя деревенский отшельник, преодолел ли он кризис, и если да, то как? И нельзя ли побыть у него какое-то время?
Через несколько месяцев по возвращении на родину Чаадаев пишет Облеухову в Калужскую губернию (там находилось родовое имение его жены) и незамедлительно получает ответ, начинающийся такими словами: «Я на днях получил ваше любезное письмо и снова почувствовал великую радость, узнав ваш почерк. Еще большую радость доставило мне ваше признание в том, что вы еще храните по отношению ко мне чувства дружбы. Им я обязан немногими счастливыми моментами первой эпохи своего существования. А сейчас они многое добавляют к моему счастью, так как я действительно счастлив, несмотря на иной раз достаточно тяжелые страдания, вызванные расстройством здоровья…»
Облеухов не раскрывает слагаемые своего счастья (немалую роль играли в нем налаженная семейная жизнь и ожидаемое рождение ребенка) и сразу же переходит к выражению глубокого сожаления о невозможности поселить старого друга в холодном деревенском доме, где протапливаются зимой только две комнаты. Он предпочел бы отказаться от радости желанного свидания, нежели лишить Петра Яковлевича привычного с детства комфорта и необходимых для его хрупкого здоровья удобств. Но весной Чаадаев может располагать двумя большими комнатами, пока заколоченными с осени, и тогда ничто не омрачит их дружескую встречу.
Однако встреча под Калугой так и не состоялась. К весне и лету настроение Петра Яковлевича несколько улучшилось, завязались относительно теплые отношения с владельцами соседних имений, продолжалась напряженная внутренняя работа. «Обстоятельства никак не дают мне и на самое короткое время выехать из своей пустыни», – замечает он в послании к С. П. Жихареву. Отложил он визит и к вернувшемуся в Москву Облеухову, предлагавшему ему летом две комнаты в своем доме на Тверском бульваре, хотя испытывал сильное желание узнать, что тот понимает под «высокой метафизикой». В августовском письме 1827 года Облеухов напомнил, что еще с их разлуки в 1812 году хранит листок из альбома Чаадаева, где последний просил изложить наиболее ясно принципы дифференциального исчисления. Но он уже давно оставил математику, а листок по-прежнему чист. Не хотел ли бы Петр Яковлевич, чтобы он начертал на нем нечто из высшей метафизики, являющейся в философии аналогом дифференциального исчисления в области математики?
Неизвестно, чем заполнился альбомный листок. Беседа двух друзей состоялась осенью в Москве. В ней Чаадаев мог узнать о духовных метаморфозах энциклопедически образованного математика за истекшие с последнего свидания четыре года. Когда они в тот раз расставались, Петр Яковлевич подарил ему несколько книг немецкого мистика Юнга-Штиллинга, явившегося, по собственному признанию Облеухова, «наиболее действительным орудием, которым Богу благоугодно было воспользоваться для моего спасения». Наиболее интересные и важные для себя рассуждения последний переносит в специальный дневник, где преобладает стремление «согласовать разум с откровенными истинами» в подробном описании посмертных «приключений души», пребывающей в зависимости от привязанности к земным страстям либо при своем теле во гробе, либо в туманной оболочке вокруг земли, либо в чистых областях света и испытывающей соответственно месту разную степень страдания и блаженства.
Вскоре после первого свидания Петр Яковлевич получил от своего постоянно болевшего университетского приятеля последнюю записку: «Любезный друг, я уже четвертый день слег в постель и очень бы желал Вас видеть; если можно, посетите меня…»
Консилиум врачей на сей раз признал положение больного безнадежным, и он хотел проститься с другом и, видимо, передал ему свой «мистический дневник» (до графологической экспертизы Д. И. Шаховского приписываемый исследователями архива Чаадаева автору «Философических писем»). Однако, как увидим дальше, основная тональность творчества Петра Яковлевича была противоположна умонастроению Облеухова, чья метафизика казалась первому слишком «высокой». Идя вместе до определенного момента, они резко расходились в стороны, и образ мысли друга послужит Чаадаеву своеобразным отрицательным фоном для развития собственной идейной логики.
Смерть Облеухова в декабре 1827 года и кончина шестью месяцами ранее Сергея Тургенева, за которым Петр Яковлевич ухаживал в Дрездене, усилили тоску в его душе. Вместе с тем после годичного пребывания в Алексеевском Чаадаев почти переселился в Москву и часто бывал вместе с братом в семье другого университетского приятеля, сосланного декабриста Якушкина. «К грустным, тяжелым воспоминаниям о самых близких людях, в нем (восстании 14 декабря. – Б. Т.) безвозвратно погибших, – пишет М. И. Жихарев об угнетающих Чаадаева впечатлениях, – присоединилось еще печальное, унылое зрелище их осиротелых и огорченных семейств».
Михаил Чаадаев вместе с женой Ивана Дмитриевича Анастасией Васильевной и ее малолетними детьми в напрасном ожидании провел почти месяц в Ярославле, куда должны были этапировать ссыльного. Много лет спустя Якушкин с теплым чувством вспоминал об этом, как он выражался, «прекрасном подвиге» друга, с родственной теплотой заботившегося о его семье. Когда наконец Анастасия Васильевна после третьего приезда в Ярославль осенью 1827 года повидалась с мужем, в первые по возвращении дни все ее помыслы были направлены на то, чтобы любыми путями разделить суровую участь Ивана Дмитриевича. Ее душили слезы, сердце разрывалось от отчаяния, и в таком состоянии понимающим помощником оказался Михаил Яковлевич Чаадаев, на попечении которого она даже собралась было оставить детей и броситься к мужу в Сибирь. «Я люблю говорить о тебе только с Мишелем Ч[аадаевым], – вела она мысленный разговор с Якушкиным на страницах своего дневника, – это единственный человек, который знает тебя так, как тебя нужно знать… он видит тебя таким же, как я вижу тебя, и мне так хорошо от этого, что я не могу сказать тебе…»








